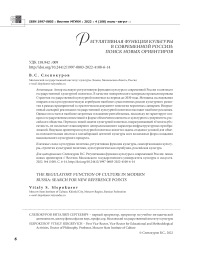Регулятивная функция культуры в современной России: поиск новых ориентиров
Автор: Слепокуров Виталий Сергеевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Регулятивная функция культуры в современной России:
Статья в выпуске: 4 (108), 2022 года.
Бесплатный доступ
Автор исследует регулятивную функцию культуры в современной России в контексте государственной культурной политики. В качестве эмпирического материала проанализирована Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Методика исследования опирается на культурологическую атрибуцию наиболее существенных рисков культурного развития в рамках предпринятой в стратегическом документе типологии вероятных сценариев. Инерционный сценарий реализации государственной культурной политики выглядит наиболее реальным. Однако он остается наиболее затратным и наименее рентабельным, поскольку не гарантирует возврата государственных инвестиций в форме обеспечения единства и культурного суверенитета российского общества. Переход к новой модели культурной политики, подразумевающей её многосубъектность, не исключает планомерного централизованного характера инфраструктурных преобразований. Ведущим ориентиром культурной политики является задача создания условий для обмена положительным опытом и коллабораций деятелей культуры всех возможных форм созидания национального культурного продукта.
Культурная политика, регулятивная функция культуры, самоорганизация культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/144162586
IDR: 144162586 | УДК: 158.942 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-4108-6-14
Текст научной статьи Регулятивная функция культуры в современной России: поиск новых ориентиров
Современная ситуация характеризуется турбулентностью процессов во многих сферах жизнедеятельности общества: ростом неопределенности, усилением рисков и угроз [8]. Теоретики как в России, так и за рубежом обращают внимание на ускорение течения социального времени, обуславливающее усиление неопределенности [10; 16; 17]. В связи с чем поиск новых точек опоры и ориентиров, позволяющих с уверенностью смотреть в будущее, планировать и осуществлять деятельность, требующую коллективных усилий, актуализируется как важнейшая управленческая задача. Обостряется необходимость целерационального использования одной из фундаментальных функций культуры – способности посредством нормативных систем регулировать общественные отношения, долгосрочно предопределять тенденции общественного развития.
Рассмотрим регулятивную функцию культуры в современной России в контексте государственной культурной политики.
Объект нашего внимания, государственная культурная политика1, является одним
1 Основы государственной культурной политики, Стратегия государственной культурной политики России на период до 2030 г., государственные программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013– из элементов нормативной системы современной российской культуры. Особая специфика документов государственного стратегического планирования состоит в определении общих целей и задач. Фундаментальная цель – преодоление общих угроз – диктует наиболее актуальные задачи, решение которых нормирует взаимоотношения субъектов культурной политики. Успешность государственной политики определяет не масштаб отдельного её субъекта, а консолидация субъектов различного уровня и масштаба,– синергетика общих усилий. Так устанавливается наивысшая ценность стратегического документа, его нормирующая, регулятивная функция: он устанавливает ориентиры достижения наибольшего синергетического эффекта в развитии общественных отношений. В ус-
2020 годы, «Информационное общество (2011–2020 годы)», «Внешнеполитическая деятельность», «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы, «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции развития циркового дела в Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы, Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года и др.
ловиях усиления турбулентности социальных процессов и асинхронии течения социального времени нацеленность каждого субъекта культурной деятельности на решение общих злободневных задач является единственно возможной стратегией преодоления кризиса атомизации общества.
Необходимо рассмотреть, каким образом регулятивная функция культуры в современной России снижает обозначенные риски. К примеру, как один из значительных рисков, связанных с тенденцией нарастания гуманитарного кризиса, в Стратегии обозначена «атомизация общества», означающая риск разрыва устойчивых «социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма и пренебрежения к правам других». В этом смысле стратегический документ в плане описания основной функции культуры в полной мере согласуется с передовыми позициями деятельностного, системного и ценностнонормативного подходов отечественной теории культуры [7; 9; 14]. Поэтому Стратегию государственной культурной политики России на период до 2030 года [11] рассмотрим в качестве основного эмпирического документа, позволяющего определить основные точки опоры и ориентиры культурного развития российского общества на текущий момент.
Методика исследования опирается на культурологическую атрибуцию наиболее существенных перспективных рисков культурного развития в рамках предпринятой в Стратегии типологии вероятных сценариев. Поскольку этот исключительно культурологический метод остается не в достаточной степени отрефлексированным, отметим, что его выделяет в рамках культурологической типологизации А. Я. Флиер [12; 13] и развивает Г. В. Бакуменко [1; 2; 3]. А. Я. Флиер в целом выделяет культурологическую («культурную») атрибуцию – как метод фиксации распределенности свойств культурной системы на составляющих её элементах. Г. В. Бакуменко разграничивает, с одной стороны, повседневную культурную атрибуцию – как практику доопытного отбора инструментов деятельности по распределенности в их совокупности необходимых для деятельности свойств и, с другой стороны, культурологическую – как теоретический, метатеоретический и междисциплинарный метод, преимущества которого раскрываются в установлении неочевидных культурных порядков.
Безусловно, общепризнанные статистические методы обработки данных, лежащие в основе Стратегии государственной культурной политики России, позволяют точнее представить текущую ситуацию и прогнозировать развитие перспективных тенденций. Между тем культурологическая атрибуция позволяет устанавливать неочевидные связи элементов культурной системы, а следовательно, (хоть и менее точно, т. е. в общих чертах) интерпретировать причинно-следственную логику происходящих изменений.
Так, к примеру, в теории и практике управления качеством распространен прием предварительного анализа системы управления организации для определения критических точек несоответствия её деятельности стратегическим целям, предшествующий детальному погружению в проблему, а также – дальнейшему организационному аудиту и реинжинирингу. Сошлемся на высказанную Г. В. Бакуменко мысль: «От культурологической атрибуции происходящих в современных культурах изменений на различных уровнях (индивидуальный, организационный, институциональный, национальный, межнациональный) и в различных сферах деятельности зависит скорость социокультурного развития общества: с одной сторо-ны,– скорость его адаптации к изменениям, а с другой – способность, сохраняя и усиливая свою системную сложность, созидать новое и обуславливать посредством инноваций процессы, поддающиеся контролю и управлению» [1, с. 57]. И выскажем вполне обоснованное предположение, что культурологическая атрибуция позволяет более оперативно реагировать на происходящие изменения, определяя критические точки развития, требующие дальнейшего детального анализа. Особенно очевидно обозначенное преимущество нового метода в непосредственно оперативной работе отдельного субъекта культурной деятельности, когда исчерпывающая необходимая статистика еще не собрана, а принятие оперативных решений требует научно-методических оснований. Представляется, что в условиях усиления турбулентности социокультурных процессов это преимущество культурологической атрибуции происходящих изменений – оперативность реагирования – весьма существенно.
Необходимо отметить, что Стратегия государственной культурной политики России до 2030 года (далее – Стратегия) опирается на потенциал регулятивной функции культуры в плане формирования и укрепления гражданской идентичности, обеспечения единства российской нации, сохранения единства культурного и языкового пространства народов Российской Федерации. В документе культура понимается не как отрасль услуг, а как область общих интересов, обеспечивающих системную целостность общества. Соответственно, она оказывается непосредственно связана с государственным суверенитетом и способностью общества отстаивать свои коллективные интересы перед лицом перспективных рисков и угроз.
В Стратегии четко обозначены наиболее опасные для перспективного развития России проявления назревающего гуманитарного кризиса (для удобства анализа присвоим им цифровые обозначения):
-
• (1) снижение интеллектуального и культурного уровня общества;
-
• (2) девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров;
-
• (3) рост агрессии и нетерпимости, проявление асоциального поведения;
-
• (4) деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об исторической отсталости Российской Федерации;
-
• (5) атомизация общества – разрыв социальных связей (дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма и пренебрежение к правам других.
Сложность представляет тот факт, что стратегия государственной политики является лишь одним, хоть и существенным, нормирующим фактором социокультурного развития. Остальные регулятивы культурной системы (мораль, традиции, обряды, обычаи, образцы поведения и пр.) могут либо стимулировать реализацию стратегических нормативов, либо, напротив, тормозить процесс достижения поставленных целей вплоть до невозможности решения отдельных запланированных задач в реальной ситуации конкретного региона нашей великой страны. Учитывая многофакторность социокультурного развития, культурные особенности регионов и оставаясь взвешенным документом Стратегия предполагает три сценария перспективного развития: инерционный, инновационный и базовый.
Хотя инерционный сценарий в целом не предполагает существенного ухудшения зафиксированного положения (2014), в регионах и муниципальных образованиях он сопровождается оптимизацией культурных учреждений (в первую очередь в сельской местности), предполагая региональную обеспеченность организациями культуры в соответствии с социальными нормативами лишь на 40 %. При этом «доля региональных объектов культурного наследия, находящихся в руинированном и неудовлетворительном состоянии, будет увеличиваться, региональные диспропорции будут сохранять тенденцию к росту, продолжится отток профессиональных кадров из села и малых городов в центральные регионы» [11, с. 20–21].
Для наглядности результаты культурологической атрибуции наиболее существенных рисков инерционного культурного развития представим в виде таблицы (см. Таблица 1).
Вполне очевидно, что, за исключением естественного физического износа культурной инфраструктуры и объектов культурного
|
Тенденции |
Риски |
|
Сохранение основных тенденций в культурной сфере, проблем и уровня финансирования |
1, 2, 3, 4, 5 |
|
Нехватка средств и механизмов для достижения качественных, количественных и инфраструктурных изменений, предусматриваемых Основами государственной культурной политики |
1, 2, 3, 4, 5 |
|
Сокращение численности занятых в сфере культуры к 2030 г. на 12–15 % |
1, 2, 3, 4, 5 |
|
Физический износ культурной инфраструктуры и объектов культурного наследия, ухудшение состояния объектов культурного наследия вплоть до их невосполнимой утраты |
1, 2, 4 |
|
Оптимизация (сокращение) объектов культурной инфраструктуры |
1, 2, 3, 4, 5 |
|
Отток профессиональных кадров из села и малых городов в центральные регионы |
1, 2, 3, 4, 5 |
Таблица 1. – Культурологическая атрибуция рисков инерционного развития
наследия, все намеченные тенденции провоцируют усиление риска гуманитарного кризиса. Инерционный сценарий предполагает сохранение основных тенденций в культурной сфере относительно проблем и уровня финансирования. В связи с чем встает уместный вопрос: если прежде были созданы предпосылки для усиления наиболее опасных рисков назревающего гуманитарного кризиса, насколько соответствует культурная политика регионов основной задаче государственного стратегического планирования – преодолению общих угроз?
Прокомментируем, к примеру, тенденцию сокращения численности занятых в сфере культуры к 2030 г. на 12–15 %. Без дополнительной информации серьезность риска развития и усиления этой тенденции не очевидна.
Таким образом, пессимистический прогноз снижения занятости россиян в сфере культуры на 12–15 % предполагает значительное усиление к 2030 г. внешней культурной экспансии. Если уже к 2014 г. она представляла собой значительную внешнюю угрозу [11, с. 7], то какова её сила станет при изменении ситуации в худшую сторону? Ведь регулятивная функция культуры не предполагает директивного наращивания культурного производства в сжатые сроки. Этот ресурс накапливается поколениями при условии постоянного сохранения и актуализации имеющегося культурного наследия, а не ухудшении его состояния вплоть до невосполнимой утраты. Проще увеличить производство в сфере ИТ или аэрокосмической отрасли, нежели наверстать упущенное в культуре.
Каковы же могут быть ориентиры для преодоления риска осуществления пессимистических прогнозов?
В положениях Стратегии заложено определяющее базовое отличие современной модели культурной политики от её аналога со- ветского времени. Стратегический документ утверждает многосубъектность современной модели: «В Российской Федерации (в отличие от советской модели культурной политики, в которой государство являлось ключевым и часто единственным субъектом культурной политики) существует закрепленное нормами права многообразие субъектов культурной политики» [11, с. 16]. За счет многосубъектно-сти предполагается значительное увеличение инвестиций в область культуры и усиление в этом направлении государственно-частного партнерства. С одной стороны, предложенная модель соответствует задачам диверсификации рисков и реинжиниринга системы управления, предполагая формирование многоканальной системы финансирования культуры. С другой – она содействует расширению участия населения в культурном производстве. На последнем аспекте следует акцентировать внимание.
Со ссылкой на базовое законодательство, под субъектами государственной культурной политики в Стратегии понимаются не только субъекты Российской Федерации, но и любой деятель культуры, включая меценатов и волонтеров. Базовый и инновационный сценарии реализации Стратегии предполагают значительное увеличение участия россиян в культурном производстве. Особое внимание уделено качеству культурного продукта, который противопоставлен низкопробной продукции массовой культуры потребительского общества. Соответственно, любая культурная деятельность, нацеленная на производство и пропаганду уникального отечественного продукта уровня мировой художественной культуры, наделяет субъекта этой деятельности статусом субъекта государственной культурной политики. Здесь возникает, по меньшей мере, два существенных вопроса, связанных с оценкой качества культурного производства.
Первый вопрос носит организационный характер.
В этом году, как известно, серьезному испытанию подверглась вся отечественная наукоемкая промышленность в силу беспреце- дентных ограничений в индустрии трансфера технологий. И сразу же стала вполне очевидной пагубность ориентации в оценке качества научных исследований на зарубежные институты научно-технической информации. Министерство образования и науки, взаимодействуя с Российской академией наук, предпринимает сегодня шаги по восстановлению отечественной системы контроля качества исследований для обеспечения технологического суверенитета страны.
Ситуация в культуре в этом отношении менее очевидна. Но она в определенной степени гомогенна ситуации с качеством научного знания, которое наряду с другими формами культурных продуктов является неотъемлемой составной частью культурного наследия. Следует обратить внимание на слабость российских общественных институтов оценки качества культурного продукта. Наряду с восстановлением отечественного института качества научных исследований необходимо ставить задачу и о восстановлении или реинжиниринге института обеспечения культурного суверенитета страны.
Из организационного вопроса вырастает и вопрос компетенции подобного института.
Опыт советского времени вакцинировал российскую художественную жизнь прививкой от цензуры, однако не следует предаваться иллюзии о невозможности рецидива. Наблюдая очевидную необходимость института контроля качества культурного продукта, подчеркнем исключительно компетентностную его природу: он может быть организован по типу института публичного научного рецензирования, исключая саму возможность чиновничьего произвола в области социокультурной, просветительской и художественной деятельности. Речь идет о совершенно ином уровне фестивально-выставочного движения, когда высокие достижения деятеля культуры на выставках и фестивалях становятся основанием для оценки качества культурного продукта и принятия управленческих решений, а не наоборот.
Подытоживая, отметим…
Во-первых, хотя инерционный сценарий реализации Стратегии и выглядит наиболее реальным в ситуации усиления неопределенности, он остается наиболее затратным и наименее рентабельным, поскольку не гарантирует возврата государственных инвестиций в форме обеспечения единства и культурного суверенитета российского общества. Реализация инерционного сценария, по существу, означает вложение инвестиций в усиление риска гуманитарного кризиса. Рентабельнее выглядит организация институтов контроля качества региональной культурной политики и усиление постоянно действующего института повышения квалификации работников сферы культуры, которые обеспечивали бы в каждом регионе если не инновационные, то хотя бы базовые показатели культурного развития.
Во-вторых, несмотря на вполне обоснованный переход к новой модели отечественной культурной политики, подразумевающей её многосубъектность, инфраструктурные преобразования могут и должны носить планомерный централизованный характер, исключая произвол и низкий уровень компетенции управления культурой на местах. Расширяя многоканальность в финансировании культуры, следует ставить вопрос о необходимости общественного компетентного института контроля качества культурного продукта, обеспечивавшего бы культурный суверенитет государства и его регионов, а также – эффективность государственных инвестиций в эту область.
Обратим внимание также, что регулятивная функция культуры не реализуется сама по себе. Культура не является запрограммированной машинерией. Она зависит от живого участия человека, от его созидательной творческой деятельности. В современной России остается не в полной мере востребован потенциал инициативной художественной, просветительской и социокультурной деятельности. Наряду с пользующимися господдержкой организациями культуры существуют малые творческие коллективы, театры, частные музеи и галереи. Эти малые коллективы, ориентированные исключительно на энтузиазм и меценатство небольших социальных групп, решают порой задачи культурной политики гораздо эффективнее, нежели обладающие организационными и финансовыми ресурсами государственные учреждения культуры. Следовательно, ведущим ориентиром является задача создания условий для обмена положительным опытом и коллабораций деятелей культуры всех возможных форм созидания национального культурного продукта. Тогда, вероятно, можно будет ставить вопрос не о доли участия культуры в валовом внутреннем продукте, а наоборот – о доли ВВП в отечественной культуре. Тогда, вероятно, и вопрос о чужеродной культурной экспансии потеряет свою актуальность ввиду крепкого культурного суверенитета страны и населяющих её народов.
Список литературы Регулятивная функция культуры в современной России: поиск новых ориентиров
- Бакуменко Г. В. Междисциплинарный потенциал культурологической атрибуции // Культурология в теориях и практиках: к 30-летию кафедры культурологии МПГУ Москва, 2022. С. 50-61.
- Бакуменко Г. В. Метатеоретический аспект культурологии // Культурное наследие - от прошлого к будущему. Москва, 2021. С. 39.
- Бакуменко Г. В. Ценностная динамика символов успеха: на материале статистики кинопроката. Москва: Сам Полиграфист, 2021. 276 с.
- Бакуменко Г. В., Лугинина А. Г. Виртуализация социокультурного фронтира «Tertius Romae» // Журнал фронтирных исследований. 2022. Т. 7. № 1 (25). С. 265-293.
- Культура и культурные индустрии в РФ 2016-2018: Результаты комплексного исследования / Е. Сафронов, Н. Галиулова, А. Тихонов [и др.]. Москва: InterMedia, 2019. 42 с.
- Культура и культурные индустрии в РФ: аналитика 2018-2020. Результаты комплексного исследования / Е. Сафронов, Н. Галиулова, А. Тихонов [и др.]. Изд. 6-е, испр. и доп. Москва: InterMedia, 2020. 88 с.
- Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации и направления их нейтрализации / А. Ф. Андреев, И. В. Бернацких, А. С. Богданов [и др.]. Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2021. 604 с.
- Путин заявил о возрастании турбулентности геополитических процессов [Электронный ресурс] // Известия, 23 июня 2021. URL: https://iz.ru/1182870/2021-06-23/putin-zaiavil-o-vozrastanii-turbulentnosti-geopoliticheskikh-protcessov
- Региональная культурная политика: Методология, институты, практики (Ценностно-нормативный подход) / И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, А. В. Крюков [и др.]. Москва: Институт Наследия, 2019. 206 с.
- Синецкий С. Б. Универсальные приоритеты и цивилизационные парадигмы культурной политики в XXI в. // Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном мире: сборник статей. Будапешт-Киров, 2019. С. 8-17.
- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/420340006
- Флиер А. Я. Культурная атрибуция как метод исследования // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 6 (68). С. 24-30.
- Флиер А. Я. Культурная атрибуция как метод исследования // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 4. С. 139-144.
- Флиер А. Я. Системный характер нормативной теории культуры // Знание. Понимание. Умение. 2019. № 2. С. 147-156.
- Mazzucato M. The Value of Everything. PublicAffairs Books, 2020. 384 p.
- Rosa H. Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of LateModern Temporality. Aarhus University Press, 2010. 111 p.
- Rosa H. Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp, 2016. 816 р.
- Sun M. K-pop Fan Labor and an Alternative Creative Industry: A Case Study of GOT7 Chinese Fans // Global Media and China. 2020. Vol. 5. No. 4. Pp. 389-406.