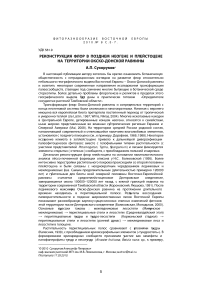Реконструкция флор в позднем неогене и плейстоцене на территории Окско-Донской равнины
Автор: Сухоруков Александр Петрович
Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro
Статья в выпуске: 8, 2010 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/148314474
IDR: 148314474
Текст статьи Реконструкция флор в позднем неогене и плейстоцене на территории Окско-Донской равнины
В настоящей публикации автору хотелось бы кратко ознакомить ботаническую общественность с нетрадиционным взглядом на развитие флор относительно небольшого географического выдела Восточной Европы – Окско-Донской равнины и осветить некоторые современные направления исследования трансформации палеосообществ, ставящие под сомнение многие бытующие в ботанической среде стереотипы. Более детально проблемы флорогенеза и реликтов в пределах этого географического выдела будут даны в практически готовом «Определителе сосудистых растений Тамбовской области».
Трансформации флор Окско-Донской равнины и сопредельных территорий с конца неогеновой системы были сложными и многократными. Начиная с верхнего миоцена вся европейская биота претерпела постепенный переход от тропической к умеренно-теплой (de Lattin, 1967; Willis, Niklas, 2004). Многие ископаемые находки в Центральной Европе, датированные концом неогена, относятся к семействам, ныне широко представленным во влажных субтропических регионах Евразии и Северной Америки (Mai, 2008). На территории средней России родовой состав, напоминавший современный и отличавшийся наличием влаголюбивых элементов, установился с позднего плиоцена (см., к примеру, Дорофеев, 1966; 1988). Некоторое иссушение климата в эоплейстоцене привело к дальнейшей диверсификации палеофитоценозов (фитозов): вместе с гелофильными типами растительности (с участием представителей Potamogeton, Typha, Sparganium) и лесами фиксируются элементы открытых («степных») сообществ, с преобладанием полыней и маревых.
Детальная реконструкция флор плейстоцена на основании палинологического анализа лёссо-почвенной формации описана у Н.С . Болиховской (1995). Более интенсивно перестройки растительного покрова происходили со второй половины плейстоцена и были связаны с неоднократным чередованием ледниковых и межледниковых фаз. Самым продолжительным (длительностью примерно 120000 лет) и губительным для биоты всей северной половины Восточно-Европейской равнины считается среднеплейстоценовое Днепровское оледенение, завершившееся около 100000–120000 лет назад, с южной границей ледника на территории современной Тамбовской области (Короновский, Якушова, 1991). После ледникового максимума Окско-Донская равнина на протяжении длительного времени находилась в перигляциальной полосе. Резлуьтаты воссоздания палеорастительности в подзоне широколиственных лесов Восточной Европы показывают разнообразную картину сукцессионных этапных изменений фитозов этой территории после Днепровского оледенения (Болиховская, Молодьков, 2000). Основные ксуцессии таковы : межледниковые лесостепи (Миклуинское межледниковье) → перигляциальные степи и лесостепи (Средневалдайский этап) → перигляциальные тнудры и тнудро-лесостепи (Корманьский стадиал) → перигляциальные степи и лесостепи (ранний дриас) → межледниковые леса и лесостепи в голоцене.
Растительность перигляциальных полос сравнивают с суловиями тундры (Калесник, 1939), с преобладанием криоксерофильных элементов («тундростепь»). В формировании криоаридных сообществ принимали участие как хамефиты и нанофанерофиты тундр и лесотундр (Alnaster fruticosa, Betula nana: ср., к примеру,
Makeyev et al., 2003; Mol et al. 2006), так и травянистые растения из семейств Chenopodiaceae, Lycopodiaceae, Limoniaceae или Ephedraceae. Таксономический состав крупных млекопитающих во всей северной Евразии в лесотундровые периоды был, по-видимому, сходным и состоял из холодолюбивых животных (Oard, 2000). Последний криоаридный («вечномерзлотный») этап на территории Окско-Донской равнины датируется поздним Валдаем , то есть 15000–18000 лет назад (Тарасов, 2000). Состав тундростепной растительности , на мой взгляд, требует дальнейшего детального анализа: наличие в таких фитозах представителей Lycopodiaceae или Armeria (Limoniaceae) вполне возможно, однако произрастание видов из семейства Chenopodiaceae на мерзлотных почвах в современных тундрах и лесотнудрах практически сведено к нлую . Даже если признать, что таксономический состав таких перигляциальных сообществ был специфичным, следует отметить , что массовое вымирание видов Chenopodiaceae за последние тысячелетия на обширных тундровых пространствах Евразии представляется маловероятным.
При воссоздании стаций переживания растительности лесов и лесостепей в периоды похолоданий выделяют две гипотезы: 1) сохранение растительности в своеобразных рефугиумах в перигляциальных полосах (гипотеза “nunatak”); 2) ее отступление в более южные регионы , с одновременным вымиранием in situ (гипотеза “tabula rasa”). В условиях равнинного, мало расчлененного рельефа всей Восточно-Европейской равнины эти две возможности представляются взаимоисключающими по сравнению с горными странами, к примеру, Альпами (Stehlik, 2003). Зарубежные специалисты по воссозданию миграций равнинной биоты Центральной Европы в Вюрмскую эпоху склоняются ко второму сценарию развития событий. Филогеографические исследования показывают, что рефугиумы некоторых широко распространенных аборигенных пород деревьев (Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior и др.) в период последнего оледенения Северной и Центральной Европы были сконцентрированы в некоторых районах Средиземноморья (King, Ferris, 1998; Brewer et al., 2002; Heuertz et al., 2004). После отступления ледника реэкспансия видов шла в северном и северо-восточном направлении, в том числе в Восточную Европу (Comes, Kadereit, 1998). Часть исследователей (Willis et al., 2000) придерживается мнения о возможности сщу ествования поплуяций древесных пород (Betula pendula, Salix caprea) в перигляциальной полосе (к примеру, в южноширотной Венгрии) и быстром анемохорном расселении этих таксонов в постгляциале (Palmé et al., 2003). Однако сгущение гаплотипов вне рефугиумов может быть следствием стохастических процессов в ходе послеледниковой реколонизации (Семериков и др., 2007). Значительно менее известно о миграциях степных фитоценозов (Цвелев, 2005), однако новейшие исследования подтверждают общий принцип постгляциальной инвазии биоты из южных рефугиумов (Habel et al., 2008).
Существовавшие ранее пристанища не ограничивались Южной Европой или некоторыми районами Северной Африки. Показано, что в позднем плейстоцене имелись флорогенетические связи с Ирано-Тураном (Pakhomov, 2006). Звенья миграционной цепи соединяли Окско-Донскую равнину с Северным Кавказом и Понтией (Müller, 1977), где существовали благоприятные условия сохранения «термофильной» флоры даже в максимальные фазы оледенения.
Таким образом, тезис о непрерывном развитии флоры Окско-Донской равнины в четвертичную систему (Пидопличко, 1952; Клоков, 1963) и наличии рефугиумов в ее южной части лишен фактической основы. Современную среднерусскую лесную и степную флору следует рассматривать как молодое образование , возраст ядра которой может быть оценен в 10000-12000 лет. В связи с этим таксономический состав реликтов и их возраст на этой территории требует нового , критического осмысления.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 08-04-00393).
Список литературы Реконструкция флор в позднем неогене и плейстоцене на территории Окско-Донской равнины
- Болиховская Н.С. Эволюция лёссово-почвенной формации Северной Евразии. М.: Изд-во МГУ, 1995.
- Болиховская Н.С., Молодьков А.Н. Корреляция лёссово-почвенной формации и морских отложений Северной Евразии (по результатам палинологического и ЭПР анализов) // Проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена / Под ред. П.А. Каплина, Н.Г. Судаковой. М.: Изд-во МГУ,2000. С. 149-178.
- Дорофеев П.И. Плиоценовые флоры Матанова Сада на Дону. Л.: Наука, 1966.
- Дорофеев П.И. Миоценовые флоры Тамбовской области. Л.: Наука, 1988.
- Калесник С.В. Общая гляциология. Л.: Наркомпрос, 1939.