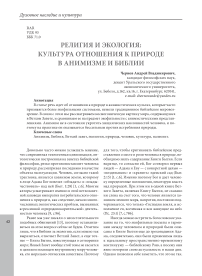Религия и экология: культура отношения к природе в анимизме и Библии
Автор: Чернов Андрей Владимирович
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет об отношении к природе в анимистических культах, которые часто признаются более экофильными системами, нежели традиционное библейское мировоз- зрение. В связи с этим мы рассматриваем космогоническую картину мира, содержащуюся в Ветхом Завете, и сравниваем ее на предмет экофильности с анимистическими представ- лениями. Анимизм не в состоянии укротить хищнических наклонностей человека, и по- этому на практике он оказывается бессильным против истребления природы.
Анимизм, библия, ветхий завет, экология, природа, человек, культура, палеолит
Короткий адрес: https://sciup.org/170174164
IDR: 170174164 | УДК: 93
Текст научной статьи Религия и экология: культура отношения к природе в анимизме и Библии
Довольно часто можно услышать мнение, что современная техногенная цивилизация, онтологически построенная на заветах библейской философии, резко противопоставляет человека и природу, рассматривая последнюю в качестве объекта эксплуатации. Человек, согласно такой трактовке, является хозяином земли, которому в лице Адама Бог повелел «обладать» и «владычествовать» над ней (Быт. 1:28) [1, с.6]. Многие авторы усматривают именно в этой ветхозаветной заповеди императив потребительского отношения к природе и, как следствие, начало многочисленных экологических проблем, вызванных агрессивной «природопокорительской» деятельностью человека [9, с.96].
Ранее мы уже писали о несостоятельности подобных обвинений [13], поэтому останавливаться на этом вопросе сейчас не будем. Отметим лишь, что в Библии за экологию, если можно так выразиться, отвечает Ветхий Завет, а еще точнее — Книга Бытия, повествующая о сотворении мира; Новый Завет вообще этой темы не касается и целиком посвящен внутреннему миру человека, его морально-этическим качествам. Поэтому для того, чтобы критиковать библейские представления о месте и роли человека в природе, необходимо знать содержание Книги Бытия. Если вкратце, то согласно ей, Бог сотворил первых людей — Адама и Еву — с конкретной целью — «возделывать» и «хранить» эдемский сад (Быт. 2:15) [1, с.6]. Именно поэтому Бог и дает человеку определенные полномочия, некоторую власть над природой. При этом ни в одной книге Ветхого Завета, включая Книгу Бытия, не сказано ни слова на счет того, что человек является хозяином земного мира, напротив, постоянно подчеркивается, что только «Господня земля, и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней» (Пс. 23:1) [7, с.786].
Иногда можно встретить богословское указание на то, что экофильные посылы о гармонии между человеком и природой были описаны в Книге Бытия еще до грехопадения Адама, следовательно, они были применимы лишь к идеальному пространственно-временному континууму — библейскому Раю, а посему они явно потеряли свою актуальность в наши дни. Однако позволим себе заметить, что это не так.
Учитывая библейское предание о Ное, которому Бог повелел спасти всех «скотов» и «птиц небесных» (Быт. 7:1-3), мы можем констатировать обязательность заповеди природоохраны даже в условиях нашего падшего, «постэдемского» мира. Таким образом, человек, согласно библейской трактовке, является имманентной частью природы, но вместе с этим выступает по отношению к ней своеобразным администратором, или, как принято называть это в святоотеческой традиции, «домоправителем» [11, с.13], в чью компетенцию входит забота не только о живых тварях, но и о Земле в целом [12, с.7].
Как мы видим, ни о какой культуре «приро-допокорительства» тут речи не идет. То, что описывается в Книге Бытия, скорее можно назвать библейской версией экологического сознания, своеобразной ветхозаветной эко-этикой. Правда, стоит особо подчеркнуть специфику библейского миропонимания, даже если оно касается такой, казалось бы, далекой от религии темы, как экология. Согласно Библии, человек ответственен за все, что он сделает, как по отношению к «ближнему своему», так и по отношению к врученной ему природе, которую, как мы помним, нужно «возделывать» и «хранить». Перед кем же в этом случае несет ответственность человек? Библейский ответ вполне очевиден: за свои антиэкологические, если так можно выразиться, проступки человек отвечает не перед природой (натуроцентризм), и не перед обществом (социоцентризм), и даже не перед самим собой (антропоцентризм), а только перед Богом (теоцен-тризм), так как именно он признается единственным создателем и хозяином вселенной. Как мы видим, библейская картина мира принципиально теоцентрична, но в то же время это нисколько не мешает ей быть экофильной.
Тем не менее, версия о библейском генезисе современного экологического кризиса довольно прочно осела в умах исследователей. В связи с этим, довольно широко распространилось мнение об якобы особой экофильности язычества с присущей ему сакрализацией природы, и в особенности анимистических культов, которые представляются сегодня буквально апофеозом экологического сознания, ведущего к «первобытной гармонии» [3, с.43]. Поэтому часто палеолит — время зарождения самых ранних форм религиозного сознания — представляют «как своего рода Золотой век, время сильных, красивых, здоровых людей, живущих в гармонии с природой и друг с другом» [2, с.163]. Отсюда возникают многие экологические идиллии, суть которых состоит в том, что современное общество обречено на вымирание, а единственный путь спасения заключен в отказе от науки и техники и возврате к природе, к первобытному состоянию «благородного дикаря». А поскольку духовный мир первобытного человека состоял в основном из мифологических представлений, то из этого логично следует вывод о необходимости замены библейского сознания на более экофильное анимистическое мировоззрение. Но такими ли уж экофильными были анимистические культы? Постараемся в этом разобраться.
Начнем, пожалуй, с самого древнего в Европе религиозного культа — культа медведя, который сформировался у неандертальцев еще во времена палеолита [4, с.3]. До сих пор невозможно сказать, почему у неандертальцев возник культ именно этого животного, а, например, не мамонта, составлявшего главный объект их охоты и резко выделявшегося своими размерами на фоне остальной фауны; с какой целью неандерталец отрубал медвежьи головы и аккуратно складывал их в пещеры; какая нужда заставляла первобытного человека вступать в смертельно опасную схватку с пещерным медведем. В общем, вопросов пока больше, чем ответов, однако с уверенностью можно сказать лишь то, что «не культ медведя был следствием охоты, но охота на медведя была следствием культа» [5, с.56]. Итак, каковы же масштабы этой охоты? А они просто впечатляют, если не сказать, что шокируют. Так, «на территории Пруто-Днестровского междуречья известны стоянки ашеля и мустье (палеолитические культуры неандертальцев — авт.), в которых найдены останки 6000 особей пещерного медведя» [6]. Аналогичным образом обстояли дела в Центральной и Западной Европе, что сегодня подтверждено археологическими раскопками [2]. Как видно из этого, культ пещерного медведя не только не помог сохранить этот вид в природе, но, напротив, способствовал его истреблению.
Иной раз можно наткнуться на контраргумент, что это, дескать, проделки неандертальца, а вот наши непосредственные предки — кроманьонцы — вели себя совсем по-иному. Увы, но это не так. Тем, кто до сих пор верит в особую экофильность древнего человека, следует лучше ознакомиться со следующими фактами. Так, археологические изыскания в Солютре (Франция), относящиеся к позднему палеолиту (18–15 тыс. лет до н.э.), открывают нам поистине ужасающую картину отношения к природе со стороны кроманьонцев. Древние люди практиковали в этой местности загонные охоты на копытных, которых сообща гнали к скальному обрыву и фактически заставляли прыгать с огромной высоты. По некоторым данным, толщина костного слоя у подножия скалы составляет до 2,3 метра, что соответствует от 40000 до 100000 туш копытных [6]. Варварство состояло в том, что лишь небольшую часть из погибших животных кроманьонцы использовали в пищевых целях, остальные же туши просто сгнивали под открытым небом, поскольку в условиях отсутствия холодильников их невозможно было сохранить.
Теперь же поговорим о самом известном животном эпохи оледенения — мамонте. Если раньше в научных кругах было распространено мнение о том, что мамонтов погубило глобальное изменение климата, связанное с быстрым потеплением и отступлением ледника, то сегодня эта гипотеза всерьез уже не рассматривается. Сегодня считается, что доминирующим фактором оказалась бесконтрольная охота и целенаправленное истребление со стороны кроманьонца (аналогичная судьба, кстати, постигла и других представителей мамонтовой фауны — шерстистого носорога, большерогого оленя, пещерного льва и пр.) [2, с.169]. Например, для постройки одного жилища для небольшой первобытной общины, состоявшей из 3–6 семей, требовалось убить 30–40 мамонтов [8]. При этом следует указать еще на один момент: до 85% костных останков мамонта, обнаруженных в поселениях древнего человека, составляли детеныши, включая только что родившихся [2, с.170]. Вероятнее всего, они использовались в качестве заложников, чтобы приманить самку мамонта и безнаказанно потом с ней разделаться. Как видно из приведенных примеров, древний анимизм нисколько не помог сдержать хищнических наклонностей первобытных охотников.
Любопытно было бы взглянуть на те племена, которые до сих пор пребывают в первобытном состоянии, и попробовать найти взаимосвязь между их религиозными культами и отношением к природе, в том числе к объектам охоты. Так, маори, коренное население
Новой Зеландии, уже в исторические времена полностью уничтожила девять видов гигантских нелетающих птиц — динорнисов, моа и пр., из-за чего европейцы, прибывшие на острова в XVII–XVIII вв., их уже не застали [6]. Примерно в это же время другие примитивные племена истребили овцебыка на севере Сибири, а еще раньше (XIV–XV вв.) алеуты полностью уничтожили поголовье стеллеровой коровы на всех без исключения Алеутских островах (окончательно ее добили уже наши российские моряки на Командорских островах в XVIII в.) [2, с.169]. В начале XX века эскимосы стали интенсивно осваивать ранее не принадлежавшие им территории канадской Арктики и буквально за считанные годы истребили овцебыков, которые смогли уцелеть лишь в тех районах, до которых не добрались эти «ценители природы». Точно такие же варварские методы эскимосы применяют сегодня при охоте на морского зверя: выслеживают самку кита с новорожденным детенышем и убивают либо только детеныша, либо сразу обоих, при этом со взрослыми самцами предпочитают не связываться [2, с.170].
Аналогичное отношение к природе демонстрирует нам коренное население Африки, например, зулусы и пигмеи, которые забрасывают дротиками слоненка, а потом безнаказанно убивают слониху, поскольку инстинкты не позволяют ей уйти и бросить своего детеныша. Кстати, традиционные африканские загонные охоты на копытных часто проходят так же, как и у кроманьонцев, когда истребляется все стадо, но при этом в пищу идет лишь небольшая часть поголовья, в то время как остальная часть туш просто сгнивает потом на открытом воздухе. Как указывают многие авторы, «прорываются в заповедники, используют ловушки, калечат зверей, истребляют детенышей, торгуют слоновым бивнем и носорожьим рогом, составляют костяк браконьерских шаек как раз представители коренного населения Африки» [2, с.171]. Можно даже сказать, что мы имеем дело с настоящей культурой убийства, широко распространенной традицией браконьерства и истребления природы.
Какие же верования свойственны указанным выше племенам? Согласно распространенному мнению, и маори, и эскимосы, и зулусы, и прочие племена, до сих пор пребывающие в состоянии неолита, должны быть фанатичны- ми сторонниками библейского мировоззрения, ведь, как считается, только оно генерирует потребительское отношение к природе. Однако все обстоит ровно наоборот: несмотря на старания многочисленных миссионеров, ни одно из описанных племен не приняло христианство (либо сделало это чисто формально) и до сих пор исповедует свои традиционные культы, которые сводятся к анимизму, шаманизму и почитанию умерших предков [10; 14]. Как мы видим, ни о какой «первобытной гармонии» с природой тут нет и речи. Первобытный образ жизни с присущими ему примитивными религиозными представлениями вовсе не является экофильным, напротив, довольно часто он приводит к настоящему экоциду, целенаправленному истреблению живой природы, в особенности объектов охоты. Анимизм оказался не в состоянии ограничить агрессивные наклонности человека и поэтому вряд ли пригодится сегодня для нужд природоохраны. Таким образом, склонность человека к насилию над природой, является, к сожалению, одной из его фундаментальных культурно-антропологических констант и отчетливо прослеживается на большом археологическом материале, начиная как минимум со времен палеолита.
К чему же мы пришли? Как пишет один современный исследователь, «не нужно вписывать в Закон Божий экологические предписания, поскольку они уже там есть. Не нужно пересматривать понимание человека, поскольку библейское учение сегодня гораздо реалистичней, чем попытки вновь вернуться к общению с природой на равных. Библия не только поощряет бережное отношение к природе, но и придает ему новые, в современных условиях может быть даже более действенные, мотивы» [12, с.49]. Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Во-первых, библейская картина мира намного экофильнее анимистических культов, как прошлого, так и настоящего, несмотря даже на то, что в ее аксиологическом центре стоит Бог, а вовсе не природа. Во-вторых, глобальный экологический кризис связан не с библейскими предписаниями, а скорее, наоборот, с их неисполнением, в частности — с игнорированием заповеди «возделывать и хранить». Поэтому вполне вероятно, что и преодоление современного экологического кризиса может начаться с возврата к изначальному библейскому пониманию природы и места человека в ней.
Список литературы Религия и экология: культура отношения к природе в анимизме и Библии
- Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. — Минск: Белорусский экзархат Московского патриархата, 2013. — 1519 с.
- Бутовский А. М. Идиллический палеолит? // Общественные науки и современность. — 1998. — № 1.
- Гайденко В. П. Природа в религиозном мировосприятии // Вопросы философии. — 1995. — № 3.
- Житенёв В. С. Культ медведя в палеолите Европы. Автореф... историч. наук. М., 2000.
- Зубов А. Б. История религии. Книга первая: доисторические и внеисторические религии. — М.: Планета детей, 1997. — 344 с.
- Новоженов Ю. И. Экологический императив XXI века // Урал. — 2004. — № 8.
- Новый Завет. Псалтирь. Молитвослов. — М.: Трифонов Печенгский монастырь, «Ковчег», 2001. — 1120 с.
- Сергин В. Я. Палеолитические жилища Европейской части СССР. Автореф. канд. ист. наук. — М., 1974. — 27 с.
- Сычев А. А. Добро и зло в экологической этике // Ведомости прикладной этики. — 2013. — № 43.
- Фальк-Ренне А. Путешествие в каменный век. Среди племен Новой Гвинеи. — М.: Наука, 1985. — 192 с.
- Хрибар С. Ф. Христианские конфессии и формирование экологической культуры населения в современной России. Автореф. историч. наук. М., 2009.
- Хрибар С. Ф. Экологическое в Библии: формы религиозно-экологического мировоззрения. — Киев: Киевский эколого-культурный центр, 2003. — 96 с.
- Чернов А. В. Христианство и экологическая ответственность // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. — 2010. — № 2.
- Шипилов И. А. Этнографические материалы вспомогательного персонала экспедиции Биллингса-Сарычева (1785-1795 гг.) как источник по истории изучения народов крайнего Северо-Востока Сибири/Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. Сб. трудов (Новосибирск, 20-22 августа 2015). — Новосибирск: Ин-т истории СО РАН, 2015.