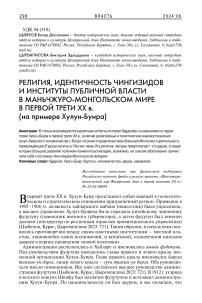Религия, идентичность чингизидов и институты публичной власти в маньчжуро-монгольском мире в первой трети XX в. (на примере Хулун-Буира)
Автор: Цыбенов Б.Д., Цыремпилова В.Э.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 6, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются различные аспекты истории буддизма и шаманизма на территории Хулун-Буира в первой трети XX в., включая религиозные и политические взаимоотношения хулун-буирского чиновничества с Богдо-гэгэном и правительством Внешней Монголии и деятельность перерожденцев Егудзэр-хутухты и Панчен-ламы IX в регионе. Авторы предполагают, что дауры, в среде которых большое развитие получили панмонгольские идеи, возможно, не совсем обоснованно причисляли себя к потомкам Чингизидов Монгольской империи.
Буддизм, хулун-буир, баргуты, чиновничество, дауры, шаманизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170207783
IDR: 170207783 | УДК: 94 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-6-296-302
Текст научной статьи Религия, идентичность чингизидов и институты публичной власти в маньчжуро-монгольском мире в первой трети XX в. (на примере Хулун-Буира)
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Маньчжуромонгольский мир Внутренней Азии в первой половине XX в.» № 22-68-00054.
В первой трети XX в. Хулун-Буир представлял собой важный в геополитическом и стратегическом отношении приграничный регион. Примерно в 1905–1906 гг. должность хайларского амбаня (наместник) была упразднена, а высшее управление Хулун-Буиром было передано китайскому чиновнику фудутуну (помощник военного губернатора), а затем фудутун был заменен даотаем (инструктор по различным отраслям провинциального управления) [Цыбенов, Курас, Цыремпилова 2023: 721]. Таким образом, в начале века появились противоречия между двумя властными институтами – местной властью, лишившейся своих полномочий, и китайской, назначенной цинским двором в период проведения «новой политики».
Администрация располагалась в Хайларе и именовалась ямынь фудутуна. Под руководством фудутуна находились главы правого и левого крыла знаменной организации Хулун-Буира. Глава правого крыла именовался баруун тинхим-ун дарга, лидер левого крыла – зуун тинхим-ун дарга. Оба руководителя имели помощников. Все они составляли высшее руководство администрации фудутуна [Цыбенов, Курас, Цыремпилова 2023: 721]. В 1912 г. ухэрида олетского хошуна Шенфу был назначен фудутуном и возглавил администрацию Хулун-Буира. По национальности он был дауром, и мы полагаем, что по своим религиозным воззрениям Шенфу был шаманистом. В настоящее время известно, что подавляющее большинство дауров всегда были и поныне являются шаманистами, хотя в начале XX в. имелись ошибочные суждения, что они были буддистами. Например, известный исследователь Барги (Хулун-Буир) В.А. Кормазов указывал: «…большинство дауров, по своим верованиям, ламаиты (буддисты. – Авт.), но встречаются и шаманисты» [Кормазов 1928: 44]. По всей видимости, некоторая часть дауров, входивших в высшие слои хулун-буирского общества, приобщилась к буддизму под влиянием присоединения Хулун-Буира к Внешней Монголии, где большую роль играло буддийское духовенство во главе с Богдо-гэгэном. Возможно, Кормазов мог встречаться с этими высокопоставленными даурами и вынести впечатление о даурском народе как о буддистах.
В целом, религиозная ситуация в Хулун-Буире выглядела достаточно пестрой. Помимо буддистов школы гелугпа и шаманистов, т.е. местного населения, в регионе проживали христиане (православные), представители конфуцианства и даосизма, других направлений буддизма, синтоисты. Их появление было связано с проведением КВЖД и созданием русских поселков в Хулун-Буире. По данным 1914 г., в них проживали 11 633 русских, 6 215 китайцев, 182 японца, 94 корейца и 37 прочих иностранцев, всего 18 161 чел. К 1919 г. население поселков увеличилось до 35 800 чел., из них русских – 20 180, китайцев – 10 325, японцев – 5 023, прочих иностранцев – 272 [Мещерский 1920: 17]. Обращает внимание резкий рост численности японского населения в Хулун-Буире с 1914 по 1919 г.
Возвращаясь к религиозным воззрениям местного населения Хулун-Буира, отметим, что здесь до сих пор существуют некоторые разночтения. Они в основном касаются трех этнических групп – бурят, старых баргутов, эвен-ков-хамниганов. Как отмечал В.А. Кормазов, «по своим религиозным верованиям почти все выходцы из Забайкалья – буряты и тунгусы – православные, носят русские имена, в юртах иконы, но, тем не менее, шаман у них в большом почете. В юрте бурята и тунгуса уживаются шаманские принадлежности с православными образами» [Кормазов 1928: 47]. Под тунгусами можно понимать эвенков-хамниганов, переселившихся в Хулун-Буир из пределов Забайкалья. Вероятно, имело место переселение группы хамниганов, которая на родине в той или иной степени подвергалась этнокультурному влиянию русского населения. Известно, что один из сомонов хошуна Старая Барга населяют хамниганы, поэтому в перспективе можно провести полевое этнографическое исследование на предмет сохранения у них элементов православия. И все же мы полагаем, что буряты и эвенки-хамниганы в подавляющем большинстве являлись буддистами и шаманистами. Известно, что буряты, проживавшие в местности Шэнэхэн, со временем построили буддийский монастырь (дацан), среди них небольшую часть составляли представители интеллигенции и буддийского духовенства [Базаров 2001: 10].
Старые баргуты (другое название – чипчины), по некоторым данным, были буддистами [Кормазов 1928: 44], что противоречит мнению других исследователей, указывавших на незначительное влияние буддизма на этот народ [Мещерский 1920: 16; Atwood 2002: 116]. Поскольку современные старые бар-гуты в большинстве своем сохраняют приверженность к шаманским традициям [Зориктуев 2021: 139], и новые баргуты подчеркивают этот момент как один из отличительных, можно полагать, что в начале XX в. старые баргуты в основном были шаманистами. Есть мнение, что их религия – синкретическая, сочетающая в себе особенности буддизма и шаманизма [Миягашева
2017: 76]. К тому же они являлись наиболее состоятельным элементом кочевых племен Хулун-Буира [Кормазов 1928: 44]. Шаманизм и состоятельность старых баргутов, очевидно, привлекали даурских чиновников, которые небезуспешно пытались сблизиться с ними и использовать в своих интересах. Например, летом 1912 г., когда баргуты подняли вопрос об упразднении «даурского начальства», дауры попытались записать в свои ряды старых бар-гутов и тем самым уберечь созданную ими систему управления от упразднения [Кузьмин 2021: 51].
Новые баргуты и олеты Хулун-Буира в подавляющем большинстве являлись буддистами, к шаманистам относились эвенки-солоны и эвенки-орочоны [Мещерский 1920: 16; Atwood 2002: 116]. Таким образом, можно полагать, что чиновники в администрации Хулун-Буира – выходцы из различных монгольских и тунгусо-маньчжурских этнических групп были приверженцами той или иной религии. Резкого конфессионального противопоставления как среди высших слоев, так и среди народа не наблюдалось, имели место межэтнические браки. Ситуация в Хулун-Буире, вероятно, чем-то напоминала обстановку в некоторых частях этнической Бурятии в XIX в., где сосуществовали буддизм, шаманизм и даже православие, и в силу разных причин буряты соблюдали те или иные религиозные правила. Очевидно, хулун-буирские чиновники, шаманисты по вере, в начале XX в. осознавали необходимость хотя бы внешнего соблюдения буддийских предписаний и правил. Некоторые из них проникались идеями буддийской религии. Теократический характер правительства Богдо-гэгэна оказал существенное влияние на отношение чиновников Хулун-Буира к нему. Так, хайларская знать в своих контактах с Внешней Монголией неизменно подчеркивала религиозную составляющую взаимоотношений и обращалась к Джебцзундамба-хутухте преимущественно за получением благословений и буддийского учения [Цыбенов, Юй Шан 2018: 113]. Религиозные связи имели и политическую окраску. Например, в письме одного баргутского чиновника (начальника сомона), сопровождавшего делегацию в Ургу в 1904 г., кратко освещалась история Новой Барги. Центральное место в ней занимала история получения местным буддийским монастырем хадака из желтого шелка от самого Богдо-гэгэна [Atwood 2005: 12-13]. В августе 1909 г. глава олетского хошуна Шенфу написал письмо Богдо-гэгэну с просьбой направить прибывшего к ним из Урги святого перерожденца в монастырь Буян чуулах, что на оз. Хужир-нур, для чтения проповедей по исконным традициям ламаизма. Шенфу указывал, что народ не хочет потерять традиции исконной буддийской религии. В письме отмечалось также увеличение числа китайских чиновников в Хулун-Буире [Мягмарсамбуу 2017: 43]. Заметки о непростом взаимодействии даурских чиновников с наместником, прибывшим из Урги, содержатся в сводках сведений штаба Иркутского военного округа за 1914 г. Так, в первом номере этого документа имеется информация об отправке Богдо-гэгэном в Хайлар Чжасак-ламы для управления всеми 17 хулун-буирскими хошунами в качестве светского и духовного правителя, вернее, наместника. Однако все 5 помощников ухериды и более 50 цзангинов не пожелали признавать власть Чжасак-ламы. Ввиду этого Шенфу просил Ургинское правительство отозвать Чжасак-ламу и упразднить в Хулун-Буире должность наместника, оставив прежний маньчжурский устав, введенный цинской династией. Ходатайство было направлено Богдо-гэгэну. Тогда же выехал в Ургу из Хайлара специальный цзангин Фусянь (другое имя – Линшэн. – Авт.) с 10 тыс. руб. для подарков высшим чинам монгольского правительства на случай, если они не согласятся с просьбой хулун-буирских властей [Цыбенов 2022: 130-131]. Этот кризис во взаимоотношениях между властями Хулун-Буира и Внешней Монголии не стоит трактовать как расхождение на религиозной почве, хотя, как мы подчеркивали выше, даурские чиновники-шаманисты, несмотря на их малочисленность, стояли у руля власти в Хулун-Буире. Истинные причины противоречий были банальными и заключались в нежелании хулун-буирского чиновничества попадать в прямое подчинение к правительству Богдо-гэгэна и передавать ему все финансовые дела региона.
Говоря о религиозной принадлежности даурской верхушки Хулун-Буира, следует заметить, что шаманисты-дауры, как чиновники, так и обычные скотоводы и земледельцы, отнюдь не воспринимали себя менее культурными или менее цивилизованными по сравнению с буддийским большинством. В их глазах шаманизм был исконной религией народов монгольского мира, он восходил к периоду Чингисхана и Монгольской империи. Поэтому дауры были вправе считать себя потомками средневековых монголов, сохранивших в чистоте свой язык и религию. Именно в этот период появилось название да(г)ур-монгол, начался этап притяжения дауров к монгольской истории, культуре и языку [Цыбенов, Юй Шан 2018: 114]. Правящая верхушка Хулун-Буира относилась к хайларским даурам – одной из четырех этнотерриториальных даурских групп. Другая группа дауров, известная как бутхаские дауры, также стремилась приобщиться к единому Монгольскому государству. Сложность заключалась в том, что регион их проживания – Бутха – находилась на границе монгольского и маньчжурского миров и территориально была гораздо ближе к Внутренней Монголии. Бутхаские дауры отмечали, что их предки в конце юаньского периода сражались с войсками династии Мин, отступили на северо-восток и оставались вместе с последним юаньским императором. На проживание дауров во Внешней Монголии указывало название даурского рода онон , которое, по мнению бутхаской знати, было прямо связано с р. Онон, протекающей по территории Монголии и Забайкалья. По мнению К. Этвуда, ярким проявлением панмонгольской идеологии в Хулун-Буире было принятие идентичности Чингизидов народами, которые никогда не были частью этой системы [Atwood 2005: 13-15]. Действительно, высшее сословие Хулун-Буира не относилось к числу наследственных Чингизидов, как в остальных аймаках Внутренней Монголии, таких как Чахар, Ордос и др. В отличие от многих других монгольских регионов, в Хулун-Буире не было «золотого рода» борджигин, и, соответственно, проживавшие здесь баргуты, олеты, буряты – народы монгольского корня – находились, по всей видимости, вне орбиты идентичности Чингизидов. Хотя они, будучи, собственно, монголами, очевидно, имели полное право называть себя потомками Монгольской империи. Тем не менее их представители, в частности баргуты, пытались как-то обосновать свою принадлежность именно к Чингизидам. Баргутский исследователь XIX в. Губэри указывал, что Хулун-Буир был территорией, подвластной Чингисхану, впоследствии здесь располагалась весенняя ставка Хасара, младшего брата всемонгольского правителя [Atwood 2005: 13-15]. Однако этим лишь подтверждался факт былого проживания представителей рода борджигин на территории Хулун-Буира. И все же в глазах баргутов этот момент был значимым, поскольку увязывал историю региона и, соответственно, его населения с золотым родом Чингисхана.
Рукопись Губэри неожиданно стала основным препятствием для бутха-ских дауров в их стремлении приблизиться к идентичности Чингизидов и
Монгольской империи. Преградой явился хребет Большой Хинган, отделяющий Бутху от хулун-буирских (баргинских) степей. Весенняя ставка Хасара могла находиться лишь в степной зоне. Бутху от нее отделял протяженный горно-таежный массив. Несмотря на это, даурские исследователи начала XX в. Алтангат, Го Кэсин и др. делали попытки связать историю даурского народа с монголами и единой Монгольской империей. Они выдвигали различные версии, в основном возводящие происхождение дауров к белым татарам или к потомкам удела Хасара – младшего брата Чингисхана [Atwood 2005: 13-15; Цыбенов, Юй Шан 2018: 115]. На наш взгляд, достаточно сложно говорить о принадлежности дауров к монголам, поскольку все языковые и этнографические материалы указывают на раннее обособление предков дауров от монголоязычного ядра. Широко распространенной была и остается гипотеза о киданьском происхождении дауров.
Новые баргуты, в отличие от дауров, были традиционно связаны с Внешней Монголией разносторонними отношениями, включая и религиозные. В баргутских монастырях было немало монахов-халхасцев [Цыбенов, Юй Шан 2018: 113]. Из трех дорог, ведущих из Хайлара в Пекин, две проходили по территории Внешней Монголии (Халхи). Одна из них проходила через монастырь известного халхаского перерожденца Егудзэр-хутухты. Поэтому баргуты имели возможность поклоняться буддийскому иерарху. Известно, что в июне 1906 г. Егудзэр-хутухта совершил обряд почитания озер Буир и Хулун (другое название – Их далай). Во время его поездки на оз. Хулун многие верующие – халхасцы и баргуты, чиновники и простой люд, ламы совершали поклонение, устраивали молебны и подносили пожертвования. Известность получили баргуты синего с каймой хошуна, поднесшие перерожденцу 50 ланов серебра. В другой раз Егудзэр-хутухта прибыл на территорию Хулун-Буира летом 1918 г., посетил земли новых и старых баргутов, г. Хайлар [Мягмарсамбуу 2017: 27].
В начале XX в. в Хулун-Буире, по данным А.С. Мещерского, насчитывалось более 20 буддийских монастырей. В крупных монастырях проживали до 700 лам, в малых – 20–30 чел. При этом большинство лам, очевидно, относились к разряду монашествующих, поскольку собирались они только во время проведения торжественных богослужений. К основным буддийским центрам относились: 1) Хуху-сумэ, или Амбань-сумэ (рядом с г. Старый Хайлар); 2) Баин-хошуу сумэ (на дороге из Хайлара в Халху, на р. Имин); 3) Цзянцзюнь-сумэ (в баргутском хошуне Гуль-хуху) – эти три монастыря построены в 1803 г.; 4) Ольт-хошуу сумэ (построен в 1786 г.); 5) Блюд-сумэ; 6) Тамбоин-сумэ (другое название – Домбын-сумэ) в баргутском хошуне Гуль-цаган; 7) Ганьчжур-сумэ (главный монастырь Новой Барги, построен в 1785 г.) [Мещерский 1920: 16]. Официальное наименование Ганьчжур-сумэ – Олзий Энхжуулэгч (Устанавливающий мир и благоденствие), он находится в местности Баян-Бурд [Зориктуев 2021: 139]. Очевидно, число буддийских монастырей (если включать и малые храмы) было гораздо большим. Так, имеются сведения о наличии у новых баргутов Правого крыла 16 храмов в первой половине XX в., столько же храмов было и у населения Левого крыла Новой Барги, у старых баргутов был один монастырь – Баян-Хурэ сумэ, шесть храмов насчитывалось в Солонском хошуне [Миягашева 2017: 71-74].
Другим видным буддийским перерожденцем, побывавшим в Хулун-Буире, был Панчен-лама IX, прибывший в конце июля 1931 г. по приглашению амбаня. По железной дороге из Мукдена в Хайлар его сопровождала свита, состоявшая из лам и солдат. Руководил ими Гушиг-хамбо лама, он же ведал организацией проводимых богослужений и встреч. Слушателями буддийских проповедей Панчен-ламы были не только монголы (все монголоязычные этнические группы Хулун-Буира были объединены под этим этнонимом. – Авт.), но и русские, и японцы, проживавшие, очевидно, в поселках вдоль КВЖД. Помимо непосредственно буддийского учения, Панчен-лама уделял внимание единству пяти национальностей Китая и безопасности его территории. Во время его нахождения в Хайларе, в администрации амбаня множество паломников в течение нескольких дней имели возможность совершить поклонение. Затем он посетил Хухэ-сумэ – монастырь, находящийся рядом с пос. Нантун, а также Шэнэхэн-сумэ по приглашению главы бурятского хошуна Аюши. В Шэнэхэне Панчен-лама пробыл два дня, совершая молебны и благословляя верующих [Бодонгуд 2013: 306-307; Цыбенов 2017: 132]. Далее он провел богослужения в буддийских монастырях баргутов, в частности в Ганьчжур-сумэ. Население жертвовало деньги, драгоценности. В октябре 1931 г. в связи с началом японской оккупации Северо-Восточного Китая Панчен-лама покинул Хулун-Буир и направился в сторону Шилингола. Помощь в перегоне скота оказали буряты во главе с Ринчиндоржи, проживавшие в Шилинголе [Бодонгуд 2013: 309]. Известно, что все пожертвования предназначались для закупки оружия и снаряжения, необходимого для возвращения в Тибет [Цыбенов 2017: 133].
Таким образом, буддизм и шаманизм достаточно мирно уживались в Хулун-Буире, приверженность к шаманизму не мешала правящей верхушке – чиновникам-даурам – входить в тесные отношения с Богдо-гэгэном и буддийским духовенством Внешней Монголии. Хулун-буирская администрация приглашала известных буддийских перерожденцев и иерархов, в частности Панчен-ламу IX и Егудзэр-хутухту, для проповедей буддийского учения и укрепления позиций буддийской церкви в регионе. Идеи панмонголизма, возможность принятия подданства Монгольского государства в 1912–1915 гг. и, как следствие этого, интерес к идентичности Чингизидов подтолкнули отдельные группы дауров к попытке причисления себя к потомкам удела Хасара, младшего брата Чингисхана.
Список литературы Религия, идентичность чингизидов и институты публичной власти в маньчжуро-монгольском мире в первой трети XX в. (на примере Хулун-Буира)
- Базаров Б.В. 2001. Генерал-лейтенант армии Маньчжоу-Го Уржин Гармаев. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 37 с.
- Зориктуев Б.Р. 2021. Баргуты Китая: коллективная монография. Улан-Удэ: Изд-во БГУ. 282 с.
- Кормазов В.А. 1928. Барга. Экономический очерк. Харбин: Типография КВЖД. 281 с.
- Кузьмин С.Л. 2021. Баргинский и харачинский вопросы в истории Восточной Азии (первая половина XXвека). М.: Товарищество научных знаний КМК. Т. 1. 407 с.
- Мещерский А.С. 1920. Автономная Барга. Материалы к отчету о деятельности с 1915 по 1918 гг. Вып. XII. Шанхай: Типография русского книгоиздательства. 39 с.
- Миягашева С.Б. 2017. К истории буддийских монастырей баргутов Хулун-Буира. - Культура Центральной Азии: письменные источники. № 10. С. 62-81.
- Цыбенов Б.Д. 2017. Национально-освободительное движение в Хулун-Буире в первой трети XX в. и визит в регион Панчен-ламы IX в 1931 г. -Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. Т. 21. С. 128-135.
- Цыбенов Б.Д. 2022. Социально-политическая история дауров (XXв.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. 474 с.
- Цыбенов Б.Д., Курас Л.В., Цыремпилова В.Э. 2023. Институты публичной власти в политиях маньчжуро-монгольского мира в 1900-1920 гг. (на примере Хулун-Буира). - Oriental Studies. Т. 16. № 4. С. 718-726.
- Цыбенов Б.Д., Юй Шан. 2018. Буддизм и национализм во Внутренней Монголии в первой четверти XX в. — Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. Т. 26. С. 109-118.
- Atwood C.P. 2002. Young Mongols and Vigilants in Inner Mongolia's Interregnum Decades, 1911-1931. Leiden; Boston; Köln: Brill. 1168 p.
- Atwood C.P. 2005. State Service, Lineage and Locality in Hulun Buir. — East Asian History. Ш. 30. P. 5-22.
- Бодонгуд Абида. 2013. Визит Панчен-ламы в Хулун-Буир и проведение богослужений. — Сборник статей по изучению баргутов. Хулун-Буир: Изд-во культуры Внутренней Монголии. C. 301-311 (на класс. монг. письм.).
- Мягмарсамбуу Г. 2017. Регион Барги в истории Монголии: политическая история (1900-1960гг.). Улаанбаатар: Соембо принтинг ХХК. 338 с. (на монг. яз.).