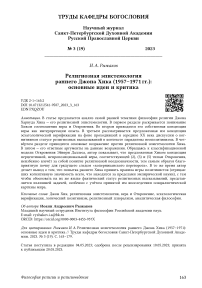Религиозная эпистемология раннего Джона Хика (1957-1971 гг.): основные идеи и критика
Автор: Рыжаков И.А.
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Философия религии и религиоведение
Статья в выпуске: 3 (19), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается анализ самой ранней тематики философии религии Джона Харвуда Хика - его религиозной эпистемологии. В первом разделе раскрывается понимание Хиком соотношения веры и Откровения. Во втором приводится его собственная концепция веры как интерпретации опыта. В третьем рассматривается предложенная им концепция эсхатологической верификации на фоне проходившей в середине ХХ века дискуссии о когнитивном статусе религиозных высказываний в контексте парадигмы неопозитивизма. В четвёртом разделе приводятся основные возражение против религиозной эпистемологии Хика. В пятом - его ответные аргументы на данные возражения. Обращаясь к классификационной модели Откровения Эйвери Даллеса, автор показывает, что предложенная Хиком концепция перцептивной, непропозициональной веры, соответствующей (2), (3) и (5) типам Откровения, неизбежно влечёт за собой понятие религиозной неоднозначности, тем самым образуя благоприятную почву для грядущего следом «коперниканского переворота». В то же время автор делает вывод о том, что попытка раннего Хика принять правила игры позитивистов (отрицавших когнитивную значимость всего, что находится за пределами эмпирической науки), с тем чтобы обосновать на их же языке фактический статус религиозных высказываний, представляется излишней задачей, особенно с учётом принятой им впоследствии плюралистической картины мира.
Джон хик, религиозная эпистемология, вера и откровение, эсхатологическая верификация, логический позитивизм, религиозный плюрализм, аналитическая философия
Короткий адрес: https://sciup.org/140301593
IDR: 140301593 | УДК: 2-1+165:2 | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_3_163
Текст научной статьи Религиозная эпистемология раннего Джона Хика (1957-1971 гг.): основные идеи и критика
Вот уже несколько десятилетий английский философ Джон Харвуд Хик (1922–2012) остаётся самой влиятельной фигурой в рамках плюралистического подхода к религиозному многообразию. Специфика этого подхода состоит в радикальном сдвиге в рамках традиционной для западного религиозного сознания парадигмы через смещение центральной фигуры христианства — самого Христа — на периферию невыразимой Реальности, вокруг которой «вращаются» все божества и абсолюты мировых религий. Работ, посвящённых философии религии Джона Хика, насчитывает великое множество. Само его интеллектуальное наследие, в свою очередь, уходит корнями в его раннюю религиозную эпистемологию, которая проходит красной нитью сквозь весь период его философско- религиозного творчества, начиная с религиозно- апологетического и заканчивая либерально- плюралистическим. Этой теме Хик посвятил свою первую монографию — «Вера и знание» (Faith and Knowledge, 1957), которая по-прежнему занимает важное место в истории аналитической философии. Очень крупный философ религии и эпистемолог Уильям Олстон неоднократно признавал, что книга оказала существенное влияние на становление его собственных философских взглядов1. Кроме того, её публикация спровоцировала целый ряд последующих дискуссий, и их необходимо учитывать при исследовании непосредственно взглядов Хика, поскольку сами они во многом формировались в полемике, которая составляет жизненную среду аналитической философии.
В российской историографии, между тем, ранние эпистемологические разработки Хика по-прежнему остаются в тени его поздних философско-религиозных построений2, которые, к слову сказать, равным образом нуждаются в более тщательном изучении с учётом того, что ни одна из ключевых его работ до сих пор не была переведена на русский язык3. Единственная работа, в которой представлены некоторые аспекты ранней религиозной эпистемологии Хика, вышла в 2018 г. и была посвящена анализу основных точек зрения в рамках позитивистской дискуссии о проблеме верификации языка теологии4. Таким образом, его эпистемологические концепции в этот исходный период его творчества остаются фактически нераскрытыми для отечественного читателя. В этой статье предпринята попытка отчасти заполнить данный пробел.
-
I. Соотношение веры и Откровения
В своей монографии «Вера и знание» Хик, опираясь на мысль М. Бубера, различает два типа веры: с одной стороны, существует вера как познание (лат. fides и греч. pistis ), а с другой — вера как доверие (лат. fiducia и евр. Emunah )5. Разница между ними состоит в том, что в первом случае вера понимается как осознание Бога и Его присутствия в мире, а во втором — как упование на Его благой замысел и любовь по отношению к человеку, даже несмотря на множественные свидетельства об обратном6. Причём первый тип веры, согласно Хику, логически предшествует второму, т. е. чтобы человек мог довериться Богу, он должен иметь какое-то предварительное знание о Нём. Как именно такое возможно, является одним из главных вопросов, на который Хик попытался ответить в рамках своей религиозной эпистемологии. Соответственно, именно первый (эпистемический) тип веры — веры как способа познания Бога — попадает в основной фокус его внимания.
Прежде чем перейти непосредственно к самой концепции Хика, следует сказать о том понимании когнитивной веры, с которым он не согласен, но которое, как он показывает, превалирует в западном христианском сознании благодаря влиянию томистско- католической богословской традиции. Речь идёт о т. н. пропозициональном взгляде на веру. В соответствии с ним вера мыслится как пропозициональная установка, выраженная в интеллектуальном согласии с догматическими положениями (propositions), основанном на предварительном доверии к ним. Главная особенность этого взгляда в том, что непосредственным объектом веры здесь выступает не Бог сам по себе, а те открытые Им богословские истины, которые зафиксированы в догматических формулировках. Кроме того, вера и знание, согласно этой позиции, взаимоисключают друг друга. «Знание, — как пишет Хик, — здесь означает непосредственное наблюдение, либо способность привести неопровержимые доказательства. И там, где это возможно, нет места для веры»7.
В качестве альтернативы этой позиции Хик предлагает такое понимание религиозной веры, которое, по его словам, «было сокрыто в благочестии простых верующих, а затем проявилось в основных течениях протестантского богословия XX в»8. Согласно этому пониманию, Откровение заключается не в сообщении Богом религиозных истин, а в Его самораскрывающихся действиях на протяжении всей человеческой истории (т. е. Heilsgeschichte, или священная история). Кроме того, Откровение здесь мыслится как союз между действием Бога и восприятием этого действия человеком. С этой точки зрения, вера состоит не в интеллектуальном согласии с провозглашёнными Богом истинами (догматические формулировки даны лишь для того, чтобы помочь нашему разуму приблизиться к переживаемому нами религиозному опыту, который можно будет передать и другим). Она состоит «в человеческом восприятии неоднозначных событий в качестве событий Откровения и, следовательно, в восприятии их как событий, опосредующих присутствие и действие Бога»9.
Из сказанного выше становится очевидным, что само противопоставление двух типов Откровения — как (1) совокупности пропозиций и как (2) священной истории, играет очень важную роль в концепции Хика. Отметим, что в рамках более поздней классификационной модели Эйвери Даллеса насчитывается в общей сложности пять типов Откровения: 1) Откровение как доктрина (набор догматических истин, или пропозиций); 2) Откровение как история (действия Бога в мировом процессе); 3) Откровение как внутренний опыт (непосредственное общение с Богом); 4) Откровение как диалектическое присутствие (вечное в историческом, бесконечное в конечном и т. д.); 5) Откровение как новое сознание (трансцендентное осуществление внутренней устремлённости человеческого духа к более полному осознанию реальности)10.
-
II. Вера как интерпретация опыта
Осознание бытия Бога, с точки зрения Хика, происходит в личном опыте человека; причём этот опыт не изолирован от остального опыта, а, напротив, им опосредован таким образом, что сверхъестественное становится доступным в естественном и через него. Основополагающую роль в этом процессе играет понятие значения (significance)11, которое Хик определяет как «фундаментальное и всепроникающее свойс тво нашего сознательного опыта, благодаря которому наш опыт de facto становится опытом восприятия “мира”, а не чистого вакуума или бурлящего хаоса»12. Это значение постигается в акте интерпретации, который, по Хику, может быть направлен на три вида бытия, или порядка значений (orders of significance), соответствующих тройственному делению Вселенной: природный, человеческий и божественный. При этом каждый последующий порядок опосредован предыдущими. Хик демонстрирует это на примере, близкому к евангельской притче о милосердном самарянине, где путник натыкается на раненого незнакомца, лежащего у дороги и нуждающегося в помощи. На природном уровне перед ним лишь особое расположение объектов в пространстве, в то время как на человеческом — путник открывает перед собой нравственный выбор: оказать или не оказать помощь. Этот выбор возлагает на него категорический императив, призывающий помочь раненому. Однако без восприятия природного уровня нравственный не был бы доступен. Таким же образом и божественный уровень становится доступным лишь через необходимое посредство природного и нравственного порядков. Следовательно, всякий объект или опыт, попадая в наше сознание, согласно Хику, проходит этот необходимый этап интерпретации13.
Кроме того, на каждом из этих уровней бытия доступна разная степень свободы. Если материальный мир мы воспринимаем практически одинаково, независимо от наших предпочтений14, то на эстетическом и нравственном уровнях наши впечатления и интерпретации разнятся. В свою очередь, божественный или религиозный уровень открывает максимальную степень свободы, и потому он может быть доступен только в добровольном акте интерпретации, который Хик называет верой. Он пишет: «Чтобы человек был [полноценной] личностью, Бог должен быть deus absconditus 15. Иначе говоря, Он должен удалиться, скрывшись за своим творением и предоставив нам свободу признавать или не признавать Его общение с нами»16 (позднее Хик введёт для этого даже специальный термин — «эпистемическая дистанция»17). В то же время на высших уровнях «интенсивности» религиозного опыта вера, согласно Хику, приобретает принудительный характер, при котором верующий не может не верить в Бога: «Апостол, пророк или святой … настолько ясно осознаёт Бога, что уже не способен усомниться в истинности своего религиозного сознания, как и в истинности своего чувственного опыта. … Осознание Бога для тех, кто его имеет, может быть таким же принудительным, как и наше обычное осознание других людей и материального окружения»18.
Отсюда, религиозная интерпретация касается не только божественного уровня, но и восприятия человеком всей реальности целиком, т. е. является всецелостной интерпретацией (total interpretation). А потому каждый человек имеет врождённую предрасположенность интерпретировать Вселенную религиозно, через сверхъестественное, вера в которое, по Хику, является неотъемлемой частью любой религии. Так, он пишет: «Я думаю, что, несмотря на поразительное разнообразие, существует единый основополагающий фактор во всём, что когда-либо по общему согласию называлось религией. И это есть вера (имплицитная или эксплицитная) в то, что окружающая человека действительность есть нечто большее, чем кажется; что помимо естественного, существует сверхъестественное, пронизывающее его и простирающееся за его пределами или над ним, как более обширная реальность, с которой люди должны соотносить себя в действиях, предписанных их культом»19.
Таким образом, человек открывает Бога в восприятии реальности, которую он всецело интерпретирует в религиозном акте веры. Этот процесс Хик называет « переживанием-как» (experiencing-as), заимствуя (и расширяя20) витгенштейновский термин « видение-как» (seeing-as)21. В качестве примера множественности интерпретаций Витгенштейн использовал двусмысленный рисунок кролика-утки, значение которого зависит от угла зрения смотрящего. Хик, в свою очередь, развивает свой тезис о религиозной неоднозначности, или двусмысленности Вселенной, в соответствии с которым нашу реальность в равной степени можно интерпретировать как религиозно, так и нерелигиозно: одни и те же события, которые для неверующего являются не более чем чередой естественных явлений, в глазах верующего приобретут религиозное значение и будут пониматься как участие Бога в мировом процессе22.
Дэвид Читем интересно подмечает, что Хик тем самым поставил религиозную веру в один ряд с любой другой верой (поскольку всякая вера, по своей сути, есть интерпретация, или « переживание-как»), придав ей «такую обоснованность, которую можно отрицать только ценой сомнения во всякой вере»23.
-
III. Эсхатологическая верификация
Однако если пойти дальше, то можно заметить, что религиозная вера у Хика находит себе и куда более узкоспециализированную функцию, которая отсылает нас к вышеупомянутой дискуссии о верифицируемости и фальсифицируемости языка теологии. Речь в ней шла о том, могут ли богословские высказывания иметь статус утверждений и отвечать критериям рациональности или же они в принципе лишены таковой значимости в том смысле, в котором об этом говорили такие представители логического позитивизма, как Энтони Флю и Ричард Хэр24. Если у первого автора бессмысленность положений веры была обусловлена невозможностью их верификации (и, соответственно, фальсификации), то у второго акцент смещается на неверифицируемость (и нефальсифицируемость) самой индивидуальной рамки интерпретации, называемой бликом (blik), в котором религиозный язык имеет значение для верующего. Так или иначе, оба автора были созвучны в том, что возможность в равной мере верифицировать и фальсифицировать высказывание является необходимым условием для установления его когнитивной (а значит, и фактической) значимости25.
С точки зрения Хика, это совсем не обязательно, поскольку бывают ситуации, в которых доступна лишь одна возможная процедура. В качестве примера он предлагает высказывание, что в числе π есть три последовательные семёрки. Насколько можно судить, в значении π такая ситуация не встречается, однако, как пишет Хик, «всегда будет истинным то, что такой ряд может возникнуть в точке, ещё не достигнутой ни в чьих расчётах»26. Соответственно, данное предсказание теоретически возможно верифицировать в перспективе вычисления, однако его будет невозможно фальсифицировать. Подобным образом могут быть устроены и религиозные высказывания, которые влекут за собой определённые предсказания. В качестве примера Хик использует высказывание «Бог существует» (в христианском понимании), которое может быть верифицировано личным посмертным опытом умершего (и, соответственно, только для него одного) при окончательном переходе в загробную жизнь, но никогда не будет фальсифицировано в случае отсутствия такого опыта (поскольку человек перестаёт существовать)27. Такое высказывание, как пишет Хик, «может быть ложным, но то, что оно ложно, никогда не может быть фактом, который кто-либо эмпирически верифицировал. Это обстоятельство, однако, не подрывает значимость гипотезы, поскольку если она истинна, то об этом будет известно»28.
Этот тезис Хик развивает на примере притчи о двух путниках. Один из них верит в посмертную жизнь в Граде Небесном, другой — материалист. Оба проживают одни и те же события, но интерпретируют их по-разному. Кто из них был прав, а кто заблуждался в своём мировоззрении во время их земного странствия (in via), станет ясно только тогда, когда они достигнут своего конечного пункта (in patria). И хотя предполагаемый опыт верующего о своём дальнейшем загробном существовании не может быть доказательством истинности его текущей религиозной картины мира, само предположение этого опыта, согласно Хику, даёт верующему достаточно оснований, чтобы его выбор между теистической верой и атеизмом был абсолютно реальным, а не просто голословным29.
В то же время эсхатологическая верификация отнюдь не исключает логической возможности ошибиться30. Однако, чтобы она была осуществимой, необходимо, чтобы верующий мог каким-то образом помыслить себе тот посмертный опыт, который при переходе в загробную жизнь верифицировал бы его веру. Хик предлагает два примера такого опыта. Во-первых, это опыт исполнения божественного замысла в отношении человека, который может заключаться в приведении последнего в кругу своих собратьев к определённому качественно новому состоянию его жизни, отражённому в образе Христа31. А во-вторых, опыт непосредственного общения с Богом, который будет заключаться в личной встрече с Иисусом Христом во всей Его божественной славе32. Причём такой опыт, как утверждает Хик, вовсе не обязан соответствовать всем требованиям логического доказательства. Вся ответственность за верификацию в данном случае лежит исключительно на плечах самого верующего. И тем не менее, согласно Хику, это даёт право присвоить религиозному высказыванию «Бог существует» статус фактического утверждения33.
Само собой, такая верификация не может быть доступна каждому, однако и здесь Хик не видит большой проблемы, поскольку в каждом отдельном случае процедура верификации будет зависеть от природы исследуемого объекта. К примеру, утверждение «“в соседней комнате есть стол”, влечёт за собой условное предсказание в виде: “если кто-то зайдёт в соседнюю комнату, то он увидит…” и т. д. Но никто не принуждён идти в соседнюю комнату». По тому же принципу и утверждение о существовании Бога ввиду своей специфики может быть верифицировано (на добровольной основе) лишь посмертно и только теми, кто уже «открыл для себя знание (курсив наш. — И. Р. ) Бога религиозным способом апперцепции, который мы называем верой»34.
Верификация для Хика, таким образом, является понятием одновременно и логическим, и психологическим, поскольку её главный смысл состоит в устранении оснований для рационального сомнения, и в этом она сопоставима со знанием35. Равным образом и веру Хик понимает как особую форму знания. С его точки зрения, бессмысленно ожидать от веры полного соответствия картезианской теории непогрешимого знания, поскольку её требования являются недостижимыми практически для любого нашего когнитивного опыта. Как он пишет, «нет такого состояния или деятельности ума, называемого “знанием”, которое влекло бы за собой абсолютную гарантию свободы от заблуждения»36. Здесь он опирается на мысль Локка, что «“знать” и “быть уверенным” (to know and to be certain) — это одно и то же»37, и предлагает рассматривать знание исключительно как слово- удостоверение (a diploma word), которое фактически отождествляется с обещанием, позволяющим полагаться на сделанное заявление. Тем не менее простой уверенности недостаточно, чтобы претендовать на знание. Оно должно быть рационально обоснованным. Этой обоснованностью Хик считает возможность для остальных быть уверенными в том утверждении, в котором уверены мы сами, и это, с его точки зрения, делает данное утверждение объективным38.
В результате знание, с одной стороны, может быть только тогда, когда предмет знания соответствует действительности, а с другой стороны, даже если впоследствии выяснится, что оно было неверным, само притязание на знание до того момента вполне оправдано рациональной уверенностью, что это знание истинно39. Таким же образом и религиозный верующий, убеждённый в реальности Бога на собственном опыте, согласно Хику, может претендовать на то, чтобы называть эту форму опыта знанием40.
-
IV. Критика
Религиозная эпистемология Джона Хика спровоцировала бурную философскую дискуссию, представляющую для исследователей ничуть не меньший интерес. Наибольший резонанс вызвала теория эсхатологической верификации. Один из первых её критиков, Кай Нильсен, упрекал Хика в том, что тот использует в ней христианские термины, не имеющие за собой точного смысла, в то время как верификация может быть осуществима лишь тогда, когда значения используемых в ней терминов станут когнитивно осмысленными в полной мере; следовательно, чтобы подтвердить высказывание «Бог существует», необходимо иметь предварительное знание о том, что означает, что Бог существует. Согласно Нильсену, Хик совершает здесь логическую ошибку, когда формулирует в качестве критериев верификации такие предсказания, которые уже содержат в себе религиозные термины («Христос», «божественный замысел»), напрямую зависимые от понятия «Бог», что рав носильно попытке «поднять себ я за шнурки собственных ботинок»41.
Роберт Эйерс, с другой стороны, находит среди прочего следующее противоречие, которое Хик допускает в рамках концепции эсхатологической верификации. Оно заключается в том, что в качестве критерия верификации высказывания «Бог существует» Хик предлагает опыт встречи со Христом, предполагающий изначальное проявление доверия к нему. Соответственно, если поначалу Хик утверждал, что вере как доверию ( fiducia ) логически предшествует вера как познание ( fides )42, то здесь он меняет их местами, ставя в первичное положение доверие авторитету Христа, которое, в свою очередь, даёт право утверждать, что Бог существует43. Согласно К. Клейну, проблема, вероятно, была бы решена, если бы Хик изначально утверждал, что Христос безусловно является Богом, а поскольку такого заявления он не делал44, то, как полагает исследователь, вряд ли посмертная встреча с Иисусом из Назарета сделает существование Бога более очевидным45.
Ещё одну серьёзную проблему в концепции Хика находит Джерри Гилл. Он отмечает, что эсхатологическая верификация применима лишь к тем религиозным (христианским) утверждениям, которые относятся исключительно к посмертному опыту. Соответственно, как быть с тем огромным пластом христианского языка, не имеющего прямого отношения к эсхатологии?46 Сама неспособность теории Хика обосновать религиозную веру на основе данных опыта в рамках земной жизни (поскольку такой опыт может в равной мере интерпретироваться и натуралистически), согласно Гиллу, лишает веру всякой ответственности. Главную причину такой тупиковой ситуации он видит в том, что Хик не провёл никакой связи между верой и текущим человеческим опытом и тем самым исключил какой-либо способ установления когнитивной значимости утверждений о религиозном опыте здесь и сейчас47. C другой стороны, если такой способ и можно установить, то эсхатологическая верификация станет просто расширением такого эмпирического критерия, но отнюдь не решающим фактором48. Это ставит справедливый вопрос, насколько нужна эта идея в рамках его религиозной эпистемологии49.
Наряду с этим серьёзные возражения вызвала и предложенная Хиком теория знания. Уильям Кенник, в частности, указывал, что локковское высказывание «знать и быть уверенным — это одно и то же», на который опирается Хик, представляет собой всего лишь лингвистический трюизм, означающий, что одно выражение можно заметить другим. Однако из этого не следует, что высказывание «я знаю, что p» будет иметь тот же эпистеми-ческий статус, что и высказывание «я субъективно уверен, что p». Последнее скорее говорит о том, что человек чувствует уверенность в чём-то, но это не значит, что он готов назвать это чувство уверенности знанием50. Как указывает Джон Ллуэлин, Хик «необоснованно отождествляет концепцию знания, существующую в стандартном употреблении английского языка, с крайне узкой рационалистической концепцией, согласно которой знание p предполагает способность доказать p»51, и в силу этого он видит необходимость обойти эту концепцию, предложив ей более «жизнеспособную» альтернативу. Однако это приводит его к такой ситуации, что «человеческое знание никогда не сможет подняться выше статуса субъективной уверенности»52, а в худшем случае — к таким противоречиям, как, например, «Бертран Рассел так же рационально уверен в ложности всех онтологических утверждений христианского теизма, как Хик в истинности некоторых из них»53.
В этой связи всплывает и проблема в рамках хиковской концепции веры как интерпретации опыта, которая строится на введённом им понятии « переживание-как». Джерри Гилл обращает внимание, что, когда Хик заимствует у Витгенштейна идею « видение-как», он недостаточно глубоко следует за мыслью самого автора этой идеи и тем самым сводит её к т. н. «витгенштейновскому фидеизму». Между тем такое ограниченное понимание опровергается при более тщательном анализе второй части «Философских исследований», в которых нигде не подразумевается, что одни способы « видения-как» не могут быть более ответственными и убедительными, чем другие54. Более того, при тщательном анализе обнаруживается, что Витгенштейн прямо отрицал, что всё наше видение есть « видение-как», и даже, напротив, говорил об узком применении этого концепта в отдельных ситуациях. Это, в свою очередь, ставит под вопрос и правомерность расширения этого концепта до « переживания-как»55.
Однако куда критичнее, согласно П. Хелму и Дж. Гиллу, дело обстоит с вопросом, к каким следствиям предложенная концепция веры как интерпретации опыта может привести. Авторы упрекали Хика в том, что та самая когнитивная свобода, которая, согласно ему, доступна на третьем (высшем) уровне бытия и которая ставит теистическую и атеистическую интерпретации в равное положение с точки зрения притязаний на истинность, приводит к тому, что вера фактически сводится к простому воображению56, а вместе тем и Откровение оказывается совершенно произвольным, поскольку ставится «“вне” вопросов проверки и ратификации сообществом»57.
Такая ситуация, как можно заметить, обусловлена спецификой подхода, который Хик изначально избирает в рамках своей религиозной эпистемологии. Речь идёт об уже упомянутом выше противопоставлении двух типов Откровения — пропозиционального и священноисторического. С одной стороны, для британского философа принципиально важно, что теистическая вера не сводится к интеллектуальному согласию с вероучительными истинами (пропозициями); она есть живая вера, поскольку всегда привязана к опыту повседневной жизни. Вера также не может быть временной гипотезой, она должна быть безоговорочной, поскольку является результатом Откровения (подобно вере пророков). Однако, с другой стороны, как показывает Дэвид Конуэй, получается так, что этот яркий акцент Хика на несводимости Откровения к пропозициональному компоненту не позволяет ему заметить, что вера пророков неизбежно предполагает наличие определённых пропозиций, поскольку иначе она превращается в простое видение, подобно видению чайки, плавающей вдалеке в море, о которой нельзя с уверенностью сказать, действительно ли это она или, может быть, это указательный буй для ныряльщиков; как бы там ни было, у наблюдателя нет какой-либо определённой веры, которую бы он испытывал в отношении наблюдаемого им объекта по причине отсутствия пропозиционального элемента58. Более того, сам по себе опыт не всегда является достаточным основанием для веры, поскольку бывает так, что человек не вполне уверен, что именно он испытывает (или наблюдает), и для этого может потребоваться процедура проверки, которая преодолела бы тот самый разрыв между перцептивным и рациональным компонентами опыта59.
-
V. Ответы Хика на критику
Прежде чем перейти к ответным возражениям Хика, важно отметить, что они были высказаны им уже в контексте его поздних взглядов, т. е. после т. н. «коперниканского переворота», в силу чего многие из тех проблем, которые он стремился разрешить с помощью ранних проектов религиозной эпистемологии и философской теологии, нашли свой выход уже в свете плюралистической картины религиозного мира. Если попытаться суммировать представленные Хиком аргументы, то ситуация разворачивается следующим образом.
Во-первых, Хик не соглашается с тем, что фактические утверждения могут быть верифицированы исключительно с помощью нерелигиозных терминов, поскольку сама процедура верификации должна осуществляться с точки зрения опыта. Как он пишет, «в этой нынешней жизни уже существует предполагаемое осознание Бога, выраженное в религиозных утверждениях, которые понятны верующему (что, конечно, не означает, что он когда-либо полностью понимал Бога). Эти утверждения являются частью единого комплекса убеждений, которые включают в себя эсхатологические верования, и именно эти последние придают системе в целом статус фактического утверждения»60.
Во-вторых, Хик не соглашается с тем, что без окончательной формулировки критериев верифицируемости не может быть никакого дальнейшего разговора61. С его точки зрения, в этом нет никакой необходимости, поскольку «центральное ядро позитивистского утверждения представляется неоспори-мым»62 и ничто не мешает отделить осмысленное утверждение от бессмысленного уже сейчас63. Для этого он предлагает рассмотреть процедуру верификации в виде некоей шкалы степеней, на вершине которой будет находиться полное исключение какого-либо рационального сомнения — иными словами, когнитивная убеждённость. Соответственно, чем проще объект верификации, тем легче будет его верифицировать (например, то же утверждение «В соседней комнате есть стол»). Если же утверждение носит более сложный характер, как например, «Джон Смит является честным человеком», то для этого может потребоваться несколько различных способов наблюдения; a fortiori качественно иного способа потребует верификация утверждений о Боге64.
Таким способом является постепенная личностная трансформация, представляющая собой «приближение к совершенству», по мере которого «мы будем становиться всё более открытыми для Бога и осознавать Его в условиях, в которых неоднозначности этой жизни останутся позади и в которых божественная доброта и любовь будут всё более явно выражены»65. Конечная точка этой трансформации есть непосредственное созерцание Бога в Его Царстве66. И коль скоро на данном этапе уже не может быть какой-либо дальнейшей религиозной неоднозначности, у скептиков не будет никакой возможности по-прежнему оставаться в атеистическом мировоззрении: «…ведь небеса — это конечное состояние совершенного общения между Богом и Его созданиями»67.
Поскольку любой человеческий опыт, согласно Хику, есть « переживание-как», то опыт религиозного верующего будет переживанием присутствия Бога, и, таким образом, вопрос состоит в том, будет ли его теистическая картина мира в конечном счёте подтверждена на высшей стадии верификации, приобретя статус когнитивной убеждённости. Хик полагает, что именно эту задачу и решает процедура верификации, применимая к эсхатологическому типу религии. С другой стороны, если загробный мир будет представлять собой «вселенную, в которой бесконечно доминирует злая сила», то это фальсифицирует христианский (или иной) теизм, что также не оставит места для дальнейшей когнитивной неопределённости68.
Заключение
Религиозная эпистемология раннего Джона Хика, как мы увидели, представляет собой очень насыщенный и в то же время неоднородный продукт, вмещающий в себя целый ряд тем — веры и Откровения, знания и рациональной уверенности, верификации и религиозного языка, земного и посмертного видов опыта, а также проблему их соотношения. Центральный вопрос, который объединяет все эти темы и на который Хик попытался ответить в рамках данного проекта, состоял в том, какова природа, или эпистемологический характер религиозной веры и может ли она претендовать на статус знания. Предложенный Хиком ответ едва ли мог удовлетворить всех, с кем он полемизировал.
И здесь будет целесообразным снова обратиться к классификационной модели Даллеса, в соответствии с которой хиковское понимание веры и Откровения в ранний период органично укладывается во второй и третий типы (т. е. священная история и внутренний опыт), а после «коперниканского переворота» его основной акцент смещается на пятый тип (духовное стремление к более полному осознанию реальности)69. Причём ключевую роль на раннем этапе в его концепции играет противопоставление второго типа Откровения первому. Стивен Дэвис справедливо видит некоторую искусственность этого противопоставления70, однако без него ранние философские разработки Хика не получили бы своего дальнейшего развития.
На основе проведённого анализа можно ли сказать, что Хику удалось ответить на предъявленную ему критику? Ответ напрашивается двоякий: и да и нет. Само обращение Хика к неопозитивизму, и в самом деле, поставило его в такие условия, которые потребовали от него практически невыполнимой задачи: с одной стороны, показать, что религия в определённом смысле может отвечать критериям научности (в главной степени через его попытку установить фактический статус религиозного языка), а с другой стороны, показать её несводимость к эмпирической реальности (через понятия веры и Откровения). В то же время, определив знание как рациональную уверенность, а веру исключительно как интерпретацию опыта, убрав из неё пропозициональный элемент, Хик приходит к позиции религиозной неоднозначности реальности, и тем самым попадает в ситуацию, при которой окончательный ответ не может быть найден в рамках защищаемого им же самим христианства. И в этом смысле можно констатировать наглядный «успех» его религиозной эпистемологии, поскольку именно она обеспечила ему гарантированный переход к религиозно-плюралистической картине мира.
Список литературы Религиозная эпистемология раннего Джона Хика (1957-1971 гг.): основные идеи и критика
- Локк Дж. Сочинения: в 3 т. / Пер. с англ.; ред. кол. М. Б. Митин (пред.) и др. Т. 2. М.: Мысль, 1985. 560 с.
- Олстон У. П. Восприятие Бога. Эпистемология религиозного опыта / Пер. с англ. К. В. Карпова; под ред. А. М. Гагинского. М.: Академический проект, 2022. 471 с.
- Польское К.О. Верификация и теология // Вопросы философии. 2018. №9. С. 90-100.
- Рахманин А. Ю. Философия религии Дж. Уиздома и философская теология в раннем витгенштейнианстве // Философия религии: аналитические исследования. 2022. Т. 6 (1). С. 5-23.
- Хик Дж. Пятое измерение: Мистические и духовные учения от древнейших времён до наших дней / Пер. с англ. М. Холомина. М.: Фаир-Пресс, 2002. 416 с.
- Хромцоеа М. Ю. Плюралистическая теология о возможных стратегиях на пути к конструктивному сосуществованию религий // Вестник РХГА. 2019. № 20 (3). С. 221-234.
- Шохин В. К. Основные категории межрелигиозного диалога: от мнимой самоочевидности к проблематизации // Христианское чтение. 2018. № 3. С. 183-191.
- Шохин В.К. Самоочевидно ли «откровение»? Размышляя над типологией Эйвери Даллеса // Философия религии: аналитические исследования. 2018. Т. 2 (2). С. 5-24.
- Alston W.P. John Hick: Faith and Knowledge // God, Truth, and Reality: Essays in Honour of John Hick / Ed. by A. Sharma. Eugene, Oregon, 2011. P. 24-30.
- Ayers R. H. Theological Discourse and the Problem of Meaning // Canadian Journal of Theology. 1969. Vol. 15 (2). P. 112-121.
- Bedau H.A. Faith and Knowledge: A Modern Introduction to the Problem of Religious Knowledge, by J. Hick. Ithaca, Cornell University Press, 1957. xix + 221 p.; Faith and Logic: Oxford Essays in Philosophical Theology, edited by B. Mitchell. Boston: The Beacon Press, 1957. 222 p. // Theology Today. 1958. Vol. 15 (1). P. 138-141.
- Binkley L. J., Hick J. H. What Characterizes Religious Language? // Journal for the Scientific Study of Religion. 1962. Vol. 2 (1). P. 18-24.
- Cheetham D. John Hick: A Critical Introduction and Reflection. Aldershot: Ashgate, 2003. 196 p.
- Conway D.A. Hick, Faith, Science, and the Twentieth Century // Philosophy Research Archives. 1981. Vol. 7. P. 182-222.
- Davis S. Christian Philosophical Theology. Oxford: Oxford University Press, 2006. 322 p.
- Dulles A Models of Revelation. N. Y.: Garden City, 1983. xi, 345 р.
- Gill J.H. John Hick and Religious Knowledge // International Journal for Philosophy of Religion. 1971. Vol. 2 (3). P. 129-147.
- Helm P. The Varieties of Belief. L.: George Allen & Unwin; N. Y.: Humanities Press, 1973. 189 p.
- Hick J. A Comment on Professor Binkley's Reply // Journal for the Scientific Study of Religion. 1963. Vol. 2 (2). P. 231-232.
- Hick J. An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent. 2nd ed. L.: Macmillan, 2004. 416 p.
- Hick J. Christianity at the Centre. L.: Macmillan, 1968. 124p.
- Hick J. Eschatological Verification Reconsidered // Religious Studies. 1977. Vol. 13 (2). P. 189-202.
- Hick J. Evil and the God of Love. 2nd ed. Basingstoke: Macmillan, 1985. 389p.
- Hick J. Faith and Knowledge. 2nd ed. reissued. Ithaca; London: Cornell University Press, 1966. x, 268 p.
- Hick J. Faith and the Philosophers. L.: Macmillan, 1964. viii, 256 p.
- Hick J. John Hick: An Autobiography. Oxford: Oneworld, 2002. 328 p.
- Hick J. Positivism and Christianity: A Study of Theism and Verifiability, by Kenneth H. Klein. Nijhoff, 1974. xi+183p. // Philosophical Books. 1975. Vol. 16. P. 27-29.
- Hick J. Religious Faith as Experiencing-As // Royal Institute of Philosophy Lectures. 1968. Vol. 2. P. 20-35.
- Hick J. Theology and Verification // Theology Today. 1960. Vol. 17 (1). P. 12-31.
- Keeling L.B., Morelli M.F. Beyond Wittgensteinian Fideism: An Examination of John Hick's Analysis of Religious Faith // International Journal for Philosophy of Religion. 1997. Vol. 8 (4). P. 250-262.
- Kennick W.E. Faith and Knowledge: A Modern Introduction to the Problem of Religious Knowledge, by J. Hick. Ithaca, Cornell University Press, 1957. xix + 221 p. // The Philosophical Review. 1958. Vol. 67 (3). P. 407-409.
- Klein K.H. Positivism and Christianity: A Study of Theism and Verifiability. Nijhoff, 1974. 194 p.
- Llewelyn J.E. Three Conceptions of Faith // The Journal of Philosophy. 1964. Vol. 61 (8). P. 237-244.
- Mathis T. S. Against John Hick: An Examination of his Philosophy of Religion. Boston: University Press of America, 1985. 148 p.
- Mavrodes G. God and Verification // Canadian Journal of Theology. 1964. Vol. 10. P. 139-160.
- New Essays in Philosophical Theology / Ed. by A. Flew, A. MacIntyre. L.: SCM Press, 1963. x, 274p.
- Plantinga A. God and Other Minds. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1967. xi, 277 p.
- Shokhin V. Copernican Upheaval in Philosophy of Religion or Updating of the Old Heritage? John Hick and Classical Deism // Filo-Sofija. 2018. Vol. 42 (3). P. 93-106.