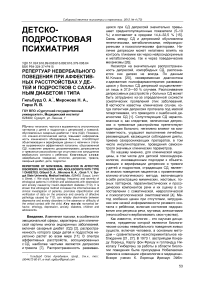Репертуар невербального поведения при аффективных расстройствах у детей и подростков с сахарным диабетом I типа
Автор: Гильбурд Олег Аркадьевич, Миронова Н.А., Гирш Я.В.
Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin
Рубрика: Детско-подростковая психиатрия
Статья в выпуске: 4 (73), 2012 года.
Бесплатный доступ
Изучены типология, частота и выраженность этологических паттернов у детей и подростков с депрессией и тревогой, обусловленных сахарным диабетом I типа (СДI). Показано, что клинико-этологический метод повышает информативность клинического обследования больных, способствует объективизации и верификации данных о наличии и степени выраженности аффективной патологии, обусловленной СДІ, позволяет уверенно дискриминировать депрессивные и тревожные расстройства при отсутствии или затруднении вербального контакта с ребёнком.
Невербальное поведение, этология, депрессия, тревога, сахарный диабет, дети, подростки
Короткий адрес: https://sciup.org/14295586
IDR: 14295586 | УДК: 57.024:616.89-008:616.892:616.379-008.64
Текст научной статьи Репертуар невербального поведения при аффективных расстройствах у детей и подростков с сахарным диабетом I типа
REPERTOIRE OF NONVERBAL BEHAVIOR IN AFFECTIVE DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH TYPE 1 DIABETES. Gilburd O. A. , Mironova N. A. , Girsh Y. V. Surgut State University, Medical Institute. 628400, Surgut, Lenin’ s Street, 1. We study the typology, frequency and severity of ethological patterns in children and adolescents with depression and anxiety caused by insulin-dependent diabetes (T1D). It is shown that ethological method increases the informativeness of clinical investigation of patients, promotes objectification and verification of data on the presence and severity of affective pathology caused by T1D, can reliably discriminate between depressive and anxiety disorders in the absence or difficulty of the verbal contact with the child. Key words : nonverbal behavior, ethology, depression, anxiety, diabetes, children and adolescents.
Введение. Изменения психики, в особенности эмоциональной сферы, характерны для клинической картины многих эндокринных заболеваний, включая сахарный диабет (СД) [2], распространенность которого среди детей и подростков неуклонно растет во всем мире [11]. В спектре аффективных расстройств, ассоциированных с СД, наиболее частыми являются депрессия и тревога [7]. Распространенность развиваю- щихся при СД депрессий значительно превышает среднепопуляционные показатели (5–10 %) и составляет в среднем 14,4–32,5 % [15]. Связь между СД и депрессией обусловлена генетическими, метаболическими, нейроэндокринными и психологическими факторами. Наличие депрессии может негативно влиять на контроль гликемии как через нейроэндокринные и метаболические, так и через поведенческие механизмы [26].
Несмотря на значительную распространенность депрессий, коморбидных СД, распознаются они далеко не всегда. По данным M. Kovacs [20], своевременная диагностика и адекватная психофармакотерапия развивающихся у больных СД депрессий осуществляется лишь в 37,5—50 % случаев. Распознавание депрессивных расстройств у больных СД может быть затруднено из-за определенной схожести соматических проявлений этих заболеваний. В частности известны клинические случаи, когда латентная депрессия протекала под маской гипергликемии, что приводило к ошибочной диагностике СД [1]. Сопутствующие СД нераспознанные и, как следствие, нелеченные депрессии и тревожные расстройства препятствуют адаптации больного, негативно влияют на ком-плаентность, ухудшают выполнение лечебных рекомендаций, касающихся соблюдения диеты, приема сахароснижающих препаратов, в том числе инсулинотерапии, проведения самоконтроля значимых клинических параметров.
По нашему мнению, для клинической медицины, в том числе для детской психоэндокринологии, инновационным подходом к объективизации и верификации депрессии и тревоги у детей и подростков, страдающих СД, является анализ поведения пациентов с применением клинико-этологического метода, включающего в себя регистрацию мимических, жестовых, по-зных паттернов, паралингвистических и просодических компонентов речи и их оценку в сопоставлении с соматической, неврологической и психопатологической симптоматикой [4]. Метод особенно ценен при отсутствии, затруднении или низкой информативности речевого контакта с ребёнком, включая состояния недоразвития или регресса речи, мутизма, алекситимии (неспособности вербализовать свои чувства).
Как известно, этология - это научная дисциплина, предметом которой являются биологические основы невербального поведения живых существ, включая человека, а основным методом – сравнительное неэкспериментальное наблюдение [21, 27]. В 1973 г. австрийцам Конраду Лоренцу, Карлу фон Фришу и голландцу Николасу Тинбергену за работы в области биологии поведения была присуждена Нобелевская премия в номинации «физиология и медицина». Вскоре ученик К. Лоренца Иренаус Эйбл-
Эйбесфельдт ввёл в научный обиход понятие «human ethology» [16] и возглавил первый и единственный в мире Институт этологии человека на базе Института сравнительной физиологии общества Макса Планка (Андекс, Германия). В середине 1970-х гг. в серии экспериментов было установлено, что в диалоге между людьми 65—80 % информации транслируется по невербальным каналам коммуникации (зрение, слух, осязание и обоняние), лишь 20—35 % - посредством речи [18].
В 1977 г. появился термин «этологическая психиатрия» [22], хотя первые исследования невербального поведения при психических (в том числе аффективных) расстройствах проводились с середины 1960-х гг. [24].
В 1980-х гг. была высказана мысль, что невербальные признаки депрессии не являются реакцией тела на понижение настроения, а должны рассматриваться как относительно независимые симптомы, возникающие даже раньше, чем снижение настроения и ангедония при аффективном расстройстве [28]. В 1990 г. была издана по-прежнему единственная в своём роде коллективная монография крымских авторов «Этология в психиатрии» [9], в которой впервые в русскоязычной литературе было описано невербальное поведение больных с выраженными и стойкими расстройствами настроения при эндогенных психозах. Клиникоэтологическому анализу рекуррентной депрессии посвящено диссертационное исследование томского психиатра А. В. Ермакова [8].
Все эти малочисленные работы выполнены на материале пациентов зрелого возраста. В доступной отечественной и зарубежной литературе, посвящённой диагностике аффективных расстройств у детей и подростков, в том числе больных СД, мы не встретили исследований репертуара их невербального поведения.
Цель и задачи. С учётом вышеизложенного целью настоящей работы мы определили регистрацию и типологическую систематизацию этологических паттернов аффективной патологии у детей и подростков, страдающих СД I типа (СДI). В соответствии с поставленной целью в задачи исследования входили, во-первых, выявление, синдромальная дискриминация и определение частоты и выраженности аффективных нарушений в изучаемой группе пациентов; во-вторых, анализ поведенческих признаков, ассоциированных с выявленными эмоциональными расстройствами.
Материал и методы. Материал исследования – 57 пациентов (36 девочек и 21 мальчик) школьного возраста (9—17 лет) с СДI, диагностированным в соответствии с принятым в РФ стандартом [6], с длительностью заболевания 4,5±2,8 года. У 55 % пациентов заболевание протекало стабильно, без неотложных состоя- ний, у 45 % пациентов - лабильно с возникновением острых метаболических расстройств, трудностями в подборе дозы инсулина, необходимостью госпитализации в стационар. Все дети получали лечение генно-инженерными человеческими инсулинами и инсулиновыми аналогами базального и ультракороткого действия в режиме интенсифицированной терапии. У 66 % детей выявлены сосудистые осложнения СДI (в порядке убывания удельного веса): сенсорно-моторная нейропатия нижних конечностей, нефропатия, остеоартропатия, гепато-патия, катаракта, ретинопатия; у 11 % больных отмечена задержка физического и полового развития. Контрольную группу составили 50 детей без СД аналогичного возраста и пола.
Для решения поставленных задач использованы общеклинический, клинико-психопатологический, клинико-этологический, лабораторный и статистический методы исследования.
Степень компенсации СДI оценивалась по уровню НвА1с. Определение НвА1с проводилось на анализаторе «ДСА 2000+» фирмы «Bayer» (Германия) методом ингибирования реакции латекс-агглютинации. Уровень компенсации оценивался в соответствии с общепринятыми критериями [5, 19]. Мониторинг глюкозы крови в условиях стационара проводился глюкозооксидантным методом. В домашних условиях самоконтроль проводился в 100 % глюкометром One Touch® Ultra™ фирмы «Джонсон и Джонсон» (США) с ведением дневника самоконтроля стандартного образца.
Данные клинико-психопатологического исследования формализовались с использованием международных валидизированных шкал, адаптированных к детскому возрасту: шкалы Монтгомери–Асберга для оценки депрессии [23] и личностного опросника Спилбергера–Ханина для оценки тревоги [25, 14].
Этологическое обследование больных производилось путём предварительной цифровой 20—30-минутной видеозаписи их невербального поведения в ходе диагностического интервью с последующим покадровым анализом поведенческих дисплеев. При этом использовался адаптированный к задачам исследования Глоссарий по исследованию невербального поведения человека [12, 13, 10, 17], включающий элементарные единицы, простые формы и сложные (контекстные) формы поведения, а также их динамику.
Формализация степени выраженности поведенческих признаков проводилась в соответствии с авторской Шкалой этологических признаков человека (Human Ethological Signs Scale – HESS) [3], предусматривающей 7-балльную оценку этологической экспрессии по следующим критериям: 1 балл: отсутствует - определение признака неприменимо; 2 балла: ми- нимальная – сомнительное присутствие признака; 3 балла: умеренная – признак возникает на короткое время, регулярно, проявляется отчётливо, преимущественно в ситуационном (средовом) контексте; 4 балла: средняя – признак возникает на короткое время, регулярно, проявляется отчётливо, в том числе вне ситуационного (средового) контекста; 5 баллов: средневыраженная – признак возникает часто, проявляется отчётливо, преимущественно вне ситуационного (средового) контекста и сохраняется достаточно продолжительное время; 6 баллов: выраженная – признак присутствует почти постоянно, проявляется отчётливо, всегда вне ситуационного (средового) контекста; 7 баллов: ярко выраженная – признак присутствует постоянно, акцентирован в общем репертуаре поведения, проявляется всегда вне ситуационного (средового) контекста.
Все результаты исследования были подвергнуты математической обработке с применением методов вариационной и описательной статистики, включая оценку достоверности различий, выявление корреляционной зависимости, вычисление статистической дисперсии.
Результаты и их обсуждение. Клиникопсихопатологическое исследование позволило выявить отчётливые симптомы депрессии у 19 больных (33,3 %), признаки тревоги – у 37 (64,9 %) пациентов с СДI. В контрольной группе эти показатели значительно ниже и близки к среднепопуляционным (6 – 12,0 % и 13 – 26,0 %), различия статистически значимы (р<0,05).
В основной группе у 14 пациентов с аффективной патологией (73,7 %) выявлены лёгкие депрессии, у 5 (26,3 %) - среднетяжелые и тяжелые. В группе контроля выявлены только депрессии легкой степени. Легкая степень депрессии проявлялась сниженным настроением, утратой интереса к чтению, просмотру телепередач, компьютерным и коллективным играм, расстройством сна и аппетита. При среднетяжёлой депрессии дополнительно отмечались неуверенность ребенка в своем будущем, ожидание неудач, пессимистические суждения, суточные колебания настроения (при органическом и психогенном происхождении ухудшение к вечеру, при эндогенном – в утренние часы). Тяжелая депрессия характеризовалась безысходностью, мучительным чувством тоски, появлением суицидальных мыслей (только у подростков).
Среди пациентов с СДI отмечено достоверное преобладание тревоги соматизированного типа (35 больных с тревожными расстройствами – 94,6 %), которая в том числе проявлялась в виде панических атак и сопровождалась вегетативными симптомами, типичными для гипогликемических реакций [7]. В контрольной группе регистрировалась только личностная тревога.
Общим фоном для депрессивных и тревожных состояний у больных СДI были симптомы астенического круга с жалобами на слабость, повышенную утомляемость, медленное восстановление сил, повышенную чувствительность к свету, звукам, запахам, прикосновениям, погодным колебаниям, эмоциональным раздражителям, нарушение сна, отсутствие чувства отдыха после пробуждения в сочетании с мягко выраженными признаками триады Вальтер Бю-эля (затруднённым запоминанием и воспроизведением информации, некоторым снижением продуктивности мышления и аффективной лабильностью), что свидетельствовало о церебрально-органической природе выявленных психических нарушений.
Этиопатогенетическая связь аффективной патологии с мозговыми осложнениями хронической гипергликемии [2, 7, 15, 20] косвенно подтверждается нами корреляцией удельного веса депрессии и тревоги с уровнем компенсирован-ности СДI. По степени компенсации углеводного обмена основная группа была разделена на 2 когорты: 1) с компенсированным (субкомпен-сированным) течением СДI (26 пациентов); 2) декомпенсированным течением СДI (31 пациент). В 1-й когорте депрессии выявлены у 6 больных (23,1 %), тревожные расстройства – у 10 (38,5 %). Во 2-й когорте депрессия диагностирована у 13 пациентов (41,9 %), тревога – у 27 (87,1 %) (р<0,01). В контрольной группе органический фон аффективных расстройств отсутствовал, депрессии носили характер расстройства адаптации в форме психогенных реакций либо эндогенных эпизодов с витальной тоской, идеями самообвинения и самоуничижения, улучшением самочувствия к вечеру.
Невербальное поведение всех больных СДI с депрессивным синдромом характеризовалось следующими признаками:
-
- в регистре элементарных единиц поведения наблюдались избегание контакта взором, взгляд в окно или рассматривание рук, надувание щек и губ, опущенные углы рта, «печальные» или нахмуренные брови, приподнятый внутренний край бровей, горизонтальные морщины на лбу, факультативно (только у подростков) – складка Верагута (дополнительная диагональная складка, идущая от границы внутренней и средней третей верхнего века к наружному углу глазной щели); тусклые глазные яблоки, транзиторные элементы – слезы, мимика плача; жесты покорности (ладонь прижата к груди с полупоклоном и наклоном головы), прятание (прикрывание) паха руками, в позах стоя и сидя – голова опущена, руки заведены назад, уменьшение плеча, скрещение ног как элемент прятания паха; в положении стоя тенденция к сгибанию коленей и дальнейшему опусканию головы; в невербальных компонентах
речи – голос тихий, тембр низкий, увеличение продолжительности пауз в ходе речевого контакта как свидетельство близости скрываемой (диссимулируемой) информации и намерений; тенденция к растягиванию гласных, увеличение числа речевых ошибок, нарастание числа речевых стереотипий на протяжении всего контакта;
-
- в регистре простых паттернов поведения отмечались тенденция к увеличению индивидуального расстояния, редукция комплекса приветствия, ориентация в беседе по типу фототаксиса (избегание контакта с отворачиванием к источнику света), аутоагрессивные формы аутогруминга (самоприхорашивания) – онихо-фагия и трихотилломания;
-
- в регистре сложных (контекстных) форм поведения выявлены инверсия ритма «сон – бодрствование», эмбриональная поза во сне, походка в замедленном темпе с сохранением элементов поз покорности, дезактуализация гигиенического, комфортного и поискового (исследовательского) поведения; у подростков – актуализация имитативного поведения с риском развития «синдрома Вертера»; в пищевом поведении – анорексия; редукция доминирования в границах индивидуальной и групповой территории, манкирование семейно-ролевыми функциями, отказ от игровой активности.
У подростков при актуализации суицидальных тенденций в элементарных единицах мимики, позы, жеста, в простых и сложных комплексах поведения признаки подчинения и покорности вытеснялись выраженными, стойкими, превалирующими признаками избегания любых форм контакта с окружающими – от глазного до телесного; исследовательское поведение сводится к поиску территории и способов, удобных для осуществления аутоагрессивных намерений.
Частота регистрации и степень выраженности этологических признаков депрессии по 7балльной шкале HESS у детей и подростков основной группы представлена в таблице 1.
Таблица 1
Частота и выраженность HESS-признаков депрессии в основной группе (n=19)
|
Этологический паттерн |
Частота |
Сред. знач. + стат. отклон. |
|
|
абс. |
% |
||
|
Элементарные единицы поведения |
|||
|
Избегание контакта взором |
19 |
100 |
5,54+0,21 |
|
Взгляд в окно, рассматривание рук |
19 |
100 |
5,77+0,33 |
|
Надувание щек и губ |
16 |
84,2 |
5,19+0,24 |
|
Опущенные углы рта |
17 |
89,5 |
5,32+0,66 |
|
«Печальные», нахмуренные брови |
14 |
73,7 |
4,51+0,52 |
|
Приподнят внутренний край бровей |
14 |
73,7 |
4,19+0,28 |
|
Горизонтальные морщины на лбу |
13 |
68,4 |
4,22+0,31 |
|
Факультативно (только |
|||
|
у подростков) – складка Верагута |
5 |
26,3 |
5,88+0,22 |
|
Тусклые глазные яблоки |
19 |
100 |
6,08+0,15 |
|
Транзиторные элементы – слезы, |
|||
|
мимика плача |
10 |
52,6 |
4,53+0,36 |
|
Жесты покорности |
19 |
100 |
5,49+0,38 |
|
Прятание (прикрывание) паха руками |
19 |
100 |
6,11+0,15 |
|
В позах стоя и сидя Голова опущена |
17 |
89,5 |
5,48+0,44 |
|
Руки заведены назад |
15 |
78,9 |
4,77+0,22 |
|
Уменьшение плеча Скрещение ног как элемент |
18 |
94,7 |
6,06+0,21 |
|
прятания паха В положении стоя тенденция к сгибанию коленей и дальнейше- |
19 |
100 |
5,88+0,33 |
|
му опусканию головы В невербальных компонентах речи |
19 |
100 |
5,72+0,18 |
|
Голос тихий |
19 |
100 |
5,52+0,29 |
|
Тембр низкий |
14 |
73,7 |
4,21+0,45 |
|
Увеличение длительности пауз |
19 |
100 |
6,11+0,12 |
|
Тенденция к растягиванию гласных |
16 |
84,2 |
4,33+0,24 |
|
Увеличение числа речевых ошибок |
18 |
94,7 |
5,91+0,17 |
|
Рост числа речевых стереотипий |
19 |
100 |
5,90+0,35 |
|
Простые формы поведения |
|||
|
Тенденция к увеличению индивидуального расстояния |
19 |
100 |
6,09+0,14 |
|
Редукция комплекса приветствия Ориентация в беседе по типу |
19 |
100 |
5,11+0,49 |
|
фототаксиса Аутоагрессивные формы |
19 |
100 |
6,11+0,24 |
|
аутогруминга (онихофагия и трихотилломания) |
13 |
68,4 |
5,29+0,42 |
|
Сложные формы поведения |
|||
|
Ночная бессонница, инверсия ритма «сон – бодрствование», эмбриональная поза во сне Походка в замедленном темпе с сохранением элементов поз |
19 |
100 |
6,22+0,25 |
|
покорности Дезактуализация гигиенического, |
19 |
100 |
5,90+0,19 |
|
комфортного и поискового (исследовательского) поведения У подростков – актуализация |
16 |
84,2 |
5,16+0,62 |
|
имитативного поведения с риском развития «синдрома Вертера» |
7 |
36,8 |
5,88+0,26 |
|
Анорексия Редукция доминирования в границах индивидуальной |
17 |
89,5 |
4,45+0,21 |
|
и групповой территории Манкирование семейно-ролевыми |
19 |
100 |
6,08+0,11 |
|
функциями |
19 |
100 |
5,82+0,19 |
|
Отказ от игровой активности |
19 |
100 |
6,04+0,09 |
Невербальное поведение всех больных СДI с тревожными расстройствами характеризовалось следующими признаками:
-
- в регистре элементарных единиц поведения наблюдались «бегающий» взгляд по сторонам и немигающий (пристальный) взгляд, дрожание нижней губы, сжатые губы и губы внутрь, фиксация обеих рук на предмете (стуле и т. п.) или подмышками, сжимание одной рукой пальцев другой руки, поглаживание руки рукой, приподнятые плечи, напряжённая, периодически ускоренная речь, дрожь в голосе;
-
- в регистре простых паттернов поведения – напряженная мимика тревоги, ожидания, настороженности; мимика с высокой подвижностью бровей, жест латентной тревоги (потирание рукой шеи с одновременным её вытягиванием), индивидуальное расстояние увеличено к началу беседы и сокращается к завершению беседы, ориентация при контакте полубоковая, встряхивание или качание головой, реакция плеча (приподнимание плеч с опусканием головы – как признак испуга или элемент прятания),
вздрагивание при внезапном раздражителе, яктация (раскачивание), интенсивный аутогру-минг (приведение себя в порядок, прихорашивание, поправление одежды, прически, стряхивание с плеч, потирание лица), интенсивное манипулирование предметом, частью тела (мочка уха, волосы), одеждой, «игра пальцами», обкусывание губ (лябиофагия);
-
- в динамике элементов и простых комплексов поведения отмечалось двигательное беспокойство в форме полиморфных стереотипий мимики, позы (яктация), головы (кивание, качание), рук (поглаживание, потирание, игра пальцами, ощупывание), манипулирования, жестов, груминга, моторики плеч, ног (шаркание, удары носком и пяткой и т. п.), невербальных компонентов речи;
-
- в регистре сложных комплексов поведения – сон с частой сменой поз, прерывистый, с ранним пробуждением; манипулирование пищей, облизывание, сглатывание, оральные движения вне речи, неразборчивость в еде, изменение ритма приема пищи; в исследовательском поведении – осматривание, неофобия; в территориальном поведении - осторожное посещение кабинета врача, челночная траектория перемещения в границах территории.
Частота регистрации и степень экспрессии этологических признаков тревоги по 7-балльной шкале HESS у детей и подростков основной группы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Частота и выраженность HESS-признаков тревоги в основной группе (n=37)
|
Этологический паттерн |
Частота |
Сред. знач. + стат. отклон. |
|
|
абс. |
% |
||
|
Элементарные единицы поведения |
|||
|
«Бегающий» взгляд по сторонам |
37 |
100 |
6,04+0,12 |
|
Немигающий (пристальный) взгляд |
19 |
51,4 |
4,88+0,19 |
|
Дрожание нижней губы |
31 |
83,8 |
5,45+0,33 |
|
Сжатые губы |
37 |
100 |
5. 89+0,14 |
|
Губы внутрь |
33 |
89,2 |
4,92+0,29 |
|
Фиксация обеих рук на предмете или подмышками |
37 |
100 |
5,78+0,61 |
|
Сжимание одной рукой пальцев другой руки |
29 |
78,4 |
5,07+0,34 |
|
Поглаживание руки рукой |
37 |
100 |
6,02+0,18 |
|
Приподнятые плечи |
28 |
75,7 |
5,12+0,14 |
|
Напряжённая, периодически ускоренная речь |
37 |
100 |
6,11+0,07 |
|
Дрожь в голосе |
34 |
91,9 |
6,04+0,16 |
|
Простые формы поведения |
|||
|
Напряженная мимика тревоги, ожидания, настороженности |
37 |
100 |
6,11+0,33 |
|
Мимика с высокой подвижностью бровей |
35 |
94,6 |
5,75+0,22 |
|
Жест латентной тревоги |
37 |
100 |
6,29+0,04 |
|
Индивид. расстояние увеличено к началу беседы и сокращено к её завершению |
37 |
100 |
4,92+0,12 |
|
Ориентация при контакте полубоковая |
34 |
91,9 |
4,35+0,45 |
|
Встряхивание или качание головой |
37 |
100 |
5,93+0,08 |
|
Реакция плеча |
35 |
94,6 |
5,88+0,31 |
|
Вздрагивание при внезапном раздражителе |
37 |
100 |
6,08+0,14 |
|
Яктация |
29 |
78,4 |
5,82+0,24 |
|
Интенсивный аутогруминг |
37 |
100 |
5,91+0,22 |
|
Интенсивное манипулирование предметом, частью тела, одеждой |
37 |
100 |
5,67+0,31 |
|
«Игра пальцами» |
32 |
86,5 |
4,76+0,28 |
|
Лябиофагия |
28 |
75,7 |
5,93+0,22 |
|
Полиморфные стереотипии |
37 |
100 |
5,90+0,17 |
|
Сложные формы поведения |
|||
|
Сон с частой сменой поз, прерывистый, с ранним пробуждением В пищевом поведении – манипулирование пищей, облизывание, сглаты- |
37 |
100 |
6,02+0,08 |
|
вание, оральные движения вне речи, неразборчивость в еде, изменение ритма приема пищи В исследовательском поведении – |
37 |
100 |
5,82+0,12 |
|
осматривание, неофобия В территориальном поведении - осторожное посещение кабинета врача, |
37 |
100 |
4,93+0,24 |
|
челночная траектория перемещения в границах групповой территории |
35 |
94,6 |
4,90+0,16 |
В тех клинических случаях, когда у больных имелась смешанная тревожно-депрессивная симптоматика, в их этологическом репертуаре наблюдалось сочетание соответствующих невербальных паттернов.
Выводы. Полученные нами результаты показывают, что этологический анализ невербального поведения детей и подростков с СДI 1) существенно повышает информативность клинического обследования больных; 2) способствует объективизации и верификации клинико-психопатологических данных о наличии и степени выраженности аффективной патологии, обусловленной СДI; 3) позволяет уверенно дискриминировать депрессивные и тревожные расстройства при отсутствии или затруднении вербального контакта с пациентом.