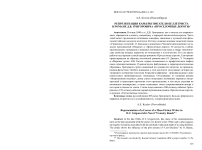Репрезентация карьеры писателя-беллетриста в романе Д.В. Григоровича "Проселочные дороги"
Автор: Козлов Алексей Евгеньевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 3 (62), 2022 года.
Бесплатный доступ
В конце 1840-х гг. Д.В. Григорович, как и многие его современники, обращается к сюжету, связанному с карьерой писателя-беллетриста. Часто такой сюжет предполагал негативные сценарии, связанные с духовной или физической гибелью молодого мечтателя. В статье показано влияние сюжетной схемы «Утраченных иллюзий» О. Бальзака и концепции «Человеческой комедии» на замысел произведений «Неудачи» и «Проселочные дороги». В частности, в обоих произведениях литература и живопись понимаются как вещь и товар, экономические свойства которых первичны по отношению к эстетическим. В то же время, работая над первым в своей карьере романом «Проселочные дороги», Григорович ориентировался на образцы английской романистики (Ч. Диккенс, У. Теккерей) и «Мертвые души» Н.В. Гоголя, однако отказывался от профетического пафоса своих предшественников. Руководствуясь фабульными и характерологическими образцами, Григорович строил названный им «роман без интриги» по принципу романа-фельетона. Особого внимания в этом контексте заслуживает история начинающего литератора Аполлона Егорьевича Дрянкова - приживальщика в доме влиятельных провинциальных помещиков. Отталкиваясь от названия романа «Непризнанная индейка», автор статьи показывает возможные варианты интерпретаций и траектории прочтения этого произведения, в том числе указывая на возможную автопародию, а также показывает точки соприкосновения автора и его героя в плоскости текста. Статья подготовлена к 200-летнему юбилею Григоровича и 170-летнему юбилею первой публикации романа «Проселочные дороги» в журнале «Отечественные записки».
Русский роман xix века, григорович, бальзак, рефлексия и нарратив, вторичность и альтернативность, литературная репутация
Короткий адрес: https://sciup.org/149141324
IDR: 149141324 | DOI: 10.54770/20729316-2022-3-125
Текст научной статьи Репрезентация карьеры писателя-беллетриста в романе Д.В. Григоровича "Проселочные дороги"
В конце 40-х - начале 50-х гг. XIX в. в творчестве Дмитрия Васильевича Григоровича формируется устойчивая сюжетная схема, связанная с переживанием творческой неудачи - и шире - жизненного неуспеха. Вероятнее всего, освоению этой схемы способствовали и литературные образцы, и биографические обстоятельства.
После «Петербургских шарманщиков», «Деревни» и «Антона Горемыки», ставших своеобразной визитной карточкой писателя и особо отмеченных ВТ. Белинским в его обозрениях [Мещеряков 1985; Журавлева 2013; Вдовин 2016], Григорович столкнулся с охлаждением со стороны критики и читателей. Отчасти это объясняется тем, что писатель не только одновременно публиковался в «Отечественных записках» и «Современнике» (как, например, И.С. Тургенев), но и «Москвитянине», круг которого формировали критики и беллетристы, во многом независимые от петербуржской среды. Григорович, бывший журнальным «космополитом» (после раскола в «Современнике» он начнет публиковаться, наряду с перечисленными изданиями», в «Библиотеке для чтения»), мог восприниматься как слабохарактерный человек без каких-либо убеждений. Об этом, в частности, свидетельствуют отзывы о его произведениях, размещаемые во всех трех изданиях, а также многочисленные намеки и апелляции к французскому происхождению писателя, часто выходящие за пределы традиционных рамок приличия.
Ставший в конце 1840-х гг. «эмблематическим» литератором натуральной школы [Лотман 1955; Мещеряков 1985], Григорович довольно быстро охладевает к этому типу эстетики, воспринимая его, скорее, как один из способов репрезентации мира, а не ключевой философский принцип. Гораздо ближе метода Г. Курбе и Ж. Шанфлери ему оказываются идеи грандиозного мира «Человеческой комедии» О. де Бальзака, сюжеты которой неоднократно становились для Григоровича материалом. Так, описывая апартаменты героев, русский беллетрист практически буквально воспроизводил «Сцены частной жизни»:
Я был всегда того мнения, что сокровенные комнаты, каковы, например, кабинет и спальня, выказывают склонности и вообще весь характер своих владельцев несравненно красноречивее, чем самая физиономия этих владельцев. Господин или дама в гостиной и тот же господин или дама в спальне или кабинете, как известно, - два существа совершенно разные. Я даже уверен, что такие превращения ровно ничего не значат в сравнении с самыми неожиданными театральными превращениями, где часто из цветущей долины вдруг делается мрачная пещера, и наоборот. В гостиной или свете, что одно и то же, все люди почти одинаковы: все равно милы, привлекательны, любезны, или стараются, по крайней мере, быть такими, и только в заветных комнатах являются они сами собою, то есть такими, какие они на самом деле. Мы окружаем и обставляем себя по возможности всем, что соответствует нашему вкусу, и вкус этот должен, следовательно, приблизительно выражать наши склонности; мельчайшие привычки, обычаи - словом, все, что составляет всего человека и что тщательно иной раз скрывается им от света, является в поразительно верных красках на полках, мебели и стенах его кабинета. <...> Каждый дом, каждая квартира, как бы малы ни были - тот же театр, разгороженный на сцену и кулисы: вся разница в том, что действующие лица занимаются актерским ремеслом из любви к искусству, не приписаны ни к какой труппе и не получают жалованья. Поверьте, так!..» [Григорович 1896, 81].
В черновых и подготовительных записях мы находим своеобразный реестр имен и сюжетов, свидетельствующий о попытке обобщений разрозненных мотивов из жизни светского общества и простолюдинов и поиске общего для них знаменателя [Григорович. РГАЛИ. Ф. 138. Оп. 2. Ед. хр. 2]. Большинство этих замыслов воплощено не было: в роли русского Бальзака Григорович не преуспел, а в написанных им повестях и романах он, в отличие от «французского Шекспира», многократно воспроизводил намеченные ранее фабулы и мотивы, что давало негативный материал для критиков и современных читателей.
Своеобразной матрицей переживания писательской неудачи для Григоровича и его современников становится роман «Утраченные иллюзии» [Гинзбург 2016; Феномен творческой неудачи 2011; Феномен творческой неудачи 2018], рассказывающий о судьбе двух талантов: самоотверженного Давида Сешара (альтруиста и Дон Кихота) и самовлюбленного Люсьена Шардона (Гамлета, борющегося за возвращение фамилии Рюбампре). Путь Люсьена, автора поэтического сборника «Маргаритки» и исторического романа в духе Вальтера Скотта, пролегает через тернии либеральной печати к звездам роялистской публицистики. Пройдя этот путь и утратив дружбу, любовь и чувство собственного достоинства, Люсьен не только не обретал прочного литературного имени, но и терял свое, данное ему от рождения.
Уже в повести «Неудачи» (1850), отталкиваясь попеременно от новелл и романов Бальзака («Пьер Грассу», «Неведомый шедевр», «Утраченные иллюзии», «Отец Горио») и русской повести о судьбе художника («Живописец» В.Ф. Одоевского, «Невский проспект» и «Портрет» Н.В. Гоголя, других беллетристических произведений, написанных на эту же тему [Акимова 2012; Brunson 2016; Зенкин 2018]), Григорович описывает путь молодого живописца Андреева, бросающего вызов судьбе. Первоначально робкий Андреев, отдаленно напоминающий Васю Шумкова из «Слабого сердца» Ф.М. Достоевского (оба героя - молодые люди, чиновники, тяготящиеся службой и живущие творчеством), находит поддержку со стороны наставников Академии художеств и начинает посещать рисовальные классы. Однако обстоятельства складываются таким образом, что он вынужден совершить самопожертвование и, покинув избранное поприще, уехать в провинцию для спасения собственной сестры. Этот высокий трагический вариант утраченных иллюзий (противоположный действиям Растиньяка и Люсьена в их обращении с родственниками и сестрами) профанируется и переворачивается в дебютном романе писателя «Проселочные дороги» (1852).
Оговоримся, что в этом «романе без интриги», как его назвал сам автор, сюжет строится на пересечении экстенсивно соединенной фабулы путешествия по большой дороге (в духе «Истории Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга и «Записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса) и современной авантюры (наподобие «Ярмарки тщеславия» У. Теккерея и похождений Чичикова в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя). Центральную коллизию произведения составляет борьба за «место под солнцем»: помещик средней руки Аристарх Федорович Балахнов грезит о победе на губернских выборах, буржуа-жантильом Бобохов, мещанин во дворянстве - выходец из купцов - борется за признание в обществе, сходные намерения обнаруживает множество других действующие лиц, «чего не представил <до этого. - А.К> еще ни один русский роман, задуманный в таких больших размерах» [Русскаялитература... 1853, 19].
Среди иных персонажей выделяются своего рода Добчинский и Боб-чинский Горшковского уезда, Прокисай Захарович Копков и Аполлон Егорьевич Дрянков - комические двойники, выполняющие сходные функции и занимающие одинаковое положение в доме и обществе, которые по законам диккенсовской характерологии, обнаруживают все большее несходство к концу произведения [Сильман 1970; Harris 1991; Paganoni 2020]. Если Прокисай Захарович, подобно менестрелю, играющий на гитаре, обретает семейное счастье, то Дрянков проходит сложный путь от провинциального изгоя до неофита, чья повесть «Непризнанная индейка» предается тиснению на зависть его окружению.
В этом контексте внимания заслуживают имя писателя, его «биография» и история его книги.
Несмотря на характерную для фельетонного романа подсказку, заключенную в фонетике имени Аполлона Егорьевича и чуть менее памфлетную фамилию - Дрянков, оговоримся, что поиск единственного прототипа вряд ли является возможным и сюжетно оправданным. Воображая самого разного читателя: петербуржца, москвича, иногороднего подписчика, Григорович, вслед за Диккенсом, исходил из того, что некоторые аллюзии и реминисценции в романе могут быть поняты только ближайшим окружением, другие же - будут истолкованы с оглядкой на содержание произведения и литературную традицию. Читатель, знакомый со спорами, двух столичных журналов [Современник против Москвитянина 2015], вероятно, воображал на месте Дрянкова Аполлона Григорьева или Егора Дри-янского - окарикатуренный портрет усредненного критика и беллетриста журнала «Москвитянин». Показательно, в частности, что Дрянков пытается отправить свою повесть в столичный журнал, однако получает возможность ее опубликовать только после поддержки московского мецената Тирсиса Ивановича Ястребилова [Козлов 2017].
При этом сам роман Дрянкова так и остается вещью в себе, он не пересказывается и не приводится в произведении Григоровича за исключением одного абзаца (см. об этом далее). В сюжетной структуре произведения есть несколько эпизодов, в которых Дрянков собирается прочитать свою повесть, но каждый раз непредвиденные обстоятельства останавливают его.
-
- Хорошо, хорошо, - отвечал приживальщик, видимо озадаченный присутствием Карачаева, - только, пожалуйста, не мешай нам; мы займемся на минуту делом, присовокупил он, подходя к Василькову.
-
- Ладно, читай! - сказал Карачаев, закуривая трубку и подпираясь локтем в подушку.
Дрянков снял со свечки, сел подле Василькова и раскрыл тетрадь.
-
- Повесть называется... «Непризнанная Индейка»... Но прежде, я думаю, нелишним будет рассказать в коротких словах сюжет ее, то есть содержание..., -произнес Дрянков.
-
- Ну, мимо сюжет! Читай только; мы сами поймем и без твоих объяснений... -заметил Карачаев , нетерпеливо пуская клубы дыма [Григорович 1896, 76].
В цитируемом фрагменте два слушателя-читателя маркируют два возможных режима чтения [Эко 2016; Шмид 2005; Тюпа 2020]. Сентиментальный Васильков (провинциальный Дафнис и Ловелас) готов прослушать произведение, в то время как агрессивный Карачаев (в чертах которого соединились жесты «исторического человека» Ноздрева и грубоватое рыцарство офицера Доббина из «Ярмарки тщеславия»), не настроен на слушание романа. Он обрывает Дрянкова на полуфразе, выступая в роли авторитарного слушателя, претендующего на соавторство.
И Карачаев, без дальних объяснений, побежал к комоду, затушил свечу и, выпроводив гостя, грохнулся на постель [Григорович 1896, 77].
Аналогичный эпизод представлен во втором томе романа, реализующем, наряду с прочим, стратегию карнавального разоблачения литературно-журнального мира [Бахтин 1975]. Оказавшись в Москве, Дрянков посещает книжную лавку, где приобретает сорок два тома Тирсиса Ивановича Ястребилова, после чего посещает дом мецената и получает возможность опубликовать свое произведение. То, что для Дрянкова - событие особой значимости, для Тирсиса - широкий жест. Это становится очевидным в момент описания литературного вечера: Дрянков так и не приступает к публичному чтению «Непризнанной индейки», поскольку все свободное время занимают выступления меценатов, оказавших ему протекцию -Тирсиса Ивановича Ястребилова и его благоверной жены Клавдии Ильиничны, которая (явная отсылка к Бальзаку) является автором сборника стихов «Маргаритки». Таким образом, в сюжетной структуре «Проселочных дорог» роман существует как вещь, имеющая определенную стоимость, а не произведение, отличающееся эстетической ценностью. Такое свойство романа во многом созвучно экономической концепции Бальзака (в свое время отмеченной К. Марксом и Ф. Энгельсом) и одновременно препятствует превращению «Проселочных дорог» в метароман (где бытие автора, героя и текста сливается воедино), как это произошло в сюжете «Жизни Дэвида Копперфилда, рассказанной им самим».
В связи с этим одну из главных тайн «романа без интриги» представляет даже не прототип, подбор которого обусловлен сюжетными валентностями романа-памфлета, а название произведения Дрянкова «Непризнанная индейка». Если «непризнанность» отсылает читателя к сентиментальному и романтическому топосу, то слово индейка тяготеет к принципиально иному полю, заставляя вспомнить поговорку «Судьба - индейка, жизнь копейка», утвердившуюся в русской литературе от «Ревизора» и «Героя нашего времени» до «Войны и мира» (в черновых редакциях). Наибольший эмблематизм индейка получает в историософской главе «Тарантаса» В.А. Соллогуба, полемически заостренной против финала первого тома «Мертвых душ». Взору спящего героя представляется орел не орел, индейка не индейка. Таким образом, название романа Дрянкова окказионально.
Отталкиваясь от составляющих этого окказионализма, можно предложить три основных линии интерпретации.
The Last of the Mohicans (1826). Если индейка - это феминитив, об- разованный от исходного варианта «индеец», то наиболее очевидной становится связь с названием приключенческого романа Фенимора Купера «Последний из могикан» (The Last of the Mohicans). Сын Чингачгука Ун-кас - своего рода белая ворона, один из последних древних делаваров, обреченных на неминуемую гибель. Дрянков близок к этой эмблематике: он становится изгоем в своем близком окружении, как большинство писателей и представителей интеллектуальной богемы начала 1850-х гг. Разумеется, к моменту написания «Проселочных дорог» романы Купера и его эпигонов, писавших о борьбе краснокожих и европейцев и проповедующие теорию исключительной личности (к которой относится и Натаниэль Бампо, и Чингачгук, и его сын) потеряли былую актуальность, на первый план вышли социальные вопросы, ведущие к открытию объективного метода повествования.
Indiana (1832). По-прежнему, исходя из лексического варианта феми-нитива, можно найти более близкую аналогию, связанную с французской беллетристикой. В этом случае индейка представляет собой нарочито сниженную вариацию, связанную с именем героини Жорж Санд.
Как известно, ВТ. Белинский, сравнив писательскую манеру Санд и Бальзака, первоначально отдал пальму первенства последнему. Однако по мере увлечения социальной повесткой и женским вопросом, русский критик менял свои взгляды [Пономарева 2017]. Меняло и его окружение, к которому в том числе относился Григорович [Успенский, Федотов 2021].
Если эта траектория прочтения верна, роман получает геральдическую завершенность: находящийся в доме Балахнова на положении приживальщика - нового «Несчастного Никанора» - Дрянков становится свидетелем истории, которая параллельно рассказывается читателю: катастрофическое сближение замужней Балахновой с Карачаевым гротескно отражает охлаждение креолки Индианы к ее мужу Дельмару и сближение с Ральфом, осуждаемое обществом.
Den grimme Hilling (Ugly Ducky, 1847). Если отталкиваться от второго лексического значения, буквализируя его, в названии романа Дрянкова можно увидеть своеобразный парафраз, связанный со сказкой датского писателя Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Это произведение, в центре которого инициация и качественное преображение героя, построено на базовой схеме «потеря-поиски-обретение», отражает общую логику воспитания и взросления, которое может проецироваться, в том числе, на биографические сюжеты [Краснощекова 2008]. В отличие от Ж. Санд, Белинский сдержанно отзывался о произведениях Андерсена, находя в них черты ходульности и ненавистного им романтизма.
Русскоязычного перевода «Гадкого утенка» не существовало, но к услугам Григоровича были французские и английские переложения. В описании угловатой головы и отталкивающей внешности Дрянкова прочитываются сходные с гадким утенком черты. Совпадают и фабулы: Дрянков находится на положении изгоя, пока Тирсис Иванович не делает его равным (утенок оказался лебедем).
Заметим, что к теме «гадкого утенка» прилегают истории писательской карьеры многих современников Григоровича: Ивана Панаева, Якова Буткова, Егора Дриянского и, наконец, находящегося тогда на каторге Федора Достоевского. Так, ставший, наряду с Некрасовым, издателем и «пайщиком» «Современника», Панаев начинал свою карьеру как типичный литератор без имени. В дальнейшем он жестоко высмеял такое поприще, обратившись к его изображению в «Петербургском фельетоне» и повести «Литературная тля» [Ямпольский 1986].
Хорошо известны анекдоты и сплетни, связанные с литературной деятельностью Буткова, больше напоминающей исполнение барщины или оброка - ходили слухи о неоплатном долге, который А.А. Краевский заплатил за своего будущего сотрудника. В этом контексте журналист, обреченный на поденную работу, соответствует роли приживальщика, находящегося в доме у своего обеспеченного патрона. Бутков при этом не смог составить сколько-нибудь крупного литературного имени, пополнив реестр тех писателей-беллетристов, которых принято называть «мелкотравчатыми». Это слово из охотничьего дискурса ввел в литературу Е.Э. Дри-янский. С течением времени его «Записки мелкотравчатого» были преданы забвению, однако относительное прилагательное мелкотравчатый закрепилось в критике, где стало качественным, маркирующим оценку и масштаб литературного дарования. Окончательное закрепление понятия «мелкотравчатый» происходит в беллетризованных историях литературы [Киселева 2019].
В этом отношении сюжетная линия Дрянкова представляет собой очевидную контаминацию, в которой читательские ожидания, обусловленные общей пресуппозицией - «Утраченными иллюзиями» - корректируются в сторону фельетонно-комического режима повествования.
Наиболее сложный в этическом отношении вопрос составляет включение в названный ряд друга и однокашника Григоровича Федора Достоевского. Очевидно, что «Бедные люди» и «Непризнанная индейка» объединены общей коннотацией униженного и оскорбленного героя, совпадают и черты «рыцаря горестной фигуры» и его доходящая до маниакальности страсть к письму и чрезвычайно болезненная восприимчивость критики со стороны окружающих. Кажется маловероятным, что Григорович, зная постигшее несчастье Достоевского, мог сделать его одним из комических героев своего произведения. Однако общие детали в описании дебюта Достоевского в «Литературных воспоминаниях» и истории Дрянкова убеждают в обратном.
В этом контексте особенно интересна подсказка, заключенная в небольшом фрагменте романа Дрянкова, представленном в одной из первых глав произведения.
Дрянков мрачно нахмурил брови, кашлянул несколько раз сряду и начал:
«Светило дня медленно склонялось к горизонту и, как бы тоскуя о разлуке с землею, бросало на нее последний, прощальный привет, когда на пороге избушки 132
показался старик, убеленный почтенною сединою. Время и заботы избороздили высокое его чело, но он был еще бодр, и члены его, прикрытые шинелью, казались еще довольно крепкими. Могучая грудь почтенного старца, усеянная рядом незабудок...» [Григорович 1896, 77].
Даже такого сравнительно небольшого фрагмента достаточно, чтобы увидеть архаический стиль писателя, в котором сочетаются классицистические и сентименталистские штампы. Однако в этом случае мы имеем более сложную конструкцию: демонстрируя слабые стороны прозы Дрян-кова, Григорович одновременно обращается к автопародии. Параллельно с «Проселочными дорогами» писатель работал над очередной «вещью» для «Современника», получившей название «Смедовская долина». Этот рассказ открывается развернутой экспозицией, в которой на величественно-идиллическом фоне вечерней природы происходит встреча рассказчика с пастухом. Совпадает ряд деталей: описание заката и полевых цветов (в том числе - незабудок), внешний и психологический портрет собеседника (бодрый и крепкий старик). Наконец, сам рассказчик «прикутывается в шинель» перед тем, как начать разговор. Так, на основе собственной повести, написанной им, по всей видимости, в большой спешке, Григорович создает пастиш, делегируя некогда принадлежащее автору слово карикатурному и смешному герою. Есть и другая черта, объединяющая Дрян-кова и Григоровича: опубликовав «Непризнанную индейку», Аполлон Егорьевич садится за новое сочинение: серию физиологических очерков «Тунеядцы», «Лежебокие», «Приживальщики». Такое намерение, как отмечалось выше, отражало планы самого Григоровича, о которых он писал А.А. Краевскому:
В промежутках времени набросал несколько эскизов и планов. Мне хочется заняться людьми дна, изображением городских нравов. Для этого я придумал написать ряд небольших статеек - листа два, тут будут абрисы разных фигур с Невского и Тверского бульвара, картины чердаков, кабаков и других увеселительных мест, быт гаеров, лакеев без места, нищих, приказчиков. На такое дело, я, кажется, способнее, чем на огромные предприятия вроде нескончаемых романов [Вокруг романа 2022, 45].
В действительности переживание литературной неудачи сопровождало Григоровича на протяжении его жизненного пути. Поощрение первых произведений и ядовитые отзывы о последующих лишали писателя веры в собственные силы. Отметим в связи с этим проницательность отзыва Аполлона Григорьева, который в 1864 г, т.е. спустя 12 лет, писал о Григоровиче в статье «Отживающие явления»:
Д.В. Григорович, вероятно, и сам увидал непрочность своей славы - и с горя принялся за прежний род свой, в котором он вовсе не «превосходствовал» особенно, в котором по крайней мере не признавался «превосходствующим», за род фельетонных романов и рассказов из петербургской или провинциальной жизни... Одним из них, печатавшимся долго в «Отечественных Записках» и истощившим терпение читателей до того, что автор и журнал не дали ему даже окончиться, - он скандализировался несравненно более, чем выведенный там какой-то провинциальный автор «Непризнанной индейки»; - затем Д.В. Григорович начал передавать публике свои путешествия и вообще после «Рыбаков» и «Переселенцев», утомивших читателей не менее упомянутого романа из провинциальной жизни, -исчез окончательно с поприща народного бытописания [Григорьев 1864, 16].
Причина раздражения Григорьева понятна и разъяснена выше. Однако искажая подлинную историю создания этого произведения («Проселочные дороги» были полностью напечатаны и завершились июльским номером 1852 г), критик был близок к разгадке литературной неудачи самого Григоровича, поставив знак равенства между Дрянковым и его создателем.
Григорович неоднократно писал своим корреспондентам о необходимости создать такое произведение, которое бы могло окончательно упрочить его положение в литературе.
«Все сделанное мною до сих пор, - писал он в том же письме, - самому же кажется довольно слабым, но я все равно уверен, однако ж, что со временем пойдет лучше и лучше. Есть факты, которые доказывают, что раннее развитие наших талантов и дарований не обещает ничего прочного в будущем» [Вокруг романа 2022, 47].
Именно этой интенцией продиктовано его обращение к роману - жанру, который к началу 1850-х гг. сулил совершенно новые возможности для обобщения и самовыражения. Роман «Проселочные дороги» представлял собой попытку найти новый стиль и новые принципы сюжетосложения, во многом почерпнутые из фельетонной и пародийной литературы. На этом пути писатель пытался отказаться от пророческого пафоса Гоголя и вернуть авантюрно-плутовскому роману его былое, первоначальное значение. Одним из очевидных топосов, требующих деконструкции, стала личность писателя и творимый им «нерукотворный памятник», выродившийся в «Непризнанную индейку».
Спустя 70 лет «тупиковая линия» Аполлона Егорьевича Дрянкова получит развитие в романах И. Ильфа, Е. Петрова, В. Каверина и К. Ваги-нова [Жиличева 2018]. Ближе всего к этому типу окажется Васисуалий Лоханкин, соединивший в себе капитана Лебядкина, Фому Опискина и писателя-неудачника из романа Григоровича.
Список литературы Репрезентация карьеры писателя-беллетриста в романе Д.В. Григоровича "Проселочные дороги"
- Акимова Н.Н. Художник в русской беллетристике эпохи романтизма // Научные труды. 2015. № 35. С. 118-138.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 c.
- Вдовин А.В. «Неведомый мир»: русская и европейская эстетика и проблема репрезентации крестьян в литературе середины XIX века // Новое литературное обозрение. 2016. Т. 146. № 5. С. 287-315.
- Вокруг романа «Проселочные дороги»: переписка Д.В. Григоровича и А.А. Краевского 1850-1852 годов // Русская литература. 2022. № 2. С. 146-160.
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. О литературном герое. М.: Азбука-Атикус, 2016. 704 с.
- Григорович Д.В. Записи названий деревень и [произведений, которые он собирался написать], женских и мужских прозвищ, наблюдений // РГАЛИ. Ф. 138. Оп. 2. Ед. хр. 2.
- Григорович Д.В. Проселочные дороги // Григорович Д.В. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 3. СПб.: Издание А.Ф. Маркса, 1896. 387 с.
- Григорьев А. Отживающие в литературе явления. Prolegomena. Григорович // Эпоха. 1864. № 7. С. 1-26.
- Жиличева Г.А. Функции металепсисов в романах постсимволизма // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 54. C. 194-205.
- Журавлева А.И. Кое-что из былого и дум. М.: Изд-во МГУ, 2013. 272 с.
- Зенкин С.Н. Натурщица и шедевр (Бальзак и его продолжатели) // Studia Litterarum. 2018. Т. 3. № 1. С. 10-57.
- Киселева Л.Н. Проблема включения второстепенных писателей в литературный канон (на примере А.А. Шаховского) // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2019. № 1. С. 27-33.
- Козлов А.Е. Рефлексия и нарратив в «романе без интриги» Д.В. Григоровича «Проселочные дороги» // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 421. С. 5-11.
- Лотман Л.М. Григорович // История русской литературы: в 10 т. Т. 7. М.; Л.: Наука, 1955. С. 301-339.
- Мещеряков В.П. Григорович: писатель и искусствовед. М.: Художественная литература, 1985. 176 с.
- Пономарева А.А. Литературные сюжетные коды в беллетристике 1850-х годов: дис. ... к. филол. н: 10.01.01. Новосибирск, 2017. 196 с.
- Русская литература в 1852-м году // Отечественные записки. 1853. № 1. C. 1-45.
- Сильман Т.И. Диккенс. Очерки творчества. Л.: Наука, 1970. 303 с.
- «Современник» против «Москвитянина». Литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов / Изд. подгот. А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков, А.С. Федотов. СПб.: Нестор-История, 2015. 872 с.
- Тюпа В.И. Автор и нарратор в истории русской литературы // Критика и семиотика. 2020. № 1. С. 22-39.
- Успенский П.Ф., Федотов А.С. Гражданское как интимное: дискурсивный контрапункт в стихотворении Н.А. Некрасова «Ночь. Успели мы всем насладиться.» // Русская литература. 2021. № 4. С. 38-51.
- Феномен творческой неудачи / Под ред. А.В. Подчиненова, Т.А. Снигиревой. Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2011. 424 с.
- Феномен творческой неудачи / Под ред. А.В. Подчиненова, Т.А. Снигиревой. М.: Юрайт, 2018. 484 с.
- Шмид В. Нарратология. М.: ЯСК, 2005. 312 с.
- Ямпольский И.Г. Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И.И. Панаева) // Поэты и прозаики. Статьи о русских писателях XIX - начала XX века. Л.: Советский писатель, 1986. С. 92-110.
- Brunson M. Russian Realisms: Literature and Painting, 1840-1890. Illinois: Northern Illinois University Press, 2016. 264 p.
- Harris W.V. Bakhtinian Double Voicing in Dickens and Eliot // English Literary History. 1990. Vol. 57(2). No. 2. P. 445-458.
- Paganoni M.C. The Magic Lantern: Representation of the Double in Dickens. New York: Routledge, 2008. 212 p.