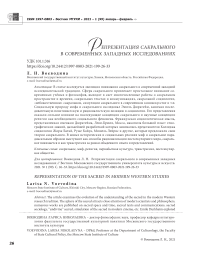Репрезентация сакрального в современных западных исследованиях
Автор: Воеводина Лариса Николаевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: История и теория культуры
Статья в выпуске: 1 (99), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуется эволюция понимания сакрального в современной западной исследовательской традиции. Сфера сакрального привлекает пристальное внимание современных учёных и философов, выходят в свет многочисленные работы о сакральном пространстве и времени, сакральных текстах и коммуникациях, сакральной социологии, «небожественном» сакральном, симуляции сакрального в современном киноискусстве и т.п. Социальную природу мифа и сакрального исследовал Эмиль Дюркгейм, занимая последовательную позитивистскую и рационалистскую позицию в социологии. Его представления оказали сильное влияние на последующие концепции сакрального и научные концепции религии как необходимого социального феномена. Французская социологическая мысль, представленная именами Дюркгейма, Леви-Брюля, Мосса, накопила большой пласт этнографических знаний, дальнейшей разработкой которых занимались представители Колледжа социологии Жорж Батай, Руже Кайуа, Мишель Лейрис и другие, которые предложили свои теории сакрального. В новых исторических и социальных реалиях миф и сакральное парадоксальным образом выступают как способы рационализации постсекулярного мира, сакральное понимается и как трансгрессия за рамки обыденного опыта и представлений.
Сакральное, миф, религия, первобытная культура, трансгрессия, постсекулярное общество
Короткий адрес: https://sciup.org/144162044
IDR: 144162044 | УДК: 101.1:31 | DOI: 10.24412/1997-0803-2021-199-26-33
Текст научной статьи Репрезентация сакрального в современных западных исследованиях
Постижение сакрального средствами научного знания и логики – довольно трудное и неблагодарное дело, если в принципе возможное, и каждый исследователь, который соприкасался с этой проблемой, это осознавал и пытался с этим справиться в меру своих сил. Такова природа сакрального – сокровенного, скрытого, недоступного для непосвящённых.
Проблема сакрального представляется нам существенной для понимания специфики мифа среди других многообразных подсистем культуры, без исследования которой он не может быть научно определён и понят.
Наряду с мифом, концепт «сакральное» рассматривался в русле самых различных гуманитарных и общественных наук. Исследовательский интерес в настоящее время к данному явлению остаётся неизменным, что, видимо, обусловлено той беспрецедентной ролью, которую играют сакральное и миф в жизни общества и культуре на протяжении огромного исторического времени, а также в современном мире.
Сферу сакрального соотносят с религиозным культом, обрядово-ритуальной практикой, выходят в свет многочисленные работы о сакральном пространстве и времени, сакральных текстах и коммуникациях, сакральной социологии, «небожественном» сакральном, симуляции сакрального в современном киноискусстве и т.п.
Проблема мифологии и религии была обозначена ещё в Античности, когда греческие философы и учёные предложили первые интерпретации мифа: аллегорическое, символическое и евгемерическое, тем самым продемонстрировав, более или менее, рациональный подход и объяснение специфики мифа как культурной формы.
Особое внимание к религии намечается в XVIII столетии, в эпоху Просвещения, когда антиклерикально настроенные французские философы обрушились на религиозные устои общества, пытаясь заменить их верой в разум, прогресс науки, новой идеологией и моралью. С развитием научного познания в XIX веке, с появлением новых научных дисциплин происходит радикальный отход от теизма, мифология и религия становятся объектами изучения антропологов, религиоведов, лингвистов, литературоведов, социологов и т.п.
О том, что в основе мифов и шире – сакральных текстов заложена специфическая логика, отличная от формальной, аристотелевской, размышляли и Джеймс Джордж Фрэзер, и Люсьен Леви-Брюль, который предложил концепцию дологического, или пралогического, мышления, и многие другие учёные, пытаясь дать им определение и выяснить специфику [8].
Являясь одной из первых знаковых форм культуры, первобытный миф и механизмы его формирования лежали в истоках антропогенеза и культурогенеза, имен- но с ними связаны механизм дуальности и редупликации культурных явлений, семантика первобытной культуры, появление разнообразных символических форм. Генезис сакрального уходит своими корнями к предрелигиозному этапу развития первобытного коллектива, когда в мифе, как одной из самых ранних форм культуры, в неразрывном единстве находились идеологическая и практическая сферы. С эволюцией мышления, его продуктивным развитием происходит выделение сакральных объектов, которые осознаются табуированными и доступными только жрецам, и т.п.
В рамках первобытной культуры формировалась семантическая система по законам дуальной организации, и дальнейшее её развитие было связано с постепенным образованием понятийного аппарата на основе образов, не имеющих сначала чётких понятийных границ. Представление о священном относилось к тотемам растительного или животного происхождения, которые воспринимались как особо значимые, почитаемые первобытным коллективом и табуированными для большинства его членов. Тотем представляет безграничную власть первобытного коллектива, власть рода над сознанием человека, олицетворяет сам первобытный коллектив. В обрядово-ритуальной практике сначала использовались предметы повседневного обихода, которые также постепенно начали восприниматься как особые, сакральные, неприкосновенные для
Характерными чертами сакрального прецедента являются априорность и императивный характер, а также то, что он в архаической культуре изначально выступает в качестве некой модели, матрицы способов поведения. Сакральное связывает трансцендентный и имманентный аспект жизне- деятельности родового коллектива, отражает социальную организацию и власть рода, его мощь, конечность индивидуального существования снимается бесконечностью бытия родового коллектива, выраженного в ритуально-мифологическом комплексе.
О важности для культуры сакрального прецедента размышляли многие исследователи, указывая на то, что для архаической первобытной ментальности характерно представление о родстве человека с вещами и явлениями окружающего мира, а позднее и с космосом. В частности, А. А. Пели-пенко отмечал, что: «Сакральный прецедент – это семантически оформленная связка сильного, глубокого и социально значимого партиципационного переживания с теми его конкретными формами, в каких оно ситуативно содержалось. Этой ситуативной оформленности достаточно, чтобы им “зарядиться” от того переживания его энергией и сущностью и тем “заслужить” статус са-моположенной и самодостаточной позитивной матрицы культурного текста» [10, с. 73].
Социальную природу мифа и сакрального исследовал Эмиль Дюркгейм, занимая последовательную позитивистскую и рационалистскую позицию в социологии, его представления оказали сильное влияние на последующие концепции сакрального и научные концепции религии как необходимого социального феномена. Дюркгейм, вслед за Гербертом Спенсером, задавался вопросом о роли религии в тотемистическом об- всех, кроме жрецов.
ществе, полагая, что религия, моральные и правовые установления в обществе служат для поддержания социальной солидарности, порядка, интеграции членов социума [5]. Стремясь, вслед за Контом, к поиску научного метода в социологических исследованиях, он призывал к объективному и непредвзятому изучению социальной реальности с опорой на эмпирические исследования, наблюдения и факты.
Дюркгейм считал, что не следует социальное объяснять психологическими и биологическими причинами, а сама социальная система является надындивидуальной реальностью и обладает эмерджентными характеристиками. Он выделяет такие черты первобытного общества, как отсутствие разделения труда и безусловная значимость коллективного сознания, которое господствует над индивидуальным. Коллективное сознание – это общие для всей группы представления, они принадлежат всему данному обществу. Оно «представляет не нас самих, а общество, живущее и действующее в нас; другое (индивидуальное сознание. – Л. В. ), наоборот, представляет собой то, что в нас есть личного и отличного, что делает из нас индивида» [4, с. 138].
Коллективные представления – это и есть религиозные представления, к которым Дюркгейм причислял мифы, они «от-зеркаливают» родовую организацию, социальную реальность. Тотемизм отражает и конституирует родовую организацию первобытного коллектива. Религия представляет собой, таким образом, область сакрального, коллективного, индивидуальное есть область профанного. Любая религия сохраняется до тех пор, пока в состоянии выполнять свои функции.
В работе «Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая система в Австралии» [5] на основе антропологи- ческих исследований коренного населений Австралии Дюркгейм обращается к одной из самых архаичных религий для выявления её первичной элементарной формы. Если сначала в культовых целях использовали любые предметы, то впоследствии их выделили как сакральные, особо почитаемые, недоступные для всех, в противовес профанной обыденной сфере. Религия в первобытном обществе представляет собой некую совокупность верований и действий, относящихся к сфере священных, запретных для всех, кроме жрецов, вещей.
Статус сакральной в первобытном коллективе может приобретать любая вещь, перед которой человек испытывает религиозное поклонение. Дюркгейм выявил, что нечистая вещь или злая сила могут приобретать статус сакрального. Дюркгейм отмечает: «В действительности нет религий, которые были бы ложными. Все они истинны в своём роде: все они соответствуют, хотя и разными способами, данным условиям человеческого существования» [5].
И Эмиль Дюркгейм, и Марсель Мосс считали сакральное социальным, наделённым особым статусом для первобытного коллектива. Представления о сакральном утверждают ценностно-смысловую иерархию данного общества. Сакральное вызывает аффекты большой силы, некое возбуждение, эмоциональную вовлечённость индивидов, собравшихся вместе после расставания, предполагает экспрессивные действия, выходящие за пределы спокойного обыденного существования. Сакральные объекты в первобытной культуре могут вызвать не только почитание и благоговение, но и другие аффекты, если просьбы, обращённые к ним, не исполняются, – это гнев и агрессия, наказание и избиение. Вслед за Уильямом Робертсоном-Смитом Дюркгейм счи- тает, что сакральное амбивалентно. Мирча Элиаде поддерживает идею Дюркгейма о том, что религия представляет собой сакральный опыт [12].
Французская социологическая мысль, представленная именами Дюркгейма, Леви-Брюля, Мосса, накопила большой пласт этнографических знаний, дальнейшей разработкой которых занимались представители Колледжа социологии Жорж Батай, Руже Кайуа, Мишель Лейрис и другие, которые предложили свои теории сакрального.
Предметом их исследований являлись не только первобытное общество и их мифология, но и современные институты и организации, политические партии, тайные сообщества и ордена, а также мир повседневности.
Они хотели вернуть сакральное в социум и назвали свою социологию сакральной. Конечно, их взгляды на сакральное в чём-то расходились, у них не было единодушия в его понимании. Если их предшественники демонстрировали позитивистский подход к изучению традиционных культур, создавали теоретические построения на основе этнографических данных, то представители Колледжа социологии обратились к современным реалиям культуры и общества, рассматривая сакральное в современном мире. Они понимали, что сакральное в наиболее репрезентативной форме выражено в жизни архаических обществ, а в настоящем оно неизбежно исчезает, поэтому считали, что нужно предпринимать попытки к его вос- становлению, пусть и в совершенно новых формах.
Мишель Лейрис, которого называли сюрреалистом в этнографии, в работе «Сакральное в повседневной жизни» пишет о том, что сакральное видоизменяется, его эволюция разворачивается от коллективно- го к индивидуальному и бессознательному. Лейрис с упоением описывает воспоминания, касающиеся собственного детства, сакрализацию предметного мира, окружавшего его, когда он был ребёнком, они одновременно завораживали, притягивали к себе и отталкивали: «Переносясь в мыслях в своё детство, я прежде всего обнаруживаю какие-то идолы, какие-то храмы, то есть какие-то сакральные места. В первую очередь это некоторые вещи, принад- лежавшие отцу, символы его могущества и авторитета. Его цилиндр, водружавшийся вечерами на вешалку, после возвращения с работы. Его револьвер, Смит энд Вессон, с опасным, как у любого огнестрельного оружия, барабаном и с настолько же притягательным блеском никелированного металла …» [7, с. 75].
Лейрис описывает «своё сакральное», или индивидуальное сакральное: родительский дом, локации своего детства, где он гулял, секретный союз с братом и сочинение разных историй, в результате сакральное расширяется им до таинственного, чудесного, тайного, сокровенного. По сути, здесь мы видим, как обыденные предметы наделяются каким-то символическим значением, происходит сакрализация профанного, а дети с их секретами выступают как посвящённые в противовес взрослым, целиком погруженным в свою бесцветную повседневность, в профанное.
Роже Кайуа усматривает амбивалентность сакрального, он выделяет сакраль- ное чистое и нечистое, считая, что так проявляется религиозная полярность, но особенно интересным, на наш взгляд, является то, что он приходит к представлению об энергетической природе сакральной сферы: «Мир сакрального противостоит обыденному миру как мир энергий миру суб- станций. С одной стороны, силы, с другой – вещи … Отсюда непосредственно вытекает важное следствие для понятий чистого и нечистого: они предстают как в высшей степени подвижные, взаимозаменяемые, двойственные» [6, с. 234]. Причём эта энергия, сила, может выступать как нечто, несущее добро либо зло, что зависит от обстоятельств проявления этой силы.
По мнению Жоржа Батая, сакральное у примитивных народов обладает амбивалентностью, так как понимается и как проклятое, скверное, нечистое, табуированное, неприкосновенное (трупы, изгои и т.п.), – эти объекты вызывали сильнейшие переживания, которые носили противоречивый и даже отталкивающий характер. По его мнению, сакральное может адекватно быть понято не социологией, а феноменологией [7].
Представители Коллежа социологии стремились к возрождению «чистого» сакрального в современном обществе на фоне того, как мировая политика принимала удручающий характер, поскольку пришедшие к власти фашисты пытались воплотить сакральное в современном обществе, повернув историю человечества вспять, к архаике. Дени де Ружмон в «Немецком дневнике» пишет о том, что атеизм повсеместно распространился среди современных людей, которые, по сути, не имеют духовной культуры, они оказываются в отношении к христианской религии абсолютно несведущими «в большей степени “варварами”, чем полинезийские народности с их ритуалами и колдунами. А если в этих массах пробуждается религиозный голод, то он также рискует найти удовлетворение в средствах самого грубого характера, например, в одном только чувстве телесного братства, патетики шествия рука об руку. Это не просто гипотеза: достаточно оказаться по ту сторону Рей- на, чтобы до дрожи священного ужаса ощутить чудовищную реальность одной из этих религий …» [14, p. 357].
В новых исторических и социальных реалиях миф и сакральное парадоксальным образом выступают как способы рационализации постсекулярного мира. Сакральное – это всегда выход, трансгрессия за рамки обыденного опыта и представлений. Онтологически сакральное находится в оппозиции к миру профанного, обыденного, с точки зрения аксиологии сакральный объект обладает особой исключительной значимостью и абсолютной истинностью. Профанное подвергается сакрализации, а сакральное профанируется – таковы процессы, протекающие в современной культуре.
Немецкий философ Курт Хюбнер отмечает, что «научное “расколдовывание” мира, развивающееся всё дальше и дальше, создаёт вместе с тем гнетущее впечатление пустоты и недостатка чего-то. В будущем видится почти неудержимое технологическое развитие, которое может привести в конце концов к самоуничтожению человека. Поэтому многие впадают в мифоподобные эр-зацрелигии, священные учения или политические доктрины, от которых ждут освобождения» [12, с.3].
Уникальный характер сакрального связан с его универсальностью и тотальным господством в духовной культуре человечества на протяжении истории человечества, но особенно в первобытных обществах и древних цивилизациях. Мифы первобытного общества, как и другие первые формы культуры, возникают закономерно, как попытка адаптации индивидов к окружающим условиям существования, а также как способ психической адаптации к реальности. Трудность выявления специфики сакрального обусловлена многими причина- ми. В исследованиях современных философов сакральное, как концепт с нечётко выраженными границами, сливается с другими, оно растворяется в религии и представлении о богах.
У современных исследователей границы сакрального теряются, и речь идёт о трансгрессии, выходе за границы сферы религии, распространении сакрального на сферы повседневности, политику и искусство.
Список литературы Репрезентация сакрального в современных западных исследованиях
- Батай Ж. «Проклятая часть»: сакральная социология. Москва : Ладомир, 2006. 742 с.
- Воеводина Л. Н. Мифология и культура = Mithology and Culture. Москва : Институт общегуманитарных исследований, 2002. 356 с.
- Гриненко Г. В. Сакральные тексты и сакральная коммуникация : Логико-семиотический анализ вербальной магии. Москва : Новый век, 2000. 445 с.
- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / [перевод с французского А. Б. Гофмана]. Москва : Канон, 1996. 430 с.
- Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения : антология. Том 2 / перевод с английского, немецкого, французского, сост. и общ. ред. : А. Н. Красникова. Москва : Канон +, 1998. С. 174-230.
- Кайуа Р. Двойственность сакрального // Коллеж социологии. 1937-1939 / составлено Дени Олье ; перевод с французского Ю. Б. Бессоновой, И. С. Вдовиной, Н. В. Вдовиной, В. М. Володина ; под редакцией В. Ю. Быстрова. Санкт-Петербург : Наука, 2004. С. 239.
- Коллеж социологии. 1937-1939 / составлено Дени Олье ; перевод с французского Ю. Б. Бессоновой, И. С. Вдовиной, Н. В. Вдовиной, В. М. Володина ; под редакцией В. Ю. Быстрова. Санкт-Петербург : Наука, 2004. 607 с.
- Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Москва : ОГИЗ, 1937. XXXII+518 с.
- Мосс М. Социальные функции священного / [перевод с французского под ред. Утехина И. В.]. Санкт-Петербург : Евразия, 2000. 446 с.
- Пелипенко А. А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. Москва : МГУКИ, 2007.434 с.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследования магии и религии / перевод с английского М. К. Рыклиной. Москва : Политиздат, 1980. 831 с.
- Хюбнер К. Истина мифа / [перевод с немецкого И. Касавиной ; перевод справочного аппарата И. Шишкова]. Москва: Республика, 1996. 446 с.
- Элиаде М. Священное и мирское / перевод с французского, предисл. и коммент. Н. К. Гарбовского. Москва : Изд-во МГУ, 1994. 144 с.
- Rougemont D. de Journal d'une époque (1926-1946). Paris, 1948.