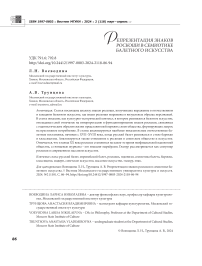Репрезентация знаков роскоши в семиотике балетного искусства
Автор: Воеводина Л.Н., Трунцова А.В.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Художественная культура
Статья в выпуске: 2 (118), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу знаков роскоши, получивших выражение в отечественном и западном балетном искусстве, где знаки роскоши выражены в визуальных образах персонажей. В статье показано, как культурно исторический контекст, в котором развивается балетное искусство, откладывал свой отпечаток на интерпретацию и функционирование знаков роскоши, связанных с гедонистическим образом жизни представителей верхних слоев общества, формирующих запрос на престижное потребление. В статье анализируются наиболее показательные отечественные балетные постановки, начиная с XVII XVIII века, когда русский балет развивался в стиле барокко и классицизма. Анализируется также отношение к роскоши в советском обществе и искусстве. Отмечается, что в конце XX века роскошь становится на какое то время неофициальной идеологией общества, а глянцевые журналы его знаками маркёрами. Гламур рассматривается как симулякр роскоши в современном массовом искусстве.
Русский балет, европейский балет, роскошь, гедонизм, семиотика балета, барокко, классицизм, модерн, советское искусство, массовое искусство, гламур, знак
Короткий адрес: https://sciup.org/144163080
IDR: 144163080 | УДК: 791.6, | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-2118-86-94
Текст научной статьи Репрезентация знаков роскоши в семиотике балетного искусства
В русском искусстве, в том числе и балете, тема роскоши получила выражение в гедонистических сюжетах и знаках на фоне амбивалентного отношения к материальным благам и ценностям. С роскошью связаны представления о богатстве, об излишних жизненных удобствах. Роскошь выступает как маркер высокого социального, политического и экономического положения и связана с избыточным потреблением. Развитие русского гедонизма сдерживалось православным пониманием связи соблазна и роскоши.
В православной культуре к слову «соблазн» наиболее близко по смыслу слово «искушение», имеющее смысл испытания веры. Искушение выражается в обстоятельствах, при которых есть опасность потерять веру, оказаться во власти греха. Всякое искушение происходит от власти зла через плоть-тело.
Церковь запрещала актерство и танцы. Исключением являлись библейские танцы. Царь Алексей Михайлович перед посещением балета «Об Орфее», данного в селе Преображенском в 1675 году, получал разрешение духовника, а после представления долго отмаливал свой грех [14, с. 7].
В Европе знаки роскоши сопровождали королевскую власть, придворных, аристократию, она существовала в самых разных формах – дворцы монархов, одеяния короля и придворных, знати, украшения из драгоценных камней, золота. Генетически тенденция к роскоши русского царского дворца связана, по-видимому, с византийской склонностью к демонстративной роскоши. Европейская аристократия также стремилась к богатству и его демонстрации. Роскошным следует считать, например, бургундский двор, где исполнялся тордион – танец, особенно популярный в XV – начале XVI века [10]. Богатые и изысканные одежды не мешали прыжкам и довольно быстрым поворотам корпуса.
Но наряду с ориентацией на вполне земные ценности, в европейской культуре были и устойчивые представления о смертности людей и тщетности богатства. В средневековом изобразительном искусстве и словесности был известен макабр, «Dance macabre» (француз.) – «Пляска смерти», сюжет, весьма распространенный и популярный, в котором исполнительница-смерть уводила за собой разнообразных персонажей, представителей различных социальных слоев: короля, монаха, купца, молодого человека, девушку. Этот сюжет разыгрывался и в драматической, мистериальной, и в танцевальной форме во Франции в XIV веке. Он поддерживался католическим духовенством, поскольку выражал тщетность земных желаний и наслаждений, бренность земного существования людей и временность, преходящий характер земной власти и роскоши.
Тем не менее, в балетном искусстве знаки роскоши довольно ярко выражены. Они проявились в придворных танцах во Франции, где танцоры были одеты в пышную одежду с драпировками, что придавало некую чопорность движениям. Особенно распространённым был бранль с факелами, символическим подобием готической вертикали. Барочная роскошь в Русском государстве и Российской империи отличалась бо́льшей декоративностью, чем западная, но, к сожалению, балеты в стиле барокко малоизвестны. Историко-бытовые танцы дают приблизительное, упрощённое представление о технике сольных и массовых танцев в балете. Отчасти стиль и дух барочной роскоши передают танцы солистов Гран Опера, они реконструируют танцы эпохи Людовика XIV. Развитие знаков барочной роскоши в балете повлияло на стиль галантной европейской музыки середины XVIII века. Этот стиль выражал идиллические нежные чувства, приятные лёгкие эмоции. В елизаветинском барокко проявились некоторые черты русского гедонизма в балете: орнаментализм, аффектация, декоративность.
В Большом стиле Людовика XIV соединились черты барокко и классицизма, с безраздельным господством власти роскоши, примером чего является великолепный Версаль. При Людовике XIV придворный балет поднялся на новую высоту, с его помощью король демонстрировал силу своей власти, роскошь и блеск. Например, постановка «Балет ночи» продолжалась двенадцать часов и состояла из сорока пяти танцев, пять из которых танцевал юный Людовик, поскольку страстно любил балет.
В XVIII веке русский балет развивался в стиле классицизма, его отличает гедонизм и стремление к роскоши в оформлении. Русские балеты ставились иностранными хореографами. В балете итальянского балетмейстера, хореографа и композитора, теоретика классицизма Гаспаро Анджолини «Побеждённое предрассуждение» (1768 год) в аллегорической форме сталкивается роскошь и аскеза. Балет был поставлен в честь Екатерины II, по случаю ее вакцинации от смертельно опасной оспы и благополучного исхода этого мероприятия. Екатерина была представлена в аллегорическом образе роскошной Минервы, древнеримской богини мудрости, аскезу воплощали такие персонажи, как Суеверие и Невежество. Правда, императрице балет не понравился из-за грубоватых аллегорий.
Стремление к роскоши можно увидеть на примере творческой деятельности известного французского хореографа Шарля Ле Пика. Он работал в Петербурге с 1786 года в качестве танцовщика, а в 1797 году поставил балет «Медея и Ясон» Ж.-Ж. Родольфа, в котором проявились гедонистические тенденции. Его постановки отличались пышностью и незабываемой фееричностью.
Во Франции барочный и классический стиль сосуществовали одновременно, в России они следовали друг за другом. В эпоху барокко Петербург сравнивали с Амстердамом, а во времена классицизма – с Римом.
Целесообразность политической семиотики оказалась выше семиотики искусства. Православная церковь возражала против развития рациональных мотивов роскоши в искусстве, включая оформление танца, требовала большей аскетичности и иррациональности как доказательства веры. Несмотря на это, в балете эпохи классицизма была достигнута гармония телесного начала с ритмом и композиционным равновесием.
В России народные шотландские танцы в начале XIX века были объединены под названием англэз. А. Л. Бласс (1792–1852), будучи балетмейстером Большого театра, пытался соединить российскую пышность с английской роскошью в известной постановке балета «Шотландцы» [14, с. 52]. Воспроизвести русский гедонизм и роскошь попытался балетный педагог В. Ф. Гельцер. В 1879 году он поставил танцы к премьере оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», которые были исполнены силами студентов Московской консерватории. В стиле сдержанного готического гедонизма был поставлен балет М. Петипа «Раймонда» (1898 год). События происходили в средневековом замке. Рыцарь Жан де Бриен защищает свою любовь. Ещё ранее был поставлен другой балет, выдержанный в этом стиле, «Рауль де Креки, или Возвращение из крестовых походов» (Ш. Дидло, 1819 год) [14, с. 425, 603].
В XIX веке дворянство утратило свою субъектность в реальном владении роскошью. На историческую сцену выходят представители третьего сословия. В дворянской культуре роскошь составляла основу придворных балетов. У представителей третьего сословия знаки роскоши носили черты театральности, символизма, они были репрезентированы в реалистическом балете. Знаки бедности в балетах, поставленных в конце XIX века, не раздражали публику. Персонажи, изображающие простой народ, воспринимались как носители духовного богатства. Ситуации переодевания, символическое изменение статуса богатых на бедных встречалось чаще, чем демонстративный отказ от богатства, роскоши. При этом знаки роскоши нередко воспринимались как знаки личных достижений, удачи.
В XX веке Дж. Баланчин в балетных сценах к опере П. Чайковского «Евгений Онегин» (Гамбург, 1962 год) показал главного персонажа сквозь призму американских представлений о гедонизме и роскоши [14, с. 35]. Дж. Крэнк в балете «Онегин» отдаёт предпочтение английской версии роскоши, учитывая дендизм главного героя, это оправдано. При сочинении пластического образа Евгения Крэнком найден точный психологический момент. Герой поправляет роскошные запонки, как бы нащупывая собственный пульс, контролируя свою холодность.
Одна из смысловых цепочек соблазна роскошью связана в современной культуре с таким явлением, как гламур. Это слово происходит из староанглийского языка, шотландцы использовали его для обозначения волшебства. Во французском языке существовало два самостоятельных понятия: grammaire – обучение и grimoire – колдовская книга, собрание заклинаний. В XVII веке grammaire превратилось в английское grammar. У шотландцев оно трансформировалось в glamour. 1721 год – первое письменное упоминание glamour. Аллан Рамзай употребил его, описывая оптический обман колдунов и фокусников [9, с. 40, 43].
Слово «гламур» можно найти в произведениях замечательного шотландского писателя Вальтера Скотта (1771–1832), в частности, в поэме «Песнь придворного менестреля» (1805 год). «Glamour» он понимал как волшебный дар женщины, с помощью которого она может преображать окружающие предметы и свою внешность в нечто очаровательное и изысканное. Также это некое волшебство и магия. Впрочем в бедной Шотландии гламур символизировал распад клановой организации общества. С его помощью сокращалась социокультурная дистанция между Эдинбургом и Лондоном. В. Скотт уловил символическую природу столичных вещей (особенности кроя камзолов, фасонов рубашек, шляп).
Существует точка зрения, что гламур нельзя рассматривать как преобразованную форму аристократической роскоши, он является идеологией и образом жизни нового класса, осваивающего область престижных вещей [3, с. 11–12]. В настоящее время насчитывается свыше 300 различных определений гламура [9, с. 19]. Гламур – это и определенный образ жизни, который обсуждается в культурологических исследованиях [7, с. 208; 13, c. 3–5]. Появились и идейные противники гламура [5, с. 15, 24]. Историю гламура связывают с историей моды. Е. Н. Ша-ганова усматривает связь концепта «гламур» с английской формой glum, используемой для обозначения специфического стиля в музыки [15, с. 167].
Французы считают, что гламур появился в середине XIX века в императорской Франции, когда монархия боролась с буржуазией, а Париж символизировал всё лучшее. Тем самым происхождение этого феномена было связано с политической семиотикой. Французский балет в эти годы начинает испытывать определённые трудности, балетных премьер становится меньше. Обеспеченная публика предпочитает салоны, выставки и поездки на воды.
В США существует собственная версия происхождения гламура, согласно которой он возник в 20–30-е годы прошлого века в Голливуде как изображение «красивой жизни» в фильмах [9, с. 24]. Основными признаками голливудского гламура являются утрированная женственность, роскошные ткани, узкий прилегающий силуэт, декольте, длинные перчатки, туфли на высоком каблуке [1, с. 96–97]. Гламуру соответствовало распространение джаз-танца.
Символом «Советского Голливуда» была актриса театра и кино Любовь Петровна Орлова (1902–1975) – звезда советского кинематографа, получившая популярность в 30–40-е годы XX века, начинавшая как артистка кордебалета [16, с. 17, 65]. Вокальный и танцевальный талант она проявила в музыкальных комедиях режиссера Г. В. Александрова
«Веселые ребята», «Цирк», «Светлый путь», «Весна» и др. Вместе с Александровым, который стажировался в США и Европе, они создают новый тип главной героини. Дворянское происхождение Орловой не помешало ей воплотить в кинематографе образ советской женщины. Она осветляет волосы, первой из советских артисток делает пластические операции, одевается по последней европейской моде, бывая за границей.
В 1929 году голливудский гламур удалось перенести на сцену Большого театра. Впервые в его стенах прозвучала джазовая музыка. К. Я. Голейзовский – российский артист балета, хореограф-экспериментатор представил 12 танцовщиц. Для них были придуманы 42 комбинации, соответствующие синкопированным ритмам И. О. Дунаевского. Выступление группы гёрлс на Западе строилось на движении ног с резком броском вверх. Движение было признано гламурным в Европе, но балетмейстер отказался от него.
В чём-то гедонизм XX века напоминает барокко. Его вычурность позволяет считать этот гедонизм новым прочтением барокко в век цифровых технологий. В барочной роскоши балет не достиг знаковой обособленности, однако основа для семиотической системы была создана. Для неё характерно стремление к виртуозной технике и усиление положительного эмоционального отношения. Танцевальные знаки в барочной роскоши казались размытыми. Хореографический текст не указывал, но напоминал о создании смысла.
Гедонизм и стремление к роскоши XX века вызваны к жизни эпохой модерна. К началу XX века гедонистический образ жизни стали исповедовать творческие слои общества: художники, музыканты, артисты балета. Перекодировка смыслов роскоши, взятых из разных знаковых систем, далеко не всегда усиливала хореографический текст. Иногда происходило обеднение танцевального кода, господство изображения над выражением. В танцевальном гедонизме был провозглашён принцип костюмной, музыкальной опи-сательности.
Русский модерн неизбежно отразился в русском гедонизме, соединившем элементы роскоши из французской культуры (женский вариант) с английским дендизмом (мужской вариант). Французский, английский гедонизм связан с повседневностью, граничащей с роскошью. Напротив, русская эпоха модерна тяготеет к праздничности и постоянно выходит за границы роскоши. Танец модерн можно определить как аскетичный. Представители течения европейского модерна обращались к теме страха, страдания и смерти. Для этого стиля в танце были характерны: аскетическая изломанность линий, грубость и небрежность формы. Американский танец в стиле модерн более связан с гедонизмом, он отображается в сложном рисунке движений, чтобы привлекать и соблазнять. В России лексикой позднего модерна блестяще владел Е. А. Панфилов. Он основал собственную труппу – Пермский театр модерна «Эксперимент». Гедонизмом насыщена панфиловская постановка «Любовные игры».
В гедонистическом сознании драгоценные камни символизируют богатство. Своё отношение к роскоши представляет Дж. Баланчин в балете «Драгоценности» (1967). Известно, что он восхищался драгоценными камнями и часто их дарил. Балет состоял из трех спектаклей. Первый спектакль – «Изумруды» был поставлен на музыку Г. Форе, второй – «Рубины» – на музыку «Каприччо» И. Ф. Стравинского, третий – «Бриллианты» – на музыку Третьей симфонии П. И. Чайковского [2, с. 192]. Были изготовлены великолепные костюмы, пышные и с большим количеством украшений. Изумруды символизировали французский балет с его романтическими традициями, рубины – новый американский балет, а бриллианты – русский балет эпохи Петипа. Балет был показан в СССР в 1972 году [14, с. 34, 576].
Владельцы драгоценных камней воспринимаются мифологическим сознанием как наделенные особенной силой, могуществом. В магии драгоценности помогают удовлетворять желания. В 60-е годы XIX века балетоман Н. И. Кокшаров преподнёс
М. С. Суровщиковой-Петипа кольцо, составленное из камней: малахит, аметист, рубин, изумруд, яшма. Вместе они образовали имя «Мария». В Большом театре возникла гламурная традиция: танцовщицы носили кольца и броши с камнями, обозначающими их имена. Для подарка достаточно было совпадения первой буквы имени балерины и названия камня, но и здесь были сложности. Павлова не любила аметисты, алмазы требовали огранки. Оставался агат, но ему не хватало ценности. Т. П. Карсавина вполне удовлетворялась топазами.
В советском балете «Рубиновые звёзды» драгоценности заменяют их симулякры, технические аналоги. Использование драгоценностей как знака роскоши происходило и раньше. В 1861 году А. Сен-Леон поставил в Мариинском театре балет «Севильская жемчужина» на музыку Ц. Пуни. В балете были заняты Е. П. Соколова, учившая Кшесинскую, а также М. Н. Муравьёва [14, с. 606].
На торжествах по случаю коронации Николая II Петипа в Большом театре (1896 год) поставил балет «Жемчужина». Кшесинская хотела получить партию Жемчужины, но её доверили П. Леньяни. По приказу от Двора была написана дополнительная музыка, Петипа поставил па де де специально для М. Ф. Кшесинской, которое назвали «Жёлтая жемчужина», поскольку уже были белые, чёрные и розовые жемчужины. В июле того же года Кшесинская уже танцевала партию Белой жемчужины на Ольгином острове. Балерина выходила из большой раковины [8, с. 73, 86].
Жемчужина в символике роскоши означает богатство, посвящение. Роскошными признаются идеальная округлость формы и блеск жемчужины. Известен миф о рождении Афродиты из морской пены, капли, падающие с неё, превращаются в жемчуг. Черты роскоши можно обнаружить в па-де-де, восстановленном П. А. Гердтом, «Жемчужина и рыбак» (Мариинский театр 1902 год) [14, с. 577]. Много позже К. Ф. Боярский поставил балет «Жемчужина», выдержанный в духе советского отношения к роскоши. Партию
Жемчужины исполняла А. Е. Осипенко. Спектакль получился абстрактным, оторванным от реальной жизни [14, с. 339].
Балерина, воплощающая гедонистическое отношение к роскоши, появилась в России накануне XX века, до этого фиксировались лишь черты увлечения роскошью у отдельных танцовщиц. В. Каралли была, по всей вероятности, первой балериной дореволюционной России, ценившей роскошь. Она имела эффектную внешность, в обществе обсуждался её роман с Л. В. Собиновым. Балерину считали причастной к смерти Г. Е. Распутина, чем объяснялся её неожиданный уход со сцены. Как и В. И. Холодная, Каралли стала звездой немого кино, снялась в 50-ти фильмах. Технические возможности балерины были ограничены. Под неё приходилось сокращать и переделывать партии [6, с. 175–178]. В эмиграции Каралли постепенно отошла от гламурного образа жизни и умерла в 1972 году в Бадене.
М. Ф. Кшесинская по формальным признакам подходит под определение балерины, любящей и ценящей роскошь. Она интересовалась драгоценностями, влияла на балетную моду, любила позировать для известных художников и скульпторов. Балерина могла поскользнуться на сцене, но никогда не надевала простого, некрасивого платья. Загородная езда на дамском велосипеде – одно из её любимых занятий [8, с. 80, 81]. Сложнее объяснить временное увлечение балерины сельским бытом. Она завела корову, имела козу, с которой выходила на сцену в партии Эсмеральды. Балерина отказалась танцевать в костюме с фижмами в балете «Камарго», хотя дирекция театра настаивала, её даже оштрафовали. Но вскоре директора С. М. Волконского сняли. Польский аристократизм Кшесинской не мог смириться с демократизацией общества.
А. П. Павлова воздерживалась от гедонистического образа жизни, но его навязывали организаторы гастролей. Она познакомила Париж с шалями, ввела в моду полоски ткани, которыми фиксировала талию. Балерина позировал с ручными лебедями, активно занималась благотворительностью.
Б. Ф. Нижинская поставила гедонистический по духу балет «Голубой экспресс» в 1924 году, в качестве художника была привлечена Г. Шанель. Персонажи в балете – это посетители модного пляжа. Постановка получила сдержанную оценку критиков. Балет с элементами роскоши «Чёрная магия» С. Лифаря в парижской опере 1934 год не оправдал ожидания публики [14, с. 392, 618]. Оказалось, что поставить ориентированный на гедонизм балет сложнее, чем аскетичный.
Откровенно аскетичный характер носили многие советские балеты. В них центральными персонажами были простые люди: доярки – «Светлый ручей», геологи – «Ангара» и т. д. Персонажи были одеты в стилизованную рабочую одежду. Они строили, открывали, завоёвывали. Советский человек превратился в своеобразный знак аскезы, функцию идеологической системы («Дочь народа»).
К советским балеринам гедонистического плана можно отнести Н. М. Дудинскую. Перед выступлением она занималась действием, похожим на колдовство. Перешивала «счастливые» тесёмки от старых туфель к новым. Любила, когда ей под ноги бросали цветы. Ела только серебряными приборами. Пыталась продлить молодость, выходя на сцену в 55 лет.
Г. С. Уланова, в конечном счёте, не поддалась советской аскезе. Стрижку Улановой в 30-е годы копировали. Красный купальник балерины для загородной поездки на Селигер не отвечал требованиям идеологического кода. Уланова любила машины с открытым верхом, однако образ гедонистической балерины противоречил образу лирических героинь с полутонами и намёками.
-
Н. Р. Макарова в партии Девицы-красы («Страна чудес», 1967 год) отказалась от гедонистической трактовки образа. Работы Макаровой, созданные за рубежом, были более гедонистичны. Налёт роскоши несёт партия Манон («Манон Леско»). Советское двойственное отношение к роскоши представляла балерина А. Е. Осипенко. У неё была огромная квартира, обставленная антиквар-
- ной мебелью, картинами в золочёных рамах. Осипенко выходила на прогулку с двумя борзыми.
Наиболее известной советской балериной, отстаивающей идеологию гедонизма, являлась М. М. Плисецкая. Балерина часто ездила на гастроли за границу, устраивала фотосессии, носила костюмы от П. Кардена. Знаменитый модельер создавал костюмы для её балетов. Балерина имела любимый парфюм от Р. Пиге [11, с. 233].
Балериной первого постсоветского периода, когда изменилось отношение к роскоши, могла бы стать Д. В. Вишнёва (р. 1977) – представительница петербургской школы классического танца; с 1995 года танцевала в Мариинском театре; будучи стажёром, исполняла роль Золушки. Балерина обладала большим шагом, стремительным вращением. Активно участвовала в рекламных акциях, приглашалась на презентации, имела дорогие статусные вещи. Миниатюрная и грациозная балерина появлялась в частных клубах. Однако серьёзное занятие танцем, поиск новых средств пластической выразительности предопределил выбор балерины не в пользу гламура.
В отечественном балете семиотика гламура получила развитие в конце XX века. В формулу экономики роскоши входят потребление престижных товаров, спрос на экзотику и эротику. Балерины начала XX века создавали образ с помощью изделий Фаберже, их преемницы, балерины XXI века, носят драгоценности от Картье и Тиффани. Символами роскошного образа жизни современных девушек является розовый цвет личных предметов и цвет волос блонд [4, с. 44, 46].
Таким образом, нами рассмотрена тема роскоши и ее репрезентация в балетном искусстве. В XIX веке носителями роскошного образа жизни были представителя верхних слоев общества, на балетной сцене изображалась жизнь королей и аристократии. Роскошь входила в мир аристократических ценностей. По мере социальных преобразований гедонистический образ жизни под влиянием процессов демократизации захватил и социальные низы. Так возник феномен симулякра роскоши. Постепенно знаки и образы роскоши приобретали эстетический смысл. В конце XX века роскошь становится на какое-то время неофициальной идеологией общества, а глянцевые журналы его знаками-маркёрами. Мифологизированная версия классического гедонизма противостоит современному гедонизму, его эклектике, проникшей в современный балет. Именно гедонизм стал знаком наступающей полистилистичности. Без изображения роскоши реальность на балетной сцене была бы неполной. Символическое потребление знаков роскоши в танце – удовлетворение желаний человека массовой культуры.
Список литературы Репрезентация знаков роскоши в семиотике балетного искусства
- Балдано И. Ц. Мода XX века: Энциклопедия. Москва: Олма-пресс, 2002. 400 с.
- Балет: Энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. Москва: Сов. Энциклопедия, 1981. 623 с.
- Гандл С. Гламур / пер. с англ. под ред. А. Красниковой. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 384 с.
- Иванов Д. Гламурный капитализм: логика «сверхновой экономики» // Вопросы экономики. 2011. № 7. С. 44-61.
- Калитин П. В. Метаморфозы современной России. Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2005. 256 с.
- Красовская В. М. Русский балетный театр начала ХХ века. 2. Танцовщики, Москва: Искусство, 1971. 456 с.
- Крысин Л. П. Гламур // Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. Москва: Эксмо, 2007. С. 208.
- Кшесинская М. Ф. Воспоминания. Москва: АСТ, 2017. 416 с.
- Спасская В. Библия гламура. Санкт-Петербург: Вектор, 2008. 224 с.
- Стил В., Парк Д. Готика. Мрачный гламур / пер. с англ. К. Щербина. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 192 с.
- Плисецкая М. М. Я, Майя Плисецкая. Москва: Новости, 1994. 496 с
- Постмодернизм. Энциклопедия/ сост. и отв. ред. А. А. Грицанов, М. А. Можейко. Минск: Интерпрес-сервис; Кн. Дом, 2001. 1040 с.
- Руднева Д. А. Гламур и его презентация в культуре постиндустриального общества на рубеже XX-XXI веков. Автореф. дисс... канд. Наук по специальности 24.00.0: Теория и история культуры. Екатеринбург, 2011. 19 с.
- Русский балет: Энциклопедия / ред. кол. Е. П. Белова, Д. Н. Добровольская, В. М. Красовская, Е. Я. Суриц, Н. Ю. Чернова. Москва: Большая Российская энциклопедия; Согласие, 1997. 632 с.
- Шагалова Е. Н. Глэм // Шагалова Е. М. Словарь новейших иностранных слов (конец XX - начало XXI вв.) Москва: Аст-Астрель, 2010. С. 167.
- Щеглов А. А. Любовь и маска. Москва: Олимп; Смоленск: Русич, 1998. 368 с.