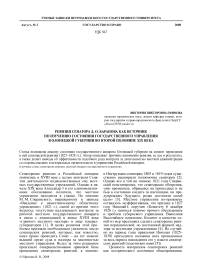Ревизия сенатора Д. О. Баранова как источник по изучению состояния государственного управления в Олонецкой губернии во второй половине XIX века
Автор: Ефимова Виктория Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Государство и право
Статья в выпуске: 2 (93), 2008 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу состояния государственного аппарата Олонецкой губернии на момент проведения в ней сенаторской ревизии (1827-1828 гг.). Автор описывает причины назначения ревизии, ее ход и результаты, а также делает выводы об эффективности подобного рода контроля за деятельностью местной администрации со стороны высших и центральных органов власти и управления Российской империи.
Сенаторские ревизии, местный аппарат государственного управления
Короткий адрес: https://sciup.org/14749410
IDR: 14749410 | УДК: 947
Текст научной статьи Ревизия сенатора Д. О. Баранова как источник по изучению состояния государственного управления в Олонецкой губернии во второй половине XIX века
Сенаторские ревизии в Российской империи появились в XVIII веке с целью контроля Сенатом деятельности подведомственных ему местных государственных учреждений. Однако в начале XIX века Александр I и его единомышленники обоснованно полагали, что местное управление находится в упадке. По мнению М. М. Сперанского, выраженному в записке «Введение к наместническому областному управлению» (1821 г.), одной из причин этого являлось отсутствие надлежащего контроля за работой местного государственного аппарата в связи с ликвидацией в конце XVIII века «главного местного надзора» в лице генерал-губернаторов [1]. В целях решения этой проблемы признали необходимым увеличить число сенаторских ревизий, которые, как известно, имел право проводить Сенат – на тот момент высший орган суда и надзора за законностью местного управления. Вслед за этим решением произошло совершенствование правовой базы проведения сенаторских ревизий, а именно:
в Инструкции сенаторам 1805 и 1819 годов существенно расширили полномочия сенаторов [2]. Однако все в той же записке 1821 года Сперанский констатировал, что сенаторские обозрения, «яко временные, обращаясь на прошедшее и не быв в состоянии следить за настоящим, ни предупреждать будущего, редко достигали своей цели» [3]. Местное управление по-прежнему оставалось неэффективным, что признал в 1827 году Николай I, поручив «Комитету 6 декабря 1826 г.» заняться помимо прочего обсуждением и проблем губернского управления. Выполняя Высочайшее повеление, Комитет в качестве одной из мер предложил сделать сенаторские ревизии периодической, но постоянной формой надзора за местными учреждениями [4]. Не случайно на первые годы правления Николая (1825– 1830) приходится половина всех проведенных за весь период нахождения его у власти сенаторских ревизий (подсчитано нами [5]).
Ценность материалов сенаторских ревизий как исторического источника общепризнанна.
Они дают всесторонний и относительно более объективный «срез» состояния государственного управления в конкретной губернии в конкретный период времени. На сегодняшний день ряд авторов весьма активно использовали материалы сенаторских ревизий в своих исследованиях по истории государственного управления некоторых «великорусских» губерний и Сибири в интересующий нас период [6–8]. Однако до сих пор этого не сделано в отношении губерний Европейского Севера, к числу которых относятся Архангельская, Вологодская и Олонецкая. В исследуемый период эти губернии находились в составе одного генерал-губернаторства, возглавляемого С. И. Миницким. Все интересующие нас сенаторские ревизии проходили здесь примерно в одно и то же время (в Вологодской и Олонецкой губерниях – в 1827 году, Архангельской и Вологодской – в 1830-м). Схожесть многих параметров этих губерний (климат, окраинное положение, численность и состав населения, отсутствие или незначительное количество поместного дворянства и т. п.) позволила бы провести корректное сравнение основных результатов ревизий, которые бы, в свою очередь, позволили определить как общее, так и особенное в функционировании системы местного управления в этом регионе Российской империи.
В данной статье предпринимается попытка выявления и оценки на материалах сенаторской ревизии, проведенной в 1827/1828 году тайным советником Д. О. Барановым, эффективности деятельности как местного государственного аппарата Олонецкой губернии, так и самой сенаторской ревизии.
Источниковой базой для решения вышепо-ставленной цели послужили документы сенаторской ревизии, отложившиеся в фондах центральных и региональных архивов Российской Федерации. К таковым относятся: донесения графу А. Х. Бенкендорфу – главе III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, командированного для первоначальной проверки обоснованности донесения губернского прокурора Желябужского жандармского подполковника Яковлева, который впоследствии возглавил расследование «лесных злоупотреблений»; всеподданнейшие доклады, рапорты и отчеты сенатора Баранова Николаю I, Сенату и графу Бенкендорфу о ходе и результатах проведенной им проверки; постановления Комитета министров и указы Сената по результатам рассмотрения этих рапортов и отчетов; донесения олонецких губернских присутственных мест генерал-губернатору С. И. Миницкому и представления последнего в вышестоящие инстанции о ходе ревизии; предложения сенатора ревизуемым губернским учреждениям и ответы на них; прошения и жалобы местных чиновников высшим государственным органам по поводу действий сенатора; «дела», производившиеся в олонецких судах и Сенате по всем причастным к злоупотреблениям и отданным под суд по распоряжению и предложениям сенатора чиновникам и частным лицам; журналы губернских учреждений и рапорты губернского прокурора об исполнении распоряжений вышестоящих органов и т. п. Всего было изучено не менее 55 архивных дел. Почти все эти документы впервые вводятся в научный оборот.
Поскольку автором уже опубликованы результаты исследования «лесной» составляющей ревизии Д. О. Баранова, послужившей одним из главных поводов к ее проведению, действия сенатора по пресечению нарушений законодательства в сфере лесопользования и охраны казенных лесов со стороны всех причастных к этому делу лиц в данной статье будут изложены в самой краткой форме [9]. Кроме этого, учитывая ограниченные возможности журнальной статьи, мы проанализируем положение дел только в государственных учреждениях губернского уровня, зафиксированное сенатором на момент ревизии, оставляя прочие уровни (уездный, городской и волостной) для последующих публикаций. Ревизия Олонецкого горного правления требует еще дополнительных изысканий.
ПРИЧИНЫ РЕВИЗИИ
В 1827 году в правительство поступило донесение олонецкого губернского прокурора Желябужского об истреблении казенных лесов и отягощении казенных крестьян противозаконными поборами в губернии. В связи с этим 9 августа 1827 года по «Высочайшему повелению» было назначено «исследование для открытия» данных злоупотреблений [10]. В состав комиссии был назначен подполковник Корпуса жандармов Яковлев и сам губернский прокурор. 21 сентября 1827 года на всеподданнейшем докладе «о злоупотреблениях, лихоимстве и корыстолюбии Олонецкой губернии чиновников», составленном на основании рапорта Яковлева Бенкендорфу, Николай I наложил резолюцию «о назначении сенатора для ревизии» [11]. Ревизию было поручено провести сенатору Дмитрию Осиповичу Баранову, имевшему до этого за своими плечами опыт проведения ревизии в Волынской (1820 г.) и Новгородской губерниях (1826 г.) [12].
Незадолго до этих событий олонецкий губернатор Т. Е. Фан-дер-Флит предусмотрительно устранился от управления губернией, прося у государя об «увольнении его от службы впредь до излечения от болезни с получаемым им ныне жалованием и с позволением прибыть для пользования в Санкт-Петербург». Причина столь поспешной просьбы об увольнении понятна – имея на попечении жену и четырех детей, губернатор хотел сохранить пенсию, получаемую при отставке. 9 сентября 1827 года Николай I дал согласие на приезд губернатора в столицу, но повелел выплачивать ему «впредь до возвращения и определения на службу по 2500 рублей в год»
[13]. Заметим, что эта сумма составляла лишь половину просимого. В данном случае царь поступил в полном соответствии с существующими законами – чиновнику, находившемуся под следствием, выплачивали до его окончания половинное жалованье. Правящим должность гражданского губернатора стал вице-губернатор Б. И. Пестель.
ХРОНИКА РЕВИЗИИ
ГУБЕРНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Предложением от 8 октября 1827 года вицегубернатор передал всем губернским учреждениям, что «сенатор г. тайный советник Д. О. Баранов извещает, что он по Высочайшему Повелению назначен к обревизованию Олонецкой губернии и расположен вскоре отправиться в Петрозаводск». В связи с этим сенатор поручил всем присутственным местам принять меры по подготовке к его приезду «всех сведений, Общей сенаторской инструкцией предположенных» [14]. 2 ноября сенатор прибыл в Петрозаводск и в тот же день предписал чиновнику особых поручений Министерства финансов коллежскому советнику Зотову произвести расследование по делу о растрате казенных денег в Петрозаводском уездном казначействе. 5–12 ноября сенатор ревизует Олонецкое губернское правление; 16–29 ноября – казенную палату, Петрозаводское уездное казначейство и Правление олонецких горных заводов; 29 ноября – палату гражданского суда; 1–3 декабря – палату уголовного суда и приказ общественного призрения. 29 января 1828 года сенатор сообщил Бенкендорфу о том, что «совершенно закончил ревизию» и «с этою почтою отправляет всеподданнейший рапорт Государю и подробное донесение Сенату», а также просил его исходатайствовать у го сударя разрешение возвратиться в Санкт-Петербург к своей должности. 15 февраля просимое разрешение последовало, и 23–25 февраля сенатор сообщил всем олонецким губернским присутственным местам о своем отъезде, требуя от них доставлять ему уже в Санкт-Петербург все донесения по данным от него предложениям. 25 февраля сенатор направил императору «всеподданнейший рапорт» об окончании ревизии в Олонецкой губернии и отбыл из Петрозаводска. 22 июня и 23 августа 1828 года из Сената последовали указы о Высочайшем одобрении распоряжений сенатора, произведенных им в ходе ревизии. И, наконец, 8 ноября 1828 года сенатор сообщил в губернию о прекращении донесений к нему от присутственных мест Олонецкой губернии в связи с «совершенным» окончанием «Высочайше возложенной на него ревизии» [15]. Таким образом, собственно на личное обозрение олонецких губернских учреждений у сенатора ушло чуть менее месяца. В целом же, на исполнение данного ему поручения, начиная с момента назначения и ознакомления с делами губернии еще в Петербурге, сенатор потратил чуть более года.
Далее приступим к изложению основных итогов ревизии олонецких губернских органов управления именно в том порядке, в котором это было сделано сенатором Д. О. Барановым.
Ревизия Олонецкого губернского правления
Олонецкое губернское правление приготовило для сенатора Баранова ведомости и сведения, предусмотренные в §2 Инструкции сенаторам 1819 года. Их сопровождало пространное донесение, занесенное в журнал правления от 27 октября, которое, руководствуясь п. «е» §2 Инструкции, следует понимать как представление «о нуждах и недостатках по губернии вообще». В нем говорилось о ключевых проблемах, с которыми сталкивалось губернское правление, являясь высшим органом управления губернией. Начиналось оно так: «С 1802 г. и до сего времени претерпевает совершенный недостаток Олонецкая губерния в чиновниках и особенно канцелярских служителях». Недостаток «стал особенно чувствителен» с 1811 года, когда в губернии отменили дворянские выборы. Поэтому, «дабы только не остановить хода дел», правлению приходилось замещать вакантные должности людьми, удаленными от других должностей за упущения по службе, оставлять при своих местах проштрафившихся, а «из вновь являвшихся» принимать таких чиновников, «кои, не упражняясь в юриспруденции, не только не имеют достаточных познаний к исправлению в полноте своих обязанностей, но, оказывалось впоследствии, что и самого порядка в производстве дел не знают». Далее, жалуясь на безнравственность некоторых из чиновников земской полиции, приводящей к нескончаемым жалобам как их друг на друга, так и на них местного населения, правление писало, что «вынуждено оно почти беспрерывно наряжать к следствиям» в уездные присутственные места «разных губернских и уездных чиновников», но, прежде всего, своих членов. «Так, например, советник Кедрин только 1827 г. более 4-х месяцев был в командировках; советник Баранкеев в 1824 г. – 4 месяца, в 1825 г. – 6, в 1826 г. – 10 месяцев; асессор Яльцов в 1824 – 6, в 1825 – более 3, в 1826 – 5, в 1827 – 8 месяцев, а советник Борисов по предложению генерал-губернатора находился с 23 июля 1825 г. в откомандировке по особому поручению 2 года и 3 месяца». По этой причине, говорилось дальше, «в Губернском Правлении находится часто по одному советнику, тогда как производство дел год от году умножалось, что можно видеть: в 1824 г. поступило входящих бумаг – 7009, исходящих – 15655; в 1825 – входящих – 7709, исходящих – 28155; в 1826 – входящих – 9802, исходящих – 30901; в 1827 по 1 октября – входящих – 4772, исходящих – 24897». Острая же нехватка спо- собных секретарей и канцелярских служителей приводит к тому, что нет «и самонужнейшего успеху в производстве дел и переписок», так как «поправление многих журнальных статей, справок и даже по изготовленным журналам важных исходящих бумаг не иначе может быть приготовлено, как личным занятием самих членов… хотя и зависит верность отправления бумаг сих по Генеральному Регламенту от секретарей, сии последние сугубо обременяются приготовлением журнальных статей и бумаг, большей частью от неопытности многих столоначальников, кои люди суть молодые или вновь вступившие, а другие, хоть и имеют некоторую способность, но при частой перемене… занимаются то сдачей, то приемом дел, не имеют времени вникнуть в существо бумаг и дел, и оттого одну и ту же бумагу принуждены бывают заготовлять не один раз, и за всем тем должны дополнять и исправлять оную секретари или сами присутствующие, поелику из 8 столоначальников только двое способны быть помощниками секретарю, другие же и писцы большею частью такие, что не только не знают в сочинении бумаг ни силы, ни порядка, но и писцами исправными не могут признаны, кроме самого малого числа из них, годных только для переписки, и то без соблюдения правописания». За год, жаловалось далее правление, «переменилось 11 столоначальников и выбыло вовсе из штата правления 13 человек, в том числе большей частью малолетние, с коих невозможно даже взыскивать. … В течение многих лет из принимаемых в канцелярию Губернского Правления замечены не имеющие хорошей нравственности, иные нетрезвого поведения, другие строптивы так, что самые меры сыска чрез полицию и удержание под арестом не производили над ними исправляющего действия. Все меры взыскания – вычеты, выговоры, взыскания из-за невозможности заменить – не достигают цели». В заключение правление констатировало: «Все меры к привлечению в сей край способных чиновников оказались недействительными». Непрестижной для службы губернию делали, по мнению правления, следующие обстоятельства: «1) большая несоразмерность существующей здесь дороговизны с настоящим жалованьем; 2) климат суровый от множества озер, болот и острых ветров и, наконец, 3) крайнее уединение губернии и особенно губернского города, поставленного вне всяких сообщений, в стране глухой, бедной населением и земле самой неплодоносной». Единственный выход из положения виделся правлению в возможности «даровать по Олонецкой губернии чиновникам всех классов таких же прав, коими пользуются в Сибири и Кавказской губернии» (такие преимущества были пожалованы соответственно в 1822 и 1827 годах).
В своем предложении от 28 ноября 1827 года сенатор подвел итоги ревизии делопроизводства в губернском правлении. Оказалось, что: 1) на- стольные регистры ведутся удовлетворительно и «особенно общие по указам Правительствующего Сената в отличном состоянии»; 2) «журналы слушанным делам, равно как входящие и исходящие бумаги в надлежащей исправности»; 3) докладные регистры не ведутся вообще (любопытно заметить, что отсутствие в правлении регистров правление оправдывало в своем ответе от 13 ноября на это замечание сенатора тем, что это, якобы, ускоряло ход дел, так как журнальные записки «составляются сразу из черновых докладных записок, приготовляемых для написания прямо в журнал, кои предварительно просматриваются присутствующими…», и порядок этот заведен еще до вступления в должность нынешних членов, а также тем, что в правлении «нет столоначальников и их помощников, кои имели бы способность излагать сокращенно в докладном регистре сущность дела и обстоятельства оного без пророну чего-либо для дачи надлежащей резолюции» [16]); 4) всех нерешенных дел, по указам Сената, 43, а всех всего нерешенных дел 731; 5) архив «как по исправности, так и по удобству в приискании находится в наилучшем состоянии» [17].
В результате сенатор предложил правлению: 1) завести с 1 января 1828 года докладные регистры; 2) «дать немедленно безостановочный ход» делам, находящимся на отчете самого правления, а по другим – требовать справок, «дать понуждение» или наказать подведомственные нижние присутственные места; 3) уделить особое внимание делам по межеванию (особое внимание сенатора привлекло дело о размежевании владельческих дач от казенных, начатое еще в 1802 году, вину за неисполнение которого он возложил на бывших губернского и уездных землемеров, особо предложив правлению вновь возбудить ходатайство по этому делу перед Сенатом о назначении новых); 4) «сделать поправление» по всем особо указанным делам; 5) палате гражданских дел не обременять губернское правление просьбами сделать необходимые ей предписания нижним присутственным местам, так как она сама имеет право делать это. По поводу последнего предложения следует особо заметить, что сенатор прекрасно понимал, почему палата гражданских дел так поступала. В своем предписании палате от 28 ноября 1827 года он вскрывал суть этой хитрости: губернское правление, «предписав городской или земской полиции привести в исполнение решение палаты, обязывается… внесением в отчет свой нерешенного дела», и, пока дело не решено, оно числится за правлением, «в то время, как Гражданская Палата… зачисляла бы сие дело решенным…» [18].
Таким образом, никаких из ряда вон выходящих нарушений в канцелярском производстве Олонецкого губернского правления сенатор Баранов не увидел. Количество нерешенных дел, как по указам Сената, так и в целом, даже уменьшилось по сравнению с аналогичными данными, полученными генерал-губернатором Клокачевым во время его первого обозрения Олонецкого губернского правления в 1820 году при назначении на эту должность: тогда подобные показатели соответственно составили 50 и 844 дела [19]. Более того, мы видим, что сенатор в своих предложениях не только преследовал цель привести делопроизводство правления в соответствие с нормами Генерального регламента 1722 года, но и предлагал способы сокращения числа нерешенных дел.
Ревизия Олонецкой казенной палаты
Наиболее тщательному обследованию со стороны сенатора Баранова подверглась деятельность казенной палаты. В результате вскрылось, что: 1) всех вообще недоимок за Олонецкой губернией числится на 249981 рубль, из них только по питейной и соляной части состоит 112388 рублей, а по лесному отделению на содержателях лесопильных заводов – 45401 рубль (правда, при этом сенатор сделал оговорку, что общая сумма недоимок по сравнению с другими губерниями небольшая и что в эти числа включены неплатежи по прежним винным откупам и штрафы за самовольные порубки леса крестьянами); 2) огромное количество дел по всем отделениям остаются «от 1 до 12 лет без всякого движения» (при этом сенатор обратил особое внимание на числящееся за хозяйственным отделением дело «о наделении казенных крестьян Олонецкой губернии 15-десятинной на каждую душу пропорцией земли», начатое 30 января 1801 года и нерешенное по вине палаты до сих пор); 3) палата раздает оброчные статьи «разным людям на содержание на 12 лет за самые ничтожные деньги»; 4) ревизии денежных книг и документов разных присутственных мест (в том числе волостных правлений) проводятся контрольным отделением несвоевременно и часто остаются неоконченными или вовсе нет доказательств их проведения; 5) чиновники питейного отделения плохо взыскивают акцизные и штрафные деньги с винопродавцев и затягивают решение дел о злоупотреблениях чиновников по питейному сбору; 6) лесное отделение годами не свидетельствует и не взыскивает по-пенные и штрафные деньги с порубщиков казенных лесов. При этом канцелярское делопроизводство в палате было найдено сенатором в порядке, за исключением архива, в котором хранились дела только по 1817 год и не было общей описи, «а есть только частные по отделениям и столам, по которым прииск дел столь затруднителен, что некоторые испрошенные дела не нашлись».
На основании этих замечаний 23 декабря 1827 года сенатор предложил палате: 1) завести с 1 января 1828 года «исправные всем сборам окладные книги и иметь точные сведения о всех оброчных статьях»; 2) «строжайше предписать» контрольному отделению, «дабы в обревизова-нии книг и отчетов разных мест и денежных сборах и расходах во всей точности исполнялись правила, законами по ревизионной части вмененные», и не допускались «неправильные сборы» (особенно по волостным правлениям); 3) всем делам «дать безостановочный ход, не допуская в производстве их ни самомалейшей медлительности, под опасением не только отрешения председателей от мест, но и предания суду…»; 4) немедленно заняться «для доставления делу о наделении крестьян казенных землями, более 20 лет продолжающемуся, надлежащего успеха… составлением сведений, дабы с будущей весны межевым действиям в натуре не могло встретиться никаких препятствий»; 5) членам палаты «по чрезвычайному запущению дел… для успешного очищения неисправностей… иметь ежедневное присутствие в послеобеденное время, равно и по субботам…» [20]
Помимо ревизии общего состояния дел в казенной палате, сенатор руководил действиями особых следственных комиссий, которые проводили расследование самых запутанных дел. О результатах их деятельности сенатор неоднократно доносил императору и Сенату. Изложим в самом кратком виде суть и ход этих расследований.
Дело о растрате в Петрозаводском уездном казначействе
В это дело в той или иной степени оказалась вовлеченной практически вся не только действующая, но и бывшая верхушка олонецкой губернской администрации. Растрата в размере 80 тысяч рублей была обнаружена назначенным в сентябре 1827 года губернским казначеем Политковским. По предложению вице-губернатора Пестеля от 30 сентября 1827 года формируется особая губернская комиссия, состоявшая из советников губернского правления и палаты уголовного суда Глинки и Шка-лина, губернского ле сничего Кирсанова (от казенной палаты) и губернского по казенным делам стряпчего Морозова. Еще ранее, по просьбе самой казенной палаты, от Министерства финансов в губернию командируется чиновник особых поручений коллежский советник Зотов, которого, в связи с началом сенаторской ревизии, подчинили Баранову для продолжения расследования под руководством сенатора. Губернскую комиссию распустили, а собранные ею материалы передали Зотову. Так как на следствии петрозаводский уездный казначей Василий Алексеев показал, что растрата началась еще при его родном брате Петре, Зотову пришлось обревизовать дела и счета Петрозаводского уездного казначейства почти за 20 лет (!), начиная с определения в 1808 году Петра Алексеева на эту должность.
Как докладывал государю в своем рапорте от 6 февраля 1828 года сенатор, растрата делалась постепенно и «стала чувствительной» в 1820 году при передаче дел старшим братом Петром младшему Василию: «…он должен был передать 122863 рубля, но сдал только 36661 руб., т. е. растрата составила 83202 рубля. Удобство похищения оного было оттого, что была допущена безгласность». В чем состояла эта «безгласность», видно из материалов, собранных еще губернской комиссией, согласно которым в 1820 году, при приеме Василием от своего брата должности и всей наличной суммы, не было составлено ни сдаточных ведомостей, ни сделано, как требовали того «Наставления казенным палатам» 1781 года, особого донесения губернским казначеем общему присутствию казенной палаты [21]. «Впоследствии, – далее докладывал сенатор, – растрата увеличивалась, а при обыкновенных ежемесячных свидетельствах казенных сумм недостаток в деньгах был скрываем путем выдачи всех находившихся на момент проверки денег в казначействе за растраченные». Это стало возможным, так как проверка наличной суммы производилась не в самой кладовой, а в помещении общего присутствия, для чего туда переносились сундуки с деньгами и книгами, «чем и давался способ к подложной замене расхищенных сумм другими посторонними суммами, хранившимися в кладовой». Всего же был раскрыт недостаток сумм на 130514 руб. 33 ¾ коп. Сенатор особо подчеркивал, что «без крайнего ослабления надзора со стороны Казенной Палаты и без явного небрежения со стороны лиц, производивших свидетельства, не могло бы ни под каким видом существовать столь наглого расхищения». Сенатор был также уверен, что недостаток сумм был известен еще при жизни старшего брата Петра Алексеева вице-губернаторам Уварову и Ней-дгардту, «но был ими скрываем». Далее сенатор докладывал, что уже предпринял ряд мер к обеспечению расхищенных сумм, а именно: имения похитителей братьев Алексеевых, вице-губернаторов Уварова и Нейдгардта, бывших членов и секретаря казенной палаты, жен и детей их, а также нынешних членов палаты, с включением наследников после умерших и всех поручителей по Василию Алексееву, уже подвергнуты описи и секвестру. На имения же прочих членов палаты прежнего времени, а также бухгалтеров уездного казначейства и производивших ежемесячные свидетельства бывших гражданских губернаторов Мертенса, Рыхлевского, Фан-дер-Флита, правящего должность председателя уголовного суда Башинского и губернских прокуроров Тимирязева, Львова, Минина, Казина, Херувимова и Желябужского наложено повсеместное запрещение [22]. Кроме этого, по приказу министра внутренних дел то же самое было сделано и в отношении имений бывшего и действующего состава Олонецкого губернского правления – губернатора Фан-дер-Флита, вице-губернатора Пестеля, членов правления – советников Глинки, Кедрина, Баранкеева, асессора Яльцова, секретарей Яки- мова, Ларионова, Хоруженко, а также губернского архитектора Янко, допустивших неправильное хранение денег в Петрозаводском казначействе (деньги должны были сдаваться на хранение в казначейство на основании особо составленных в 1801/1802 и 1827 годах правил, то есть в отдельных сундуках, а не просто в запечатанных пакетах, как это обычно делалось). Предполагалось, что В. Алексеев именно ими покрывал свою недостачу [23].
25 февраля 1828 года сенатор сообщил губернскому правлению и Сенату об окончательных результатах расследования «дела о растрате» и передаче дела в Олонецкую палату уголовного суда, которой было предложено приступить к рассмотрению этого дела «без очереди» [24]. Позже сенатор высказал резкие «замечания» на предположения уголовной палаты по этому делу, усмотрев в них попытку затянуть его. В результате большая часть этих предположений была им отвергнута, а дело передано на окончательное разрешение в Олонецкую палату гражданского суда [25].
«Лесное дело»
После изучения всех материалов, связанных с деятельностью Олонецкой казенной палаты по лесной части, сенатор Баранов обвинил: 1) все общее присутствие палаты – бывшего вицегубернатора Нейдгардта, губернских казначея Филимонова, контролера Чернозаводского, лесничего Кирсанова, советников палаты Тверети-нова и Политковского, а также асессора Богданова – в принятии 14 февраля 1827 года по предложению Кирсанова постановления о внесении изменения в контракт с видлицкими лесозаводчиками Жербиным, Поповым и Коротяевым, которым они освобождались от уплаты по-пенных денег за леса, вырубленные и непро-плавленные в 1826–1827 годах к своим заводам, отчего, полагал сенатор, казна понесла убыток в 150 тысяч рублей; 2) лесничего Смоликова и заменившего его Чупова за самовольное распространение данного пункта контракта на всех вообще лесозаводчиков; 3) губернского лесничего Кирсанова и лодейнопольского земского исправника Ошеметкова за неправильные действия по «делу Богдина». В частности, последнее обвинение состояло в том, что, когда в 1826 году олонецкий мещанин Богдин донес в губернское правление о том, что санкт-петербургский купец Серебряков и олонецкий Редуев в 1825 году вырубили леса в казенных дачах трех уездов губернии «более против билетов», назначенные для проверки этого доноса Кирсанов и Ошеметков «излишних лесов» не нашли и предали Богдина суду за ложный якобы донос. Суд также признал донос недоказанным, остановил следствие, а Бо-гдина приговорил «в пример другим» наказать плетьми и взыскать с него убытки, понесенные лесопромышленниками [26]. Помимо этого, в ходе проведения следствия «лесной» комиссией
Яковлева и Речицкого были установлены факты самовольных порубок лесопромышленниками казенного леса, не размежеванного с помещичьими дачами. При этом вырубки прикрывались порубочными билетами, выдававшимися помещиками якобы на порубку своих лесов. За это у группы чиновников лесного отделения казенной палаты и лодейнопольского нижнего земского суда, а также лесопромышленников и помещиков было арестовано имущество [27].
С другой стороны, сенатор полагал, что «корень зла» не только в корыстных устремлениях всех участников этого дела, но и в несовершенстве существующего лесного законодательства. Чуть позже он обещал представить императору «проект по управлению лесной части» [28].
«Рекрутское дело»
Следствие «по обвинению канцелярских чиновников Олонецкой казенной палаты и Олонецкого рекрутского присутствия во взяточничестве» проводила специально образованная комиссия в составе подполковника Корпуса жандармов Дейера и председателя Олонецкой палаты гражданского суда Речицкого. (Речицкий еще в январе 1828 года, в связи с болезнью прокурора Желябужского, по разрешению царя заменил последнего в комиссии, возглавляемой жандармским подполковником Яковлевым, который в своем рапорте от 21 сентября 1827 года отнес его к числу немногих чиновников, которые пользуются «хорошим мнением общества».) Следствие началось в ноябре 1827 года по доносу крестьян братьев Звягиных и Харина вицегубернатору Пестелю как председателю губернского рекрутского присутствия на канцелярских чиновников казенной палаты, занимавшихся рекрутским набором в Петрозаводском и Олонецком уездах, а именно: секретаря Менчикова, столоначальника Козырина, его помощника Алексеева, протоколиста Романова, а также приемщика от Военного ведомства майора Грибов-ского. Крестьяне показали, что «каждый рекрут обошелся им по 40 рублей 66 коп., издержанных на канцелярских служителей палаты и рекрутского присутствия», и еще 30 рублей Звягин дал приемщику майору Грибовскому. Пестель велел обвиненным чиновникам под угрозой удаления от должности вернуть деньги крестьянам, что и было сделано ими в присутствии самого вицегубернатора. Однако в своих объяснениях, данных следователям, чиновники категорически отказались от того, что брали у крестьян деньги. Сенатор Баранов, ознакомившись с материалами следствия, 15 января 1828 года передал их в Олонецкую палату уголовного суда [29].
В свою очередь подполковник Дейер в донесении своему начальству сообщил о том, что по Петрозаводску ходят слухи, что дело это «должно кончиться тем, что вице-губернатор, не имев ясных доказательств, не должен был приказывать приказным возвращать деньги мужикам, а мужики, как доносчики, не могущие доказать, что у них браты были (деньги. – В. Е.), и сами себя обвиняющие в лиходательстве, будут наказаны плетьми». В заключение Дейер замечал, что, если дело действительно таким образом будет решено, «тогда все меры к открытию злоупотреблений пресекутся и взятки еще увеличатся, ибо всякий лихоимец будет твердо уверен, что давший ему не осмелится о том сказать никому из опасения подвергнуть себя наказанию». Николай I, выслушав составленный по донесению Дейера доклад Бенкендорфа, повелел сенатору принять надлежащие меры, «дабы всех вывести из вышеозначенного недоумения, и что отнюдь не были наказываемы из давших деньги, кои сего доказать не могут, но единственно те, о которых достоверно было бы доказано, что только оклеветали в лихоимстве невинных». Сенатор известил губернскую администрацию о Высочайшей воле в предложении от 12 февраля 1828 года [30].
Помимо всех вышеприведенных обвинений сенатор предъявил и дополнительные, в отношении отдельных чиновников казенной палаты, а именно: 1) советнику питейного отделения Тверетинову за «медлительность и отступления от законного порядка в производстве дел, заключающих в себе утрату казенного имущества, отпущенного на строительство магазинов» на сумму 10 тысяч рублей, а также за утайку от палаты действий Нейдгардта по задержке записок, представленных чиновником Министерства финансов Дубецким об открытых им в Каргопольском уезде злоупотреблениях по питейному сбору; 2) губернскому контролеру Чернозаводскому за «отступление от законного порядка в обревизовании книг и отчетов разных присутственных мест и даже утверждении противозаконных сборов» с крестьян по книгам волостных правлений; 3) губернскому казначею Филимонову за «несоставление окончательных отчетов о недоимках, подлежащих к сложению» по Манифестам 1826 года (например, один из них – от 22 августа – изданный по случаю коронации Николая I, освобождал «всех состоящих по сей день под следствием и судом чиновников из всякого звания людей по делам, не заключающим в себе смертоубийства, разбоя, грабежа, лихоимства»); 4) секретарю Менчинкову за исполнение беззаконных приказаний вице-губернатора Ней-дгардта; 5) столоначальнику Галкину за подчистку журнала по приказанию Нейдгардта [31]. Всех вышеназванных чиновников сенатор предлагал предать уголовному суду.
Ревизия Олонецкого приказа общественного призрения
Произведя 2 декабря 1827 года обозрение делопроизводства Приказа, сенатор выявил лишь некоторые незначительные нарушения в ведении журналов и предложил их исправить. В осмотренных воспитательном доме и бога- дельне, находящихся в г. Петрозаводске, сенатор нашел «надлежащий порядок и смотрение за чистотой» [32].
Ревизия Олонецкой палаты гражданского суда
В своем предложении от 12 декабря 1827 года сенатор подвел итоги своего осмотра палаты, в котором он, не указав число нерешенных дел, сделал лишь замечания по неправильному ведению двух дел. Просматривая же ведомость о состоянии дворянских опек, сенатор обратил внимание на то, что некоторые из указанных там лиц уже вышли из возраста опекаемых (до 17 лет), а по двум опекам выяснилось, что, хотя отчеты числились как обревизованные, при проверке подлинных дел не оказалось. Аналогичные замечания были сделаны и по сиротским судам. В отношении порядка в делопроизводстве сенатор отметил, что настольные реестры по нерешенным делам, «журналы ежедневно заслушанным, входящим и исходящим бумагам и решительным определениям», а также архив найдены «в надлежащей исправности», но «докладных реестров вовсе не имеется, хотя о непременном ведении их есть указ от 11 декабря 1767 г.». В результате сенатор предложил палате: 1) немедленно завершить два неправильно тянущихся дела; 2) всех совершеннолетних сирот по дворянским опекам и сиротским судам «приказать ввести в права наследования» и контролировать своевременное предоставление опекунами отчетов и их правильность; 3) завести с 1 января 1828 года докладные реестры [33]. Как мы видим, серьезных замечаний к деятельности палаты гражданских дел у сенатора не было.
Ревизия Олонецкой палаты уголовного суда
В своем предложении палате от 14 декабря 1827 года сенатор, в частности, указал, что: 1) нерешенных дел по указам Сената он обнаружил 2, а «по обыкновенному течению» – 49; 2) канцелярский порядок «в исправности», но «докладных реестров не ведется» (любопытно заметить, что это единственная палата, которая объяснила сенатору, что не вести эти реестры им словесно разрешил еще генерал-губернатор Клокачев); 3) архив «в порядке», но «прииск дел затруднителен» из-за отсутствия общей описи. В итоге сенатор предложил палате: «1) нерешенные дела показывать по настольному реестру и отчетам по времени их действительного вступления, а не со дня состояния резолюции, зависящей от произвола председателей; 2) уголовные дела рассматривать и производить в сроки, законом постановленные, и не допускать в том ни самомалейшей медлительности; 3) немедленно заняться приведением в установленный порядок архива» [34].
Таким образом, серьезных претензий по состоянию дел и канцелярскому производству в олонецких приказе общественного призрения и палате уголовных дел у сенатора также не возникло.
Однако отметим, что предписанная Инструкцией 1819 года ревизия общих губернских учреждений для сенатора Баранова была осложнена необходимостью проверить справедливость уже упоминавшегося нами в начале статьи рапорта подполковника Яковлева, послужившего главным основанием для назначения Николаем I сенаторской ревизии. Сам рапорт был передан Бенкендорфом сенатору Баранову при его назначении на ревизию. Среди злоупотребителей, лихоимцев и корыстолюбцев в этом рапорте упоминались председатель и советник Олонецкой палаты уголовного суда Башинский и Шкалин; советник палаты гражданского суда Васильев, советник и асессор губернского правления Борисов и Яльцов. В частности, о Башинском Яковлев писал, «что беззакония его превышают вероятие, все злодеяния и даже душегубство за деньги в Уголовной Палате оправдываются; надеясь на сие, все чиновники в губернии, кроме нескольких, безбоязненно лиходействуют». Обо всех остальных жандарм доносил, «что они по должностям своим на месте уподобляются во всем Председателю Башинскому, произведенные же ими следственные дела всегда оканчиваются в пользу тех, кто платит деньги. О таковых действиях Башинского и прочих есть всеобщий глас народа в Олонецкой губернии» [35].
В своем рапорте на «Высочайшее имя» от 11 февраля 1828 года сенатор сообщал, что при производстве им ревизии дел в олонецких губернских учреждениях «не нашел я лично такого, чтобы по настоящему отправлению должностей давало повод заключать о противузаконных их действиях по пристрастию или лихоимству…». Далее сенатор писал, что так как Яковлев обвинения свои выдвигал только на одном «общем народном слухе», не указав ни конкретных случаев, а также не имея жалоб и доносов, он был вынужден «действия сих чиновников изыскивать и открывать не иначе, как о председателе Башинском из решенных дел Уголовной палаты в прошедшее время, а о прочих – из произведенных ими следственных дел». В результате только в 5 делах, при рассмотрении которых Ба-шинский выступал председателем, сенатор усмотрел противозаконные действия. Сошлемся только на два из них. В первом – по уже упоминавшемуся нами выше «делу Богдина» – палата должна была, по мнению сенатора, исправить неправильное решение нижестоящего суда и, более того, после высказанного губернатором несогласия с приговором, пересмотреть это дело, но не сделала этого. Во втором эпизоде, когда за медлительность в решении дел судился бывший лодейнопольский исправник Новиков – зять Ба-шинского, последний, даже после напоминания губернского прокурора о невозможности его участия в рассмотрении этого дела, не отвел себя.
Помимо этих 5 дел, сенатор обратил особое внимание царя еще на три момента «по личным действиям Башинского», это: 1) когда решением Сената он был оставлен в подозрении во взятках при проведении в 1815 году следствия о противозаконных действиях вытегорского земского исправника Суворова; 2) когда в 1819 году, будучи председателем вытегорского рекрутского присутствия, отдал вне очереди двух рекрутов взамен четырех, следующих от семейств волостного начальства; 3) когда «по многочисленным жалобам на Башинского подсудимых» все такие дела были вынуждены передаваться председателю Олонецкой палаты гражданского суда. В заключение сенатор писал, что хотя подозрения на Башинского и не доказаны, но «с нравственной стороны» его действия выглядят «в невыгодном свете», поэтому, считая его «к дальнейшей службе председателем неблагонадежным», предлагал государю удалить его от должности.
В дальнейшем сенатор пережил немало неприятных для себя моментов, связанных с этим чиновником. С. А. Башинский был одним из старейших и влиятельнейших чиновников Олонецкой губернии, который начал службу в ней с самого ее открытия в 1802 году уже в чине надворного советника и в должности советника Олонецкого губернского правления. В 1812 году он стал председателем уголовной палаты [36]. В конце 1828 года Башинский попытался оспорить свое удаление от должности. В одном из своих прошений к Бенкендорфу он писал «о безвинном и преждевременном удалении» его от должности «по пристрастному представлению ревизовавшего по Высочайшему Повелению Олонецкую губернию сенатором Барановым за какие-то мне неизвестные "противузаконные действия"». При этом, как он подчеркивал, никто не отобрал от него ответы по предъявленным ему обвинениям. Далее, ссылаясь на свой 67-летний возраст, из которых 47 лет он нес «беспорочную и беспрерывную» службу, и указывая, что его удаление от должности могло последовать «по настоянию Управляющего Министерством Юстиции, как близкого родственника г. Баранова», он просил графа Бенкендорфа, чтобы дело его «было рассмотрено законным порядком, ибо я к оправданию своему имею ясные и безсомни-тельные доказательства». В результате этой жалобы сенатор был вынужден оправдываться перед Бенкендорфом, указывая, что он никогда не отрешал Башинского от должности, что он только представил свое мнение императору, так как удалить от должности чиновника такого ранга мог только сам император, что последний и сделал 18 июня 1828 года [37].
Все же следственные дела, произведенные советниками Шкалиным, Васильевым, Борисовым и асессором Яльцовым, сенатор признал удовлетворительными. Отвечая на ключевой вопрос – было ли лихоимство этих чиновников, сенатор так писал императору: «…осмеливаюсь в откровенность донесть, Ваше Императорское Величество, что из всех преступлений, поручаемых от Правительства к изысканию, не находится ни одного, которое столь трудно было доказать положительным образом, как лихоимство. … Существующие в России законы наказывают оное смертной казнью, поэтому к обличению преступника надлежит иметь доказательства ясные и неподвергающиеся сомнению… но по отношении к Башинскому одни подозрения, к остальным – нет даже повода, то я к обвинению их по сему предмету никакого заключения сделать не могу» [38].
Из всех незаконных поборов с крестьян, послуживших вторым поводом к началу ревизии, только один имел прямое отношение к губернской администрации. В Лодейнопольском уезде при устройстве большой Архангельской дороги (с 1821 года) крестьяне принуждались губернским начальством сначала делать дорогу сами, но, видя, что начальство «дурно сработанные участки велит иногда переделать», они решились «нанять подрядчиков». В результате сбор с каждой ревизской души стал составлять от 20 копеек до 4 рублей 10 копеек и шел на исправление дорог, окраску верстовых столбов, починку мостов. Расследование, проведенное в уезде помощником сенатора – коллежским советником Бустримовым, позволило в особо составленной сенатором записке «о противузакон-ных сборах по Олонецкой губернии» заметить, что все такие сборы между крестьянами производились «добровольно, без ведома земской полиции и даже волостных правлений». Доказать же, как обвинял в рапорте Яковлев секретаря губернатора Нуромского «в подговаривании волостных голов к утайке истины при исследовании об устройстве Архангельской дороги», не удалось, так как последний «не признался и доказательств против него не открыто» [39].
Этот рапорт императору представляет для нас особый интерес еще и потому, что в его заключении сенатор объяснял мотивы доноса, сделанного губернским прокурором Желябужским. В частности, сенатор писал, что Желябужский, донося правительству о незаконных сборах, к тому же «о многих из них несправедливо представил в таком виде, как будто бы им открытыми», старался «привести к ответственности Губернское начальство», в то время как злоупотребления по казенной палате, «с давних пор существовавшие, оставлялись им без всякого замечания. Таковые действия Желябужского доказывают, что Желябужский не столько руководствовался обязанностями своего звания, сколько духом партий, существующих в Петрозаводске» [40].
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВИЗИИ
Безусловно, без подведения общих итогов сенаторской ревизии невозможно сделать заключение об эффективности работы как губернского аппарата Олонецкой губернии, так и сенаторской ревизии. К важнейшим из них следует отнести:
-
1. «Высочайше утвержденное» 31 октября 1828 года мнение Государственного Совета «О мерах к отвращению недостатка в Олонецкой губернии чиновников и канцелярских служителей», в котором был установлен особый – льготный – порядок определения на государственную службу желающих служить на ней. В частности, табельные чиновники при определении в губернию получали следующий чин (но не выше статского советника) с обязанностью «для удержания чина» прослужить здесь не менее 6 лет. Определявшимся же сюда канцелярским служителям в 2 раза сокращался срок выслуги первого классного чина по сравнению с требованиями Положения 14 октября 1827 года. Для проезда в губернию всем чиновникам назначались двойные против положенного по их чину прогоны. Помимо этого, к 1 мая 1829 года губернской администрации было предписано открыть в Петрозаводске училище для детей канцелярских служителей [41].
-
2. Указ Сената от 23 января 1829 года «О мерах к пресечению вкравшихся в Олонецкой губернии по лесной части злоупотреблений», в котором были четко прописаны действия лесных и земских полицейских чиновников по охране казенных лесов и пресечению любых незаконных их порубок [42]. Безусловно, этот указ был реализацией проекта, представленного сенатором царю на основании заключений, сделанных особой «лесной комиссией», действовавшей под руководством жандармского подполковника Яковлева и проводившей расследование всех лесных злоупотреблений в губернии [43].
-
3. Указ Сената от 22 июня 1828 года, в котором сообщалось, что государь по положению Комитета министров, заслушавшего дело «об обревизовании сенатором Барановым Олонецкой губернии», повелел: 1) предать суду за беспорядки и злоупотребления, найденные сенатором в казенной палате, все действовавшее на начало ревизии присутствие палаты, а министру финансов «избрать немедленно на место их благонадежных чиновников»; 2) предать суду за те же беспорядки бывших олонецких вице-губернатора Нейдгардта и губернского казначея Филимонова; 3) предложить министру финансов принять меры к немедленному окончанию дела о наделении казенных крестьян 15-десятинной пропорцией земли и войти в рассмотрение причин такой медлительности. Сенат, сообщая волю государя, дополнительно приказал: предложить Олонецкой палате уголовного суда вместе с делом о злоупотреблении по лесной части рассмотреть и поступки бывшего вице-губернатора Нейдгардта относительно «крайнего нераде-
ния в разрешении дел по управлению питейного сбора», а также «по делам о лихоимстве и растрате казенного имущества в течение нескольких годов без всякого действия» [44]. В своем исследовании С. М. Середонин дает весьма любопытную интерпретацию этого решения Комитета министров: «В 1828 г. сенатор Баранов в рапорте своем о ревизии Олонецкой губернии, указывая на крайне убыточное для казны хозяйство Казенной Палаты, объяснял это и другие упущения по управлению крайним недостатком в губернии и уездных присутственных местах добросовестных служащих… начальство поневоле, писал Баранов, определяет на должности лиц, не вполне оправдавшихся в возведенных на них обвинениях. Комитет положил: виновных чиновников отрешить от должностей, предать суду, предложить министру финансов обеспечить губернию благонадежными чиновниками. Но государь, видимо, уже не вполне был уверен в успехе таких предположений» и поэтому наложил на него такую резолюцию – «какие меры будут приняты для замещения вакансий донести?» [45].
Однако в том, что губернских чиновников, заподозренных в злоупотреблениях в ходе ревизии, сенатор Баранов или по его представлениям Сенат и Николай I удалили от должности и предали суду, новости нет – этим заканчивалась каждая ревизия. Но, как верно замечал И. А. Блинов, «от предания суду было очень далеко до окончательного приговора, тут немедленно начиналась обычная канцелярская волокита… взятки, и в конце концов дело разрасталось в объеме и затягивалось на много лет» [46]. Поэтому нам были нужны окончательные результаты, то есть вступившие в законную силу решения соответствующих судебных мест. Однако именно поиски этих решений оказались самыми затратными по времени, так как потребовали пересмотреть десятки дел, длившиеся после сенаторской ревизии долгие годы. Ниже, учитывая формат статьи, мы изложим решения в отношении только главных фигурантов ревизии.
«Служение» губернатора Т. Е. Фан-дер-Флита в целом «одобрялось» сенатором Барановым. Это, например, следует, из его сообщения министру внутренних дел от 22 декабря 1828 года на запрос последнего о том, достоин ли Фан-дер-Флит к представлению к «знаку отличия беспорочной службы… за состояние в военной и гражданской службе в обер-офицерских чинах более 35 лет». Сенатор писал, что «к лицу бывшего… гражданского губернатора… никакого обвинения не отнесено, кроме прикосновенности к делу о растрате петрозаводским казначеем Алексеевым денежной казны в том только отношении, что г. Фан-дер-Флит по званию гражданского губернатора обязан был производить в числе прочих положенных законом лиц ежемесячное свидетельствование казначейства» [47]. Однако в фондах III отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии хранит- ся представленная 12 ноября 1828 года Бенкендорфу уже полковником Яковлевым особая записка «о роли в деле о лесных злоупотреблениях Фан-дер-Флита», в которой он утверждал, что губернатор знал не только о лесных, но и всех прочих злоупотреблениях, выявленных как в ходе его самостоятельных расследований, так и сенаторской ревизии. В частности, полагал Яковлев, Фан-дер-Флит был осведомлен о незаконных сборах с крестьян Лодейнопольского уезда на строительство Архангельской дороги в 1825 году, которые неоднократно требовал остановить губернский стряпчий по казенным делам Ешев-ский. Однако губернатор не реагировал на эти протесты, и поэтому стряпчий донес министру юстиции, который своим предписанием повелел остановить этот сбор. И тогда «в отмщение» губернатор «вознес клевету на Ешевского» и добился его отстранения от должности, но Ешев-ский «перевел дело в Сенат, коим ныне оправдан» и определен в должность губернского по уголовным делам стряпчего. «А ныне, – продолжал Яковлев, – по указу Сената Фан-дер-Флит по делу о дороге не подвергнут ответственности по Милостивому Манифесту». Далее Яковлев доказывал, что Фан-дер-Флит прекрасно был осведомлен и о прочих «беззаконных сборах с казенных крестьян… ибо о них доносили ему земские начальники. … Если б не знал о них, зачем подал в отставку?». И тут же сам отвечал на этот вопрос: «Чтобы не потерять место и пенсион, получаемый при отставке». В заключение Яковлев обвинял Фан-дер-Флита в махинациях при отпуске денег на исправление здания губернских присутственных мест и в покрывании «крайне сумнительных» действий вице-губернатора Пестеля при заключении в 1827 году в Олонецкой казенной палате контракта с санкт-петербургским купцом 1-й гильдии Кабинетским на постройку в губернии разных мостов. И тем не менее все эти обвинения Яковлева не имели хода. Дальнейшая карьера Фан-дер-Флита сложилась вполне благополучно: указом Сената от 8 февраля 1829 года он был назначен управляющим Государственной экспедиции для ревизии счетов [48].
Судьба же губернских чиновников, сопричастных или соприкосновенных к делу о растрате в Петрозаводском уездном казначействе, была решена в конфирмированном царем 10 июня 1831 года мнении Государственного совета, согласно которому: 1) подсудимый В. Алексеев был лишен чинов и личного дворянства и «отдан в солдаты вечно без выслуги»; 2) члены счетной и казначейской экспедиций Мухин, Сапожков, Филимонов и Чернозаводский, служившие при вице-губернаторах Уварове и Нейдгардте, учитывая, что они были обвинены «в упущении только, а не в злоупотреблении» и в настоящее время уже не находятся в данных должностях, а «упущения подобного рода» прощены Манифестом 1826 года, подлежали только денежному взысканию «в пополнение растраты» без запрета службы; 3) многочисленная группа чиновников была подвергнута имущественным взысканиям, обращенным на их имения в следующей последовательности: в первую очередь взыскивалось с бывших уездных казначеев братьев Алексеевых (интересно заметить, что имение Алексеевых было продано еще в ноябре 1827 года за 21 руб. 50 коп.), во вторую – с бывших вицегубернаторов Уварова, Нейдгардта и ныне действующего Пестеля, губернских казначеев и контролеров, вышеупомянутых членов счетной экспедиции, а также всех членов Олонецкой казенной палаты, которые подписывали резолюции об определении к должности и награждении чинами братьев Алексеевых, свидетельствовали перед начальством об их «исправности и хорошем поведении»; в третью – с поручителей Алексеевых; в четвертую – с тех, кто ежемесячно свидетельствовал наличные суммы, а именно: с бывших гражданских губернаторов Мертенса, Рых-левского, Фан-дер-Флита, со всех временно правивших должность губернатора председателей палат, а также губернских прокуроров. Кроме этого, Государственный совет решил испросить «Высочайшего соизволения» на взыскание с членов общего присутствия губернского правления за неправильное внесение в Петрозаводское уездное казначейство сумм на хранение. Как мы установили, уже в этом году были произведены первые взыскания, например, с бывшего советника губернского правления Кедрина [49].
Судебное рассмотрение дел «о беспорядках и злоупотреблениях» чиновников Олонецкой казенной палаты, отмеченных сенатором в ходе его личного осмотра палаты, а также по «лесной части», затянулось на годы. Так как все результаты рассмотрения «лесных дел» изложены нами в специальной статье, то в данной мы ограничимся лишь констатацией их общего итога: все эти чиновники на основании указов Сената за 1834 и 1836 годы были не только оправданы, но и признаны неподлежащими вообще какому-либо взысканию [50]. Правда, признать этих чиновников вовсе непострадавшими мы все же не можем: в течение многих лет они находились под судом, не имея возможности распоряжаться своим имуществом, а в некоторых случаях и поступать на службу. Особенно трагична была судьба советника Политковского, который в 1831 году в Санкт-Петербурге даже пытался покончить жизнь самоубийством.
В 1842 году была определена судьба и губернских чиновников лесного отделения Олонецкой казенной палаты Кирсанова, Чупова и Непеина, проходивших по «делу лесопромышленников». Все они остались под угрозой имущественного взыскания в случае невозможности покрыть его из описанного имущества купцов [51]. Также были оправданы те чиновники казенной палаты, которые проходили по делу «о лихоимстве по рекрутскому набору». Дело было окончательно разрешено указом Сената от 28 июня
1830 года, согласно которому крестьяне, как не доказавшие взятки, были обязаны вернуть деньги чиновникам, но при этом, по «Высочайшей воле», ответственности за дачу взятки не понесли [52]. Точка в деле «по ревизии сенатора Баранова о злоупотреблениях в Олонецкой губернии», числившимся за Олонецким губернским правлением, была поставлена в 1842 году: своим решением от 27 апреля правление постановило: «…дело сие зачислить решенным и отдать для хранения в архив», так как «последовавшие от Сената указы и от разных присутственных мест и лиц представления и требования в свое время губернское правление привело в исполнение, и за тем дело не требует никакого производства» [53].
ВЫВОДЫ
Проведенная сенатором Д. О. Барановым в 1827/1828 году ревизия олонецких губернских государственных органов началась на основании достаточно голословного рапорта жандармского офицера Яковлева, проверявшего по распоряжению Николая I обоснованность поступившего от местного губернского прокурора в правительство доноса. Сенатор Баранов провел, как мы считаем, достаточно беспристрастный личный осмотр состояния дел в губернских учреждениях, который длился чуть менее месяца. Впрочем, общее производство по ревизии (с момента назначения и до момента сложения с сенатора полномочий ревизора) продолжалось чуть более года. В этой связи интересно заметить, что данный показатель несколько превышает средний показатель продолжительности сенаторских ревизий, проходивших в начале правления Николая I и укладывавшихся, как указывает И. А. Блинов, обычно в 6–8 месяцев [54].
Ни к одному из олонецких губернских учреждений, за исключением казенной палаты, серьезных претензий у сенатора не возникло. Поэтому, наверное, эта ревизия не привела, как это обычно бывало в других губерниях, к кардинальной смене корпуса губернских чиновников. Более того, при сравнении данных «Адрес-календаря» за 1828, 1829 и 1830 годы (составлены соответственно по состоянию на 16 июня 1827 года, 25 ноября 1827 года и 1 декабря 1829 года) оказалось, что после сенаторской ревизии на конец 1829 года осталось прежним по составу общее присутствие Олонецкого губернского правления, палаты уголовного суда (за исключением председателя С. А. Башинского) и гражданского суда (за исключением советника С. В. Васильева). Кардинальному изменению, как и следовало ожидать, подвергся лишь состав общего присутствия казенной палаты. Однако при этом сохранил свою должность ее председатель – вице-губернатор Б. И. Пестель. Вероятно, в данном случае cледует учитывать значительные родственные и аристократические связи последнего в придворных кругах: его отцом являл- ся известный, бывший в 1806–1818 годах сибирским генерал-губернатором, И. Б. Пестель, а родным братом – декабрист П. И. Пестель. В 1829 году его кандидатура даже была представлена Николаю I в качестве одного из двух кандидатов на пост олонецкого гражданского губернатора, но не была им утверждена [55].
Столь необычные результаты ревизии позволили С. М. Середонину привести ее в своей работе в качестве одного из двух примеров (вторым была ревизия Пензенской губернии в 1828 году), когда сенаторская ревизия не обнаружила злоупотреблений. Он писал: «Олонецкую губернию сенатор Баранов нашел в порядочном положении» [56]. Почему исследователь так считал, понять можно: почти все чиновники губернского аппарата, привлеченные к уголовному суду, были оправданы. Если же судить по числу официально представленных Д. О. Баранову нерешенных дел, то по этому показателю губернские учреждения Олонецкой губернии выглядели достаточно неплохо на фоне других губерний. Так, например, в 1822 году, на момент принятия в управление Казанской губернии сенатором Саймоновым на правах генерал-губернатора «для совершенного устройства той губернии», сенатор зафиксировал только в одном ее губернском правлении до 15000 нерешенных и непри-веденных в известность дел, в то время как в Олонецком губернском правлении сенатор Баранов нашел всего 731 такое дело [57]. В ходе же проведенной в 1837 году ревизии Саратовской губернии сенатор Денфера нашел только в одной ее казенной палате 4136 нерешенных дел, а в Олонецкой казенной палате сенатор Баранов выявил всего 1722 таких дела [58]. Правда, мы прекрасно осознаем некоторую некорректность проведенного сравнения, так как число решаемых дел в губернских присутственных местах напрямую зависит не только от субъективных факторов (например, от неэффективной работы чиновников), но и объективных (например, от численности населения, а по этому показателю Казанская и Саратовская губернии не менее чем в 3 раза превосходили Олонецкую). Безусловно, самым оптимальным следовало бы признать сравнение с аналогичными результатами сенаторских проверок в более сходных по численности и специфике населения Архангельской и Вологодской губерниях, но, к сожалению, как мы уже указывали в начале статьи, подобных исследований еще не проведено.
Тем не менее мы не можем полностью согласиться с утверждением С. М. Cередонина: беспорядки в деятельности олонецкого губернского аппарата и случаи злоупотреблений со стороны отдельных губернских чиновников сенатор Баранов все же нашел. Но то, что после многолетних судебных рассмотрений большинство из привлеченных сенатором или по его представлениям Сенатом и императором к суду чиновников были признаны невиновными или прощены по
Манифестами 1826 и 1841 годов, не позволяет нам признать саму сенаторскую ревизию достаточно эффективным средством борьбы с коррупцией или злоупотреблениями власть предержащих. Ответственность же сенатора и членов его канцелярии, а также проводивших под его началом специальные расследования за понесенные олонецкими чиновниками убытки во время нахождения их под следствием и судом в русском праве не предусматривалась – пожалованные императором награды за проведение ревизии отобраны у них не были. В частности, по ходатайствам сенатора Баранова в 1828 году находившиеся при нем чиновники были награждены: сенатский секретарь коллежский советник Пурлевский как управлявший канцелярией сенатора и производивший следствие по лесной части и расхищению в Петрозаводском уездном казначействе орденом Св. Анны 2-й степени, а три сенатских канцеляриста получили следующий чин. Следователи по «лесному делу» были вознаграждены скромнее: подполковник Яковлев был удостоен «Высочайшего благоволения», статский советник Речицкий получил в награду лишь годовой оклад в размере 2500 рублей. Сам сенатор «за отлично проведенную ревизию Олонецкой губернии» был пожалован в кавалеры ордена Св. Александра Невского [59].
В свою очередь, признавая ревизию сенатора Баранова неэффективной, мы в то же время не можем согласиться с тем, что она была абсолютно безрезультатной. Нам представляется, что именно материалы этой ревизии, а также признание сенатором факта неудовлетворительного состава олонецкого чиновничества окончательно убедили императора в необходимости включить
Олонецкую губернию в список «привилегированных» губерний, где при определении на службу чиновники получали особые преимущества. Был также приспособлен к специфике Олонецкой губернии общий закон об охране казенных лесов. Вся верхушка олонецкой губернской администрации понесла имущественную ответственность за крупную растрату в Петрозаводском уездном казначействе и допущенные нарушения лесного законодательства.
В целом, произведенный анализ материалов сенаторской ревизии Олонецкой губернии, проведенной тайным советником Д. О. Барановым в 1827/1828 году, позволил правительству оценить не только общее состояние дел в ее губернских учреждениях, но и выявить проблемы. Некоторые из этих проблем правительство постаралось решить «по горячим следам». В ходе ревизии были выявлены многие типичные недостатки местного управления – медленное и пристрастное решение дел, корыстолюбие чиновничества. Однако ряд результатов ревизии, а именно: удовлетворительный порядок в делопроизводстве канцелярий губернских органов и относительно небольшое число нерешенных дел при столь некачественном составе чиновничества -выгодно отличает эту ревизию от других. Такой парадоксальный итог еще раз убеждает в необходимости более пристального внимания исследователей к такому ценному источнику, как материалы сенаторских ревизий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Республики Карелия (региональный конкурс «Русский Север»), проект № 04-03-49302а/С.
Оп. 2. Д. 5206. Л. 663; 18. Оп. 1. Д. 1060; 21. Оп. 1. Д. 2536. Л. 1–4. Д. 3070. Л. 157–170.
Список литературы Ревизия сенатора Д. О. Баранова как источник по изучению состояния государственного управления в Олонецкой губернии во второй половине XIX века
- Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи: В 2 т. Т. 2. СПб.: Изд-во «Юридический ЦентрПресс», 2003. 456 с.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое: В 45 т. СПб.: Тип. отд. Его Имп. Вел-ва канцелярии, 1830. № 21860, 27722.
- Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи... С. 118.
- История Правительствующего Сената за 200 лет. 1711-1911: В 5 т. Т. 3. СПб., 1911. С. 631; 3, С. 108,154-155,172-174.
- Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917 гг. Т. 1: Высшие государственные учреждения. СПб.: Наука, 1998. С. 84-85.
- Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX в. Омск: Изд-во Омского госун-та, 1995. 237 с.
- Морякова О. В. Система местного управления России при Николае I. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. 272 с.
- Бикташева А. Н. Надзор за губернаторами в России в I-й половине XIX в.//Вопросы истории. 2007. № 9. С.97-105.
- Ефимова В. В. Из истории охраны казенных лесов в Олонецкой губернии в первой половине XIX века (по материалам сенаторской ревизии Д. О. Баранова)//Вопросы истории Европейского Севера: Сб. научн. ст. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. С. 105-118.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Оп. 167. Д. 123, Л. 1.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Оп. 167. Л. 14, 19, 64, 66, 77.
- Высшие и центральные государственные учреждения России. С. 84-85; 16. Оп. 68. Д. 337. Л. 115.
- Ф. 1286 -Департамент полиции исполнительной. Оп. 4. Д. 493. Л. 1-2, 5-6, 13.
- Ф. 1409 -Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Государственный архив Архангельской области. Оп. 1. Д. 461. Л. 183.
- Ф. 1409 -Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Государственный архив Архангельской области. Оп. 167. Д. 123. Л. 93-94; 14. Оп. 2. Д. 5206. Л. 13, 39; 16. Оп. 68. Д. 345. Л. 1459; 18. Оп. 3. Д. 10/29. Л. 98; Д. 30. Л. 7;Оп. 44. Д. 591. Л. 144.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 68. Д. 337. Л. 759.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 68. Д. 337. Л. 757-758. Ревизия сенатора Д. О. Баранова как источник по изучению состояния государственного управления. 23
- Ф. 656 -Олонецкая палата гражданского суда. Оп. 1. Д. 1285. Л. 6-7.
- Ф. 1367 -Канцелярия генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого. Оп. 1 (1820-1830). Д. 36. Оп. 1. Д. 36. Л. 369.
- Ф. 4 -Олонецкая казенная палата. Оп. 44. Д. 591. Л. 62.
- Ф. 4 -Олонецкая казенная палата. Оп. 68. Д. 345. Л. 1132-1141.
- Ф. 1409 -Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Государственный архив Архангельской области. Оп. 2. Д. 508. Л. 1-5.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 68. Д. 345. Л. 127-143.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 68. Д. 345. Л. 529-530.
- Ф. 656 -Олонецкая палата гражданского суда. Оп. 1. Д. 1323. Л. 11-15; 18. Оп. 3. Д. 29. Л. 445.
- Ф. 1409 -Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Государственный архив Архангельской области. Оп. 2. Д. 5206. Л. 663; 18. Оп. 1. Д. 1060; 21. Оп. 1. Д. 2536. Л. 1-4. Д. 3070. Л. 157-170.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 2. Д. 345. Л. 6770-687; Д. 346. Л. 663; Д. 337. Л. 94-99.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества (4 экспедиция). Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург). Оп. 167. Д. 123. Л. 89-92.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 68. Д. 344. Л. 355-356.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 68. Д. 345. Л. 549-550.
- Ф. 1409 -Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Оп. 2. Д. 5206. Л. 663; 18. Оп. 1. Д. 1060; 21. Оп. 1. Д. 2536. Л. 1-4.
- Ф. 29 -Приказ общественного призрения. Оп. 1. Д. 461. Л. 210-213.
- Ф. 656 -Олонецкая палата гражданского суда. Оп. 2. Д. 27. Л. 345-361.
- Ф. 655 -Олонецкая палата уголовного суда. Оп. 1. Д. 1091. Л. 16-18.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург). Оп. 167. Д. 123. Л. 19; 14, Оп. 2. Д. 5206. Л. 1.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. № 20004; 18. Оп. 1. Д. 477. Л. 22-24.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург). Оп. 168. Д. 237а.
- Ф. 1409 -Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Государственный архив Архангельской области. Оп. 2. Д. 5206. Л. 1-10.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург). Оп. 167. Д. 123. Л. 146.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург). Оп. 167. Д. 123. Л. 148.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе: В 55 т. СПб.: Тип. отд. Его Имп. Вел-ва канцелярии, 1830-1884. № 2394.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе... № 2615.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург): Оп. 3а. Т. 1. Д. 1218. Л. 2-11.
- Ф. 655 -Олонецкая палата уголовного суда. Оп. 3. Д. 29. Л. 398-403.
- Исторический обзор деятельности Комитета министров: В 5 т. Т. 2. Ч. 2/Сост. С. М. Середонин. СПб., 1902. С. 92.
- История Правительствующего Сената за 200 лет. С. 651.
- Ф. 1286 -Департамент полиции исполнительной. Оп. 4. Д. 439. Л. 61.
- Ф. 109 -III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии (4 экспедиция). Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург). Оп. 167. Д. 123. Л. 222-224; 16. Оп. 68. Д. 377. Л. 252.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 2. Д. 338. Л. 351-352; 18. Оп. 1. Д. 1291; 20. Оп. 1. Д. 1323. Л. 121-135.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 40. Д. 44. Л. 144-145; 21. Оп. 1. Д. 3071. Л. 445-448.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Л. 111-113.
- Ф. 655 -Олонецкая палата уголовного суда. Оп. 1. Д. 1095. Л. 1, 238-255.
- Ф. 2 -Олонецкое губернское правление. Оп. 40. Д. 44. Л. 190.
- История Правительствующего Сената за 200 лет. С. 636.
- Ф. 1286 -Департамент полиции исполнительной. Оп. 4. Д. 740.
- Исторический обзор деятельности Комитета министров.С. 69.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. № 29330.
- Морякова О. В. Система местного управления России при Николае I. С. 138-139.
- Ф. 1409 -Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Государственный архив Архангельской области. Оп. 2. Д. 5206. Л. 40-43; 12. Оп. 168. Д. 238а.