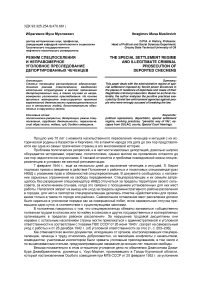Режим спецпоселения и неправомерное уголовное преследование депортированных чеченцев
Автор: Ибрагимов Муса Муслиевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению административного режима спецпоселения, введенного властными структурами в местах проживания депортированных лиц, а также случаев их неправомерного уголовного преследования. На основе архивных материалов анализируется практика карательной деятельности правоохранительных сил в отношении людей, безосновательно обвиненных в нарушении закона.
Политические репрессии, депортация, режим спецпоселения, трудовая деятельность, паразитический образ жизни, побеги, суд, особое совещание
Короткий адрес: https://sciup.org/14936983
IDR: 14936983 | УДК: 93:325.254.6(470.661)
Текст научной статьи Режим спецпоселения и неправомерное уголовное преследование депортированных чеченцев
Прошло уже 70 лет с момента насильственного переселения чеченцев и ингушей с их исторической родины в Казахстан и Киргизию. Но в памяти народа эта дата до сих пор представляется как одна из самых трагических страниц в его многовековой истории.
Проблема политических репрессий, и в частности массовых депортаций, довольно широко обсуждается историками, юристами, политологами, однако многие ее проявления остаются до сих пор недостаточно изученными. К таковой относится и проблема повседневной жизни спецпе-реселенцев в условиях ее жесткой регламентации.
7 февраля 1944 г., еще за несколько дней до выселения чеченцев и ингушей, Л. Берия подписал приказ о введении в действие Положения о районных и поселковых спецкомендатурах НКВД с указанием прав и обязанностей спецпереселенцев. В документе сообщалось о наложении серьезных ограничений на свободу передвижения. Спецпереселенцам и их семьям запрещалось без разрешения спецкомендатур НКВД отлучаться за пределы территории своего сельсовета, за исключением случаев, когда это связано с посещением установленных для них мест работы. Налагался запрет на выезд или уход за пределы административного района расселения в городах, для чего в паспортах спецпереселенцев делалась отметка «Действителен для проживания только в таком-то городе или районе». Самовольное оставление мест расселения должно было караться в уголовном порядке как за совершенный побег, если самовольная отлучка превышала одни сутки, в соответствии с существующими законами.
В положении говорилось о том, что спецпереселенцы обязаны заниматься «общественно полезным трудом в колхозах или по найму в совхозах и других государственных и кооперативных организациях в пределах районов расселения». За нарушение трудовой дисциплины они наравне с остальным населением страны могли привлекаться к административной и уголовной ответственности в соответствии с Указами ПВС СССР от 26 июня 1940 г. (запрет на самовольный уход с работы) и от 26 декабря 1942 г. (об уголовной ответственности за это) [1, с. 203–206].
Как отмечается во многих документах, исходивших от органов, контролировавших спецпере-селенцев, чеченцы к труду относились добросовестно, но малейшие конфликты с начальством, комендантом, участковым инспектором были чреваты уголовным преследованием, в том числе и по вышеназванным статьям, предусматривающим наказание до восьми лет лишения свободы.
Весьма показательно в этом отношении уголовное дело по обвинению Джанхотова Джам-бура Джамбраиловича, уроженца с. Урус-Мартан, проживавшего в Талды-Курганской области, который постановлением Особого совещания при МГБ СССР от 20 февраля 1952 г. за уклонение от работы в местах обязательного поселения по ст. 82 ч. 2 УК РСФСР был заключен в исправительно-трудовой лагерь сроком на 8 лет. В своей жалобе на имя Председателя Верховного суда СССР Джанхотов пишет, что с марта 1944 г. по 27 октября 1950 г. работал в колхозе. Вследствие того, что он болен туберкулезом, что подтверждается медицинским заключением, и климатические условия высокогорности отрицательно влияют на его здоровье, он обратился в правление колхоза с просьбой исключить его из членов колхоза. На общем собрании 27 октября 1950 г. он был исключен из колхоза, но уже 10 ноября 1950 г. Джанхотов устроился на работу в Буденновский Скотоимпорт, где и проработал вплоть до ареста 24 июля 1951 г. Джанхотов считает, что дело против него возбуждено по инициативе участкового уполномоченного, который имел с ним личные неприязненные отношения. Расследовав по жалобе Джанхотова это дело, Генеральная прокуратура Союза ССР вынесла протест Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР, в котором констатировала: «Учитывая, что Джанхотов был исключен из членов колхоза не за отказ от работы, а согласно его личному заявлению, и то, что после выбытия из колхоза он работал в пункте Скотоимпорт, считаю, что Джанхотов за уклонение от занятий общественно полезным трудом заключен в исправительно-трудовом лагере неправильно, а потому прошу: Постановление Особого совещания при МГБ СССР от 20 февраля 1952 г. по делу Джан-хотова отменить и дело производством прекратить» [2].
Суды очень часто отказывались рассматривать подобные сфальсифицированные дела, и тогда следственные органы направляли их на рассмотрение в Особое совещание, где заседавшая там «тройка» почти всегда принимала требуемое следствием решение. К примеру, Управлением МГБ по Семипалатинской области 22 мая 1951 г. якобы за уклонение от общественнополезного труда и ведение паразитического образа жизни был арестован и привлечен к уголовной ответственности уроженец с. Алхан-Юрт Чечено-Ингушской АССР Гигаев Абдулмуслим Магомедович. Он демобилизовался в 1944 г. из Советской армии по болезни и был направлен в г. Семипалатинск. Вначале работал трактористом, а с 1946 г. по январь 1951 г. трудился в вагонном депо слесарем по ремонту вагонного парка. Имел много поощрений за хорошую работу. В январе 1951 г. заболел туберкулезом легких и был госпитализирован. Пролежал в больнице больше месяца. По выздоровлении поступил на работу в Заготскот Семипалатинска трактористом. Но состояние здоровья ухудшилось, и Гигаев вынужден был уволиться с работы и продолжить лечиться амбулаторно. 22 мая 1951 г. он был арестован и обвинен по ст. 82 ч. 2 УК РСФСР – уклонение от общественно полезного труда. Следствие МГБ передало дело в Народный суд. Ознакомившись с делом, суд отказался его рассматривать, так как не нашел состава преступления в деяниях Гигаева. После этого дело было направлено в Особое совещание, которое назначило обвиняемому наказание – 8 лет заключения [3].
В 1948–1949 гг. принимается ряд нормативных актов, которые в значительной степени ужесточили административный режим в местах спецпоселений. 8 марта 1948 г. вышел приказ Министра внутренних дел СССР № 00246 «О задачах органов МВД по работе среди спецпоселенцев». Во всех местах расселения спецпереселенцев устанавливался строгий режим. Главы семей теперь должны были один раз в месяц являться на отметку в спецкомендатуру. За уклонение от явки следовало административное взыскание как за нарушение режима. Всем спецпереселен-цам под расписку было объявлено, что за побег с мест поселения устанавливалась уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком на 10 лет [4, с. 219–220].
26 ноября 1948 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за побеги с мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Великой Отечественной войны». Чеченцы и спецпереселенцы других национальностей, как утверждалось в указе, переселены «навечно, без права возврата их к прежним местам жительства». Указ предусматривал уголовное наказание за самовольный выезд из мест поселения в виде 20 лет каторжных работ для самих спецпе-реселенцев и 5 лет лишения свободы для лиц, помогавших им покинуть места поселения.
В результате согласно этому Указу было осуждено значительное число чеченцев, во многих случаях безосновательно, с опорой на какие-то формальные, несущественные моменты. Только за январь – февраль 1949 г. Особым совещанием при МВД за побеги 489 человек было приговорено к 20 годам каторжных работ [5]. Так, например, 13 января 1949 г. Тельманским РО МВД Карагандинской области за побег с постоянного места поселения была арестована Тураева Айшат и 3 сентября 1949 г. Особым совещанием при МВД СССР осуждена за это деяние к 20 годам каторжных работ. Как выяснилось при прокурорской проверке этого дела, 22 февраля 1944 г. Тураева, проживавшая в с. Дочиборзе, пошла на рынок в с. Алхазур-Котар Урус-Мартановского района, где 23 февраля была задержана и выслана. С этого момента, как пишет ее брат Тураев Иса в жалобе на имя Председателя СМ СССР Г.М. Маленкова, их семья рассталась с ней. В 1948 г. им через адресный стол удалось разыскать место ее нахождения, и в начале 1949 г. она решила приехать к ним, но по дороге была задержана и осуждена на 20 лет. Эта женщина была абсолютно неграмотна, русским языком не владела и являлась инвалидом – у нее не было правой руки. Из писем лиц, проживавших с Тураевой в Акмолинской области, ее брату стало известно, что она ходила по дворам жителей села и собирала милостыню, не имея близких родственников для ее содержания. После неоднократных обращений ее родственников в различные инстанции только 6 февраля 1954 г. Генеральная прокуратура СССР внесла протест на постановление Особого совещания по делу, признав, что ее осуждение было незаконным, так как А. Тураева не была, в соответствии с требованиями Указа от 26 ноября 1948 г., ознакомлена с этим документом. Но 5 беспросветных лет несчастная женщина провела в Воркутинских лагерях [6].
Много было случаев, когда задерживались и предавались суду якобы за побег переселенцы, которые, выполняя свои производственные обязанности, оказывались на некотором расстоянии от места проживания, не имея никакого умысла к побегу. Если получалось вовремя обратиться в вышестоящие судебные и надзорные органы, удавалось найти справедливое решение и избежать осуждения на 20 лет каторжных работ.
12 июня 1951 г. был взят под стражу за якобы совершенный побег Басханов Ахмед Махмудович, проживавший в Джувалинском районе Джамбульской области. Суть дела заключалась в том, что он выехал от места жительства в Джувалинском районе до разъезда № 110 этого же района, находящегося на расстоянии 9 км. Целью выезда было устройство на работу по своей специальности в качестве дизелиста в строительную организацию. Получив согласие на прием, Басханов возвращался обратно, но по дороге домой был взят под стражу и обвинен в побеге. До этого он работал в заготконторе гонщиком скота и по условиям работы удалялся от места жительства на гораздо большие расстояния, и спецкомендатура не препятствовала этому. Здесь же, видимо, сыграли свою роль какие-то другие обстоятельства. Возможно, начальство не хотело отпускать хорошего работника, а Басханов настаивал на своем. Через несколько месяцев после ареста 3 сентября 1951 г. он пишет письмо Секретарю ЦК ВЛКСМ, в котором описывает свою трагедию. «Я начал свою трудовую деятельность с 14-летнего возраста. В 1949 г. за хорошую работу был направлен на учебу на годичные курсы механизаторов, которые успешно закончил. В 1950 г. как передовик производства был принят в ряды ВЛКСМ. …Как член комсомола обращаюсь к Вам с просьбой вмешаться для уточнения справедливости» [7].
ЦК ВЛКСМ направил письмо арестованного комсомольца в Прокуратуру СССР с просьбой провести проверку законности ареста Басханова, и 24 ноября 1951 г. начальник отдела по спецделам Прокуратуры СССР А. Камочкин написал Прокурору Казахской ССР Л.А. Набатову: «Басханов А.М., 1933 года рождения, был привлечен к уголовной ответственности по Указу от 26 ноября 1948 г. за самовольный выезд с места поселения на ст. Бурнос Джувалинского района, на разъезд № 110 того же района. Из объяснения обвиняемого, подтвержденного всеми материалами дела, видно, что он выехал на разъезд № 110 не с целью побега с места обязательного поселения, а с целью поступления на работу по своей специальности тракториста. За указанное нарушение Басханов подлежит наказанию не в уголовном, а в административном порядке» [8].
В данном случае слишком ретивым провинциальным чиновникам не удалось сломать судьбу молодого человека. Но, к сожалению, таких фактов торжества справедливости в отношении спецпоселенцев было не так уж и много.
Ссылки:
-
1. Белковец Л.П. Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 1941–1955 гг.: Историко-правовое исследование. М., 2008.
-
2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8131. Оп. 31. Д. 37905. Л. 2–28.
-
3. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 34804. Л. 1–2, 7–9.
-
4. Белковец Л.П. Указ. соч.
-
5. ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 353.
-
6. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 41613. Л.5–11.
-
7. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 30075. Л.8.
-
8. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 29819. Л.9.
Список литературы Режим спецпоселения и неправомерное уголовное преследование депортированных чеченцев
- Белковец Л.П. Административно-правовое положение российских немцев на спецпоселении 1941-1955 гг.: Историко-правовое исследование. М., 2008.
- Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 8131. Оп. 31. Д. 37905. Л. 2-28.
- ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 34804. Л. 1-2, 7-9.
- ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 234. Л. 353.
- ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 41613. Л. 5-11.
- ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 30075. Л. 8.
- ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 29819. Л. 9.