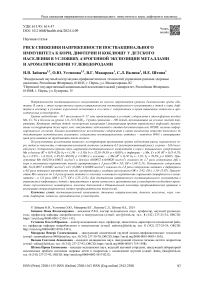Риск снижения напряженности поствакцинального иммунитета к кори, дифтерии и коклюшу у детского населения в условиях аэрогенной экспозиции металлами и ароматическими углеводородами
Автор: Зайцева Н.В., Устинова О.Ю., Макарова В.Г., Валина С.Л., Штина И.Е.
Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk
Рубрика: Оценка риска в эпидемиологии
Статья в выпуске: 4 (48), 2024 года.
Бесплатный доступ
Напряженность поствакцинального иммунитета во многом определяется уровнем безопасности среды обитания. В связи с этим осуществлена оценка напряженности поствакцинального иммунитета у детей к кори, дифтерии и коклюшу в условиях аэрогенной экспозиции и его связь с содержанием в крови пациентов металлов и ароматических углеводородов. Группа наблюдения - 417 школьников 6-17 лет, проживающих в условиях содержания в атмосферном воздухе Mn, Cr, Ni и бензола на уровне 1,0-13,8 ПДКсг. Группа сравнения - 196 детей, проживающих на условно чистой территории. Критерии отбора детей: полноценная вакцинация / ревакцинация против управляемых инфекций; проживание на территории более трех лет; отсутствие заболеваний в стадии декомпенсации или ОРВИ; наличие информированного согласия. Химико-аналитическое исследование содержания в крови химических веществ выполнено по действующим методическим указаниям; содержание поствакцинальных антител - методом ИФА с интерпретацией результатов по требованиям тест-систем. По результатам исследования выявлено: на территории проживания группы наблюдения риски, выраженные через индексы опасности, в отношении иммунной системы составили 4,3 (настораживающий риск), а крови - 6,8 (высокий риск). Установлена прямая связь нарушений поствакцинального иммунитета к кори с повышенным содержанием Mn и бензола (R2 = 0,19-0,26; b0 = (-1,19) - (-3,10); b1 = 32,50-39,59; р 2 = 0,13-0,78; b0 = (-2,95) - (-4,19) b1 = 85,22-302,60; р 2 = 0,19; b0 = -1,19; b1 = 39,59; р 3) и бензола (0,00072 ± 0,00020 мкг/см3) снижало до 1,7 раза содержание JgG к кори и увеличивало вероятность низкой серопротекции в 3 раза (OR = 3,0; DI = 1,68-5,31). Повышенное содержание Mn, Ni (0,0057 ± 0,0007 мкг/см3) и Cr (0,0061 ± 0,0008 мкг/см3) снижало до 1,8 раза содержание антител к дифтерии и в 4,0 раза повышало вероятность низкой серопротекции у младших школьников (OR = 3,92; DI = 1,10-13,97). Присутствие Mn снижало до 1,4 раза уровень антител к коклюшу и повышало вероятность нарушений специфического иммунитета - в 1,8 раза (OR = 1,77; DI = 1,25-2,51). Для достижения напряженного поствакцинального иммунитета к управляемым инфекциям у детей с присутствием в крови металлов и ароматических углеводородов необходимо проведение серологического мониторинга, внесение дополнений в Национальный календарь профилактических прививок и реализация специализированных медико-профилактических технологий.
Поствакцинальный иммунитет, динамика напряженности, детское население, корь, коклюш, дифтерия, металлы, ароматические углеводороды
Короткий адрес: https://sciup.org/142243804
IDR: 142243804 | УДК: 613.95: | DOI: 10.21668/health.risk/2024.4.09
Текст научной статьи Риск снижения напряженности поствакцинального иммунитета к кори, дифтерии и коклюшу у детского населения в условиях аэрогенной экспозиции металлами и ароматическими углеводородами
Зайцева Нина Владимировна – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель; профессор кафедры микробиологии и иммунологии (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-25-34; ORCID: .
Устинова Ольга Юрьевна – доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по клинической работе; профессор кафедры микробиологии и иммунологии (е-mail: ; тел. 8 (342) 237-25-34; ORCID: .
Штина Ирина Евгеньевна – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией комплексных проблем состояния здоровья детей и подростков с клинической группой (e-mail: ; тел.: 8 (342) 237-27-92; ORCID: .
В настоящее время вакцинопрофилактика признана наиболее эффективным и экономически целесообразным подходом к сохранению контроля над управляемыми инфекциями (дифтерия, корь, коклюш) при условии охвата массовой иммунизацией 95–98 % населения и последующего формирования напряженного коллективного иммунитета [1–4].
В России иммунопрофилактика дифтерии и коклюша осуществляется в рамках Национального календаря профилактических прививок с 1953 г. Первичная вакцинация проводится тремя дозами АКДС в 3, 4,5 и 6 месяцев жизни ребенка; первая ревакцинация – в 18 месяцев (АКДС); вторая – в 6–7 лет (АДС-М); третья – в 14 лет (АДС-М); в последующие годы ревакцинации должны осуществляться один раз в 10 лет (АДС-М) [5]. Используемая для иммунопрофилактики традиционная отечественная тривакцина АКДС включает корпускулярный коклюшный компонент, а также дифтерийный и столбнячный анатоксины, сорбированные на алюминия гидроксиде; АДС-М, в свою очередь, состоит из смеси очищенного дифтерийного и столбнячного анатоксинов, также сорбированных на алюминия гидроксиде [3]. Для иммунопрофилактики кори (первичная вакцинация введена в Национальный календарь профилактических прививок в 1967 г., ревакцинация – в 1987 г.) в настоящее время используются отечественная паро-титно-коревая дивакцина или моновакцина против кори, основу которых составляют живые аттенуированные штаммы возбудителя кори. При использовании любой из этих вакцин график иммунизации включает два этапа: первичная вакцинация – детям в возрасте 12 месяцев, а ревакцинация – в 6-летнем возрасте ребенка [6].
Введение массовой иммунопрофилактики управляемых инфекций оказало существенное влияние на распространение дифтерии, кори и коклюша. Если до введения массовой иммунизации ежегодный показатель заболеваемости корью в РФ составлял 700–1400 тыс. человек (698–1192 случая на 100 тысяч населения), а летальность достигала 0,15 % (1,4 случая на 100 тысяч населения), то к концу XX в. уровень заболеваемости снизился в 6,1–9,2 раза, а летальные случаи регистрировались как исключение [6, 7]. Однако с 2021 г. эпидемиологическая ситуация по кори существенно ухудшилась как в нашей стране, так и за рубежом [8]. В 2022 г. вспышки кори были зарегистрированы в 37 странах мира (преимущественно на Африканском континенте), по сравнению с 22 странами в 2021 г. [9]. В 2023 г. ВОЗ было зафиксировано 60 860 случаев заболеваний в
41 стране мира; 95 % больных выявлено в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, РФ, Румынии и Турции1. Если в 2019 г. в России был зафиксирован 4491 случай кори, то в 2023 г. – уже 12 812 случаев [1]. К концу февраля 2024 г. в половине регионов РФ суммарно было выявлено более 1160 новых случаев заболевания; самые высокие показатели заболеваемости имели место в Ростовской области (более 200 случаев) и ХМАО (106 случаев) [10].
До 50-х гг. XX в. коклюш был одной из самых распространенных детских инфекций. Введение массовой иммунопрофилактики позволило снизить уровень заболеваемости в РФ с 400–450 случаев на 100 тысяч населения (50-е гг. XX в.) до 5,8–10,8 случая на 100 тысяч населения (60–70-е гг. XX в.). Снижение в 80–90 гг. охвата населения иммунопро-филактическими мероприятиями привело к росту заболеваемости в стране. Однако до 2018 г. ежегодное число заболевших оставалось относительно стабильным: 4795 случаев – в 2010 г. и 5411 – в 2017 г. В 2019 г. наблюдался скачкообразный подъем заболеваемости, когда общее число больных коклюшем составило в РФ 14 407 случаев [11, 12]. В настоящее время заболеваемость в России имеет волнообразный характер, и если в 2019 г. ее уровень достигал 9,8 случая на 100 тысяч населения (14,4 тысячи случаев), то в 2021 г. – 0,76 случая (1,1 тысячи случаев), а в 2022 г. – 2,18 случая (3,1 тысячи случаев). В 2023 г. в РФ зафиксирован резкий подъем заболеваемости (36,1 случая на 100 тысяч населения), при этом общее число больных составило 52,8 тысячи и являлось максимальным за предшествующие 30 лет [13]. В 2024 г. тенденция роста заболеваемости в РФ сохранилась; только за первые четыре месяца число детей, госпитализированных с коклюшем, выросло относительно 2023 г. на 300 % [14]. Аналогичная тенденция прослеживается и за рубежом: если в до-вакцинальный период в США регистрировалось порядка 157 случаев коклюша на 100 тысяч населения, то после начала массовой иммунопрофилактики этот показатель снизился до одного случая на 100 тысяч населения. Замена в конце 90-х гг. XX в. корпускулярного коклюшного компонента АКДС на менее реактогенный бесклеточный компонент, характерная для большинства зарубежных стран, привела к росту заболеваемости и возникновению эпидемических вспышек. В 2018 г. ВОЗ сообщила о регистрации уже более 151 тысячи случаев коклюша по всему миру, при этом тенденция роста заболеваемости сохранилась и в последующие годы в большинстве стран Европы и американского континента2. В США за 9 месяцев 2024 г. выявлено 14 569 случа- ев коклюша (в 4 раза больше, чем в 2023 г.). За весь 2023 г. и до апреля 2024 г. в странах Евросоюза, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне диагностировано более 60 тысяч случаев коклюша, что в 10 раз больше, чем в 2022 г. 3 [15].
До введения массовой иммунопрофилактики уровень заболеваемости дифтерией в России составлял от 40 до 144 случаев на 100 тысяч населения. В 60-е гг., благодаря плановой реализации мероприятий специфической профилактики, показатель существенно снизился и не превышал 1,11–5,02 случая на 100 тысяч населения, а в 70–80-е гг. – менее 0,5 случая [16–28]. В 1989–1995 гг. в РФ был зафиксирован существенный рост заболеваемости, однако уже в 1996–1998 гг. число выявленных случаев дифтерии в стране снизилось в 9,6 раза, смертность – в 11,5 раза, общая инфицированность – в 9 раз [19]. С 2009 г. заболеваемость дифтерией в России носит спорадический характер: за последние 10 лет максимальное количество заболевших (5 человек) было зарегистрировано в 2019 г., в 2020 г. – один случай, в 2021 г. – 4 случая, в 2022–2023 гг. – ни одного [5, 20]. Однако эпидемиологическая ситуация в мире остается неблагоприятной. Ежегодно на планете диагностируется от 5000 до 9000 случаев дифтерии, из которых 10 % заканчиваются летальным исходом. В 2021 г. в мире было выявлено 8328 случаев заболеваний, при этом около 94 % заболевших являлись жителями Эфиопии, Индии, Йемена, Индонезии и Афганистана. В 2022 г. Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Норвегия, Швейцария сообщили о 92 случаях дифтерии среди мигрантов из Афганистана, Сирии, Марокко, Туниса, Бангладеш, Индии, Либерии и Турции [2]. В 2023 г. вспышки дифтерии были зафиксированы в Нигерии (5898 случаев) и Гвинее (538 случаев)4.
Таким образом, анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о неблагоприятных тенденциях заболеваемости россиян корью и коклюшем, а также наличии серьезной угрозы завоза в страну дифтерии в связи с расширением экономических и политических связей РФ со странами африканского континента, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также активизацией миграционных процессов из этих регионов. Учитывая серьезные эпидемиологические и клинические последствия данных инфекций, реальным барьером на пути их распространения является формирование коллективного (95–98 % популяции) напряженного иммунитета [3, 4, 10].
Рассматривая перечень причин, препятствующих в России формированию должного уровня коллективного иммунитета против кори, коклюша и дифтерии, большинство исследователей в первую очередь называют: отказы родителей от вакцинации / ревакцинации детей, отказы взрослого населения от ревакцинации, нарушение сроков и объема их проведения, не всегда обоснованные медицинские отводы от иммунопрофилактики [4, 10, 17, 18, 21]. Введение в 2020–2022 гг. серьезных ограничительных мероприятий, связанных с пандемией COVID-19, оказало существенное влияние на снижение распространенности манифестных форм управляемых инфекций, однако уже с начала 2023 г. ситуация осложнилась в связи с резким снижением в предыдущие годы охвата населения мерами иммунопрофилактики [1]. Согласно официальным данным, в 2020 г. у 23 млн детей РФ не был выполнен Национальный календарь профилактических прививок, что не только является максимальным показателем за последнее десятилетие, но и на 3,7 млн превышает аналогичную величину 2019 г. [22]. ВОЗ сообщила, что в период 2020–2022 гг. охват детского населения первой коревой вакциной снизился в мире до 69–92 %, второй дозой – до 45–85 %, а трехкратную вакцинацию от дифтерии в некоторых странах получили не более 48–66 % детей [4, 5, 17]. Немалую группу риска по вероятному развитию управляемых инфекций как в нашей стране, так и за рубежом составляет все увеличивающийся контингент детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, для которых отводы от иммунопрофилактики по медицинским показаниям являются рядовым событием. В России эта категория пациентов своевременно иммунизирована против дифтерии и коклюша только в 71 % случаев, если ребенок родился доношенным; если же ребенок родился недоношенным, то частота полноценно выполненного графика вакцинаций / ревакцинаций против дифтерии и коклюша в течение первых трех лет жизни не превышает 6,4 %, против кори – 51 % [23].
Помимо снижения охвата детского населения мероприятиями иммунопрофилактики серьезной проблемой остается недостаточный уровень напряженности поствакцинального иммунитета. По мнению большинства исследователей, наиболее частой причиной отсутствия защитных антител или низкого уровня их образования являются нарушения регламента проведения иммунизации [2, 5, 10, 17, 20]. В то же время известен факт, когда, несмотря на правильно и своевременно выполненную иммунизацию, защитный титр антител либо не образуется совсем, либо быстро утрачивается. В этих случаях, несмотря на высокий охват населения им- мунопрофилактикой, не удается избежать периодических эпидемических вспышек заболеваний [20, 24]. Согласно данным серологического мониторинга, число таких детей достигает 10 % и более от общего числа привитых [25]. Результаты клинико-эпидемиологических исследований показывают, что большую часть этой группы составляют длительно и часто болеющие дети, а также дети с аллергическими и аутоиммунными заболеваниями, среди которых низкий уровень поствакцинальных антител к кори обнаружен у 42 %, а к дифтерии – у 16 % [25, 26]. Установлено, что сопровождение вакцинопрофилактики у таких детей иммуномодулирующей терапией кратковременно усиливает выработку специфических антител, однако не способствует их длительному сохранению [26]. В качестве еще одной причины формирования недостаточной напряженности поствакцинального иммунитета рассматривается замена отечественной вакцины АКДС менее реактогенными бесклеточными зарубежными вариантами, широко применяемыми в России: «Пентаксим» (Франция), «Инфанрикс», «Инфанрикс-гекса» (Бельгия), «Адасель» (Канада) [14]. Индивидуальные особенности ребенка (низкая продукция гамма-интерферона, нарушение обмена билирубина, аланина, аспарагина, глутамина и т.д.) также препятствуют развитию полноценного напряженного поствакцинального иммунитета, так как данные соединения принимают активное участие в синтезе антител в качестве иммуномодуляторов или иммунопротекторов [24–27]. В ряде исследований подчеркивается связь напряженности поствакцинального иммунитета с возрастом пациентов. В частности, наибольшая частота достаточной напряженности поствакцинального иммунитета к дифтерии установлена у взрослого населения в возрасте 20 лет и старше (100 %), наименьшая – у детей 1–4 лет (30,6 %) [2, 3]. Иная картина динамики напряженности поствакцинального иммунитета складывается при коклюше: увеличение числа незащищенных от коклюша лиц наблюдается уже через три года после ревакцинации, при этом у подростков и взрослых только в 28 % случаев выявляется протективный уровень анти-коклюшных IgG [21].
В настоящее время среди различных причин, определяющих напряженность поствакцинального иммунитета и длительность его сохранения, большое внимание уделяется качеству и уровню безопасности среды обитания для здоровья населения и, в частности, загрязнению объектов окружающей среды химическими веществами техногенного происхождения [28–30]. Немногочисленные исследователи проблемы указывают, что в условиях загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы химическими веществами частота нарушений формирования поствакцинального иммунитета у детей и подростков с полностью выполненной вакцинацией / ревакцинацией возрастает в 2,7–5,7 раза, а у взрослых – в 4,0–4,4 раза [28]. Результаты серологического мониторинга показывают, что у данного контингента число лиц с отсутствием защитного уровня поствакцинальных антител достигает 6,4–8,7 % [30]. Одной из причин негативных тенденций в сохранении напряженного поствакцинального иммунитета у жителей промышленных центров, по мнению авторов, является снижение под влиянием загрязнения объектов окружающей среды химическими веществами техногенного происхождения абсолютного содержания и функциональной активности иммунокомпетентных клеток [29, 31]. В то же время анализ литературы свидетельствует, что известные результаты исследований базируются на сравнительной оценке напряженности поствакцинального иммунитета у лиц, проживающих в различных санитарно-гигиенических условиях окружающей среды, но не содержат данных по оценке его нарушений у детей и подростков с различным уровнем содержания химических веществ техногенного происхождения в крови, не объективизируют связь выявленных нарушений с концентрацией химических веществ в биосредах, что и послужило основой к выполнению настоящего исследования.
Цель исследования – оценить напряженность и связь нарушений поствакцинального иммунитета к кори, дифтерии и коклюшу у детского населения с повышенным содержанием в крови металлов (марганец, хром, никель) и ароматических углеводородов (бензол) в условиях аэрогенной экспозиции.
Материалы и методы. Группу наблюдения составили 417 школьников в возрасте 6–17 лет: 6–9 лет – 151 ребенок; 10–13 лет – 148 детей; 14–17 лет – 118 детей. Дети группы наблюдения проживали на территории крупного промышленного центра, где, по данным мониторинговых исследований, установлено присутствие в атмосферном воздухе марганца (0,00014 ± 0,00003 мг/м3), хрома (0,00011 ± 0,00001 мг/м3), никеля (0,000051 ± ± 0,000008 мг/м3) и бензола (0,0159 ± 0,0044 мг/м3), что соответствует 1,0–13,8 ПДК сг.
Группу сравнения составили 196 детей аналогичного возраста (6–9 лет – 68 детей; 10–13 лет – 72 ребенка; 14–17 лет – 56 детей), проживающих на условно чистой территории, где содержание марганца в атмосферном воздухе не превышает 0,000039 ± 0,000008 мг/м3 ( р < 0,0001 к группе наблюдения; 0,8 ПДК сг ), хрома – 0,000017 ± 0,000003 мг/м3 ( р < 0,0001 к группе наблюдения; 2,1 ПДК сг ), никеля – 0,000014 ± 0,000003 мг/м3 ( р < 0,0001 к группе наблюдения; 0,3 ПДК сг ), а бензола – 0,0025 ± 0,0004 мг/м3 ( р < 0,0001 к группе наблюдения; 0,5 ПДК сг ).
Критерии включения детей в группы исследования: наличие полноценной и своевременно выполненной вакцинации / ревакцинации против кори, коклюша и дифтерии вакцинами, разрешенными к применению в рамках действующих нормативных документов5 (отклонения от рекомендуемого графика вакцинаций не превышали 3 месяцев); возраст 6–17 лет; постоянное проживание по месту прописки не менее 3 лет; отсутствие хронических соматических заболеваний в стадии декомпенсации или острых респираторных заболеваний; наличие письменного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
Критерии исключения детей: наличие в анамнезе документированно подтвержденного случая кори, коклюша или дифтерии; нарушение сроков и кратности вакцинации / ревакцинации; использование бесклеточных вакцин; возраст менее 6 лет или более 17 лет; проживание по месту прописки менее 3 лет; наличие хронических соматических заболеваний в стадии декомпенсации или острых респираторных заболеваний; отсутствие письменного информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
У всех детей выполнено химико-аналитическое исследование биосред (кровь) на содержание металлов (марганец, хром, никель) и ароматических углеводородов (бензол) в соответствии с действующими методическими указаниями в аккредитованных лабораториях на проверенном оборудовании6.
Для оценки напряженности поствакцинального иммунитета методом ИФА выполнено исследование содержания в сыворотке крови специфических антител класса IgG к возбудителю кори, коклюша и дифтерийному анатоксину7. Оценку результатов исследования проводили в соответствии с пороговыми значениями протекции, указанными в приложениях к использованным тест-системам: корь – < 0,12 МЕ/мл – отрицательный результат, 0,12–0,18 МЕ/мл – неопределенный, > 0,18 МЕ/мл – положительный результат; коклюш – < 9 усл. ед. – отрицательный, 9–11 усл. ед. – неопределенный, > 11 усл. ед. – положительный результат; дифтерия – < 0,1 МЕ/мл – отрицательный, 0,1–1,0 МЕ/мл – положительный результат. Для статистической обработки результатов использовалась программа Statistica 10 с приложениями MS-Office. С учетом характера распределения анализируемых переменных, применялись методы параметрической и непараметрической статистики. Результаты статистической обработки лабораторных исследований представляли в виде среднего значения и его ошибки (М ± m) или доли лабораторных проб, имеющих отличия от аналогичного показателя в группе сравнения. Для оценки статистической достоверности (р) отличий применяли t-критерий Стьюдента (t > 2,0) и f-критерий Фишера (F ≥ 3,96) (критерий значимости – р < 0,05)8. Оценку риска и вероятность формирования негативного ответа рассчитывали по классической методике9. Построение причинно-следственных связей осуществляли по принципу: «содержание химического вещества в крови – вероятность снижения напряженности поствакцинального иммунитета».
Результаты и их обсуждение. На территории проживания детей группы наблюдения коэффициент опасности развития негативных эффектов со стороны иммунной системы по хрому достигает настораживающего уровня ( HQ = 1,1), а по бензолу – высокого ( HQ = 3,2); одновременно его величина в отношении негативных эффектов со стороны системы крови соответствует высокому уровню (никель – HQ = 3,6; бензол – HQ = 3,2). В целом для группы наблюдения индекс опасности ( HI ) в отношении иммунной системы составляет 4,3 (настораживающий уровень), а в отношении системы кроветворения – 6,8 (высокий)9.
На территории проживания детей группы сравнения коэффициенты опасности развития негативных эффектов со стороны иммунной системы ( HQ 1 ) и крови ( HQ 2 ) по хрому и никелю не превышают допустимых уровней ( HQ 1 =0,17–0,5; HQ 2 = 0,5–1,0), при этом индекс опасности в отношении иммунной системы не превышает минимального уровня ( HI = 0,67), а в отношении крови – допустимого ( HI = 1,5).
Таблица 1
Содержание химических веществ в крови детей исследуемых групп, мкг/см3
|
Химическое вещество |
Референтный уровень (Н. Тиц, 2003) |
Группа наблюдения ( n = 417) |
Группа сравнения ( n = 196) |
Достоверность межгрупповых различий, ( р < 0,05) |
|
|
с группой сравнения |
с референтным уровнем |
||||
|
Марганец |
0,0130 |
0,0210 ± 0,0012 |
0,0129 ± 0,0011 |
< 0,0001 |
< 0,0001 |
|
Хром |
0,0027 |
0,0061 ± 0,0008 |
0,0026 ± 0,0003 |
< 0,0001 |
< 0,0001 |
|
Никель |
0,0023 |
0,0057 ± 0,0007 |
0,0033 ± 0,0005 |
0,001 |
< 0,0001 |
|
Бензол |
0 |
0,00072 ± 0,0002 |
0,00057 ± 0,0002 |
0,04 |
< 0,0001 |
|
Толуол |
0 |
0,00014 ± 0,00003 |
0,00007 ± 0,00002 |
0,34 |
0,0001 |
Таблица 2
Количество детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета к кори в исследуемых группах, %
|
Параметр |
Возраст, лет |
Достоверность различий, р < 0,05 |
|||||
|
6–17 |
6–9 |
10–13 |
14–17 |
||||
|
Группа наблюдения |
n = 417 |
n = 151 |
n = 148 |
n = 118 |
р 1 |
р 2 |
р 3 |
|
Отсутствие протективного уровня (< 0,12 МЕ/мл) |
19,9 |
6,6 |
19,6 |
29,7 |
0,001 |
0,05 |
0,000 |
|
Неопределенный уровень (0,12–0,18 МЕ/мл) |
8,4 |
3,3 |
11,5 |
9,3 |
0,007 |
0,56 |
0,04 |
|
Протективный уровень (> 0,18 МЕ/мл) |
71,7 |
90,1 |
68,9 |
61,0 |
0,000 |
0,05 |
0,000 |
|
Из них высокий протективный уровень (> 1,0 МЕ/мл) |
19,1 |
38,2 |
21,6 |
13,9 |
0,002 |
0,11 |
0,000 |
|
Группа сравнения |
n = 196 |
n = 68 |
n = 72 |
n = 56 |
р 1 |
р 2 |
р 3 |
|
Отсутствие протективного уровня (< 0,12 МЕ/мл) |
7,7 |
2,9 |
6,9 |
12,5 |
0,27 |
0,28 |
0,04 |
|
Неопределенный уровень (0,12–0,18 МЕ/мл) |
5,5 |
2,9 |
8,3 |
8,9 |
0,17 |
0,90 |
0,15 |
|
Протективный уровень (> 0,18 МЕ/мл) |
86,8 |
94,2 |
84,8 |
78,6 |
0,07 |
0,36 |
0,01 |
|
Из них высокий протективный уровень (> 1,0 МЕ/мл) |
27,9 |
51,6 |
39,3 |
27,8 |
0,14 |
0,17 |
0,007 |
Примечание: р 1 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 6–9 и 10–13 лет; р 2 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 10–13 и 14–17 лет; р 3 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 6–9 и 14–17 лет.
Результаты химико-аналитического исследования показали достоверное превышение в 1,6–2,5 раза содержания химических веществ в крови детей группы наблюдения относительно референтных значений ( р ≤ 0,0001) (табл. 1). Кроме того, содержание марганца в 1,6 раза превышало показатель группы сравнения ( р < 0,0001), хрома – в 2,4 раза ( р < 0,0001), никеля – в 1,7 ( р = 0,001), бензола – в 1,3 ( р = 0,04), а уровень толуола не имел межгрупповых различий ( р = 0,34). В группе сравнения содержание марганца, хрома и никеля не отличалось от референтных значений ( р = 0,23–0,99). Доли проб с содержанием химических веществ в крови выше референтных значений в группе наблюдения были выше аналогичных в группе сравнения и составляли: по марганцу – 49,6 % (в группе сравнения – 25,2 %, р < 0,0001), хрому – 78,1 % (против 16,8 %, р < 0,0001), никелю – 74,3 % (против 38,8 %, р < 0,0001), бензолу – 52,4 % (против 31,1 %, р < 0,0001), толуолу – 66,3 % (против 46,8 %, р < 0,0001).
В группе наблюдения у детей в возрасте 6–17 лет среднегрупповое содержание противокоревых антител достигало 0,71 ± 0,04 МЕ/мл и превышало про-тективный уровень (0,18 ± 0,00 МЕ/мл, р < 0,001). В то же время сравнительный анализ возрастной динамики этого показателя продемонстрировал его существенное снижение по мере взросления школьников:
если в возрасте 6–9 лет среднегрупповое содержание противокоревых антител составляло 1,12 ± 0,13 МЕ/мл, то в 10–13 лет – только 0,59 ± 0,10 МЕ/мл (в 1,9 раза ниже, чем у младших школьников, р = 0,0001), а в 14–17 лет – 0,42 ± 0,12 МЕ/мл (в 2,7 раза ниже, чем у младших школьников, р < 0,0001). Изучение индивидуальных показателей позволило установить, что только 71,7 % школьников группы наблюдения в возрасте 6–17 лет имели протективный уровень содержания поствакцинальных противокоревых JgG, что недостаточно для создания прочного коллективного иммунитета (не менее 95–98 %) [1, 6]. Согласно результатам исследования, среди учащихся средних общеобразовательных учреждений с повышенным содержанием металлов и ароматических углеводородов в крови, имеющих полноценную и своевременную вакцинацию, не защищены против кори 19,9 % лиц, а 8,4 % имеют неопределенный титр антител и подлежат повторной ревакцинации (табл. 2).
У школьников группы наблюдения показатель частоты нарушений формирования специфического иммунитета к кори существенно отличался в различных возрастных группах. Если в 6–9 лет доля лиц с защитным уровнем антител достигала 90,1 %, то у 10–13-летних – составляла только 68,9 % (р = 0,0001), а у подростков – 61,0 % (р = 0,0001). В группе наблюдения вероятность снижения числа детей с протективным уровнем поствакцинальных противокоревых JgG к 10–13 годам увеличивалась более чем в 4 раза (OR = 4,1; DI = 2,16–7,73), а к 14–17 годам – в 5,8 раза (OR = 5,8; DI = 3,03–11,09). Следует отметить, что наиболее часто лица с высокими показателями серопротекции, обеспечивающими долговременную поствакцинальную защиту, выявлялись также среди младшей возрастной группы (38,2 %), что достоверно превышало показатель 10–13-летних школьников (21,6 %, р = 0,002) и подростков (13,9 %, р = 0,0001). Вероятность снижения числа детей с высоким уровнем серопротекции к 10–13 годам увеличивалась в 2,3 раза (OR = 2,3; DI = 1,36–3,77), а к 14–17 годам – в 4 раза (OR = 3,98; DI = 2,14–7,40) относительно младших школьников. В целом у школьников с повышенным содержанием химических веществ в крови к 14–17 годам вероятность увеличения числа детей с содержанием поствакцинальных противокоревых антител ниже про-тективного уровня увеличивается в 5,8 раза, а количество защищенных от кори детей снижается на треть относительно младших школьников (90,1 % – в 6–9 лет против 61,0 % – в 14–17 лет, р < 0,0001), при этом число незащищенных лиц, требующих бустерной вакцинации, увеличивается в 3,9 раза (9,9 % – в 6–9 лет против 39,0 % – в 14–17 лет, р < 0,0001) (табл. 2).
Среднегрупповое содержание противокоревых JgG у детей группы сравнения (6–17 лет) составляло 0,98 ± 0,01 МЕ/мл, что достоверно превышало показатель группы наблюдения (0,71 ± 0,04 МЕ/мл, р < 0,0001). Анализ их возрастной динамики также выявил снижение этого показателя по мере взросления детей: если в 6–9 лет он составлял 1,38 ± 0,04 МЕ/мл (в группе наблюдения – 1,12 ± 0,13 МЕ/мл, р = 0,0001), то в 10–13 лет – 0,87 ± 0,11 МЕ/мл (в группе наблюдения – 0,59 ± 0,10 МЕ/мл, р = 0,0002), а в 14–17 лет – 0,71 ± 0,03 МЕ/мл (в группе наблюдения – 0,42 ± 0,12 МЕ/мл, р < 0,0001), однако во всех возрастных группах оставался выше данных группы наблюдения: в 1,2–1,5 раза – в 6–9 лет и 10–13 лет соответственно, и 1,7 раза – в 14–17 лет. В ходе изучения индивидуальных показателей содержания поствакцинальных противокоревых JgG установлено, что только 86,8 % школьников группы сравнения в возрасте 6–17 лет имели защитный уровень специфических антител (в группе наблюдения – 71,7 %, р < 0,0001), не защищены против кори 7,7 % школьников (в группе наблюдения – 19,9 %, р < 0,0001), а 5,5 % имеют неопределенный титр антител (в группе наблюдения – 8,4 %, р = 0,20) (см. табл. 2).
Дальнейшее исследование позволило установить, что у детей в возрасте 6–17 лет с повышенным содержанием в крови химических веществ вероятность формирования недостаточной поствакцинальной защищенности от кори в 3,0 раза выше, чем в группе сравнения (OR = 3,0; DI = 1,68–5,31). Кроме того, следует отметить, что достоверное снижение числа детей с достаточной напряженностью поствакцинального иммунитета в группе сравнения формируется только к 14–17 годам (р = 0,01), в то время как в группе наблюдения – уже к 10–13 годам (р = 0,0001) (см. табл. 2). В ходе математического моделирования установлена причинно-следственная связь снижения содержания поствакцинальных JgG к возбудителю кори с увеличением содержания в крови бензола (R2 = 0,26; b0 = -3,10; b1 = 32,50; р < 0,001) и марганца (R2 = 0,19; b0 = -1,19; b1 = 39,59; р < 0,001).
Таким образом, у школьников 6–17 лет с полноценно выполненной вакцинацией / ревакцинацией против кори повышенное содержание в крови марганца и бензола увеличивает вероятность формирования недостаточной поствакцинальной защищенности в 3,0 раза; уже к 10–13-летнему возрасту достоверно снижает в 1,3 раза число защищенных лиц, а к 14–17 годам повышает вероятность увеличения числа детей с концентрацией антител ниже протек-тивного уровня в 5,8 раза относительно младших школьников. В различные возрастные периоды у детей с повышенным уровнем марганца и бензола в крови абсолютное содержание противокоревых JgG в 1,2–1,7 раза ниже данных группы сравнения.
При исследовании напряженности антитоксического иммунитета к дифтерии у школьников 6–17 лет группы наблюдения защитный уровень антител выявлен у 94,0 % детей, что приближается к критерию эпидемиологического благополучия (95 %, р = 0,89). Кроме того, следует отметить, что в каждом третьем случае (27,8 %) содержание антитоксических JgG к дифтерии в группе наблюдения превышало 1,0 МЕ/мл (протективный уровень – 0,1–1,0 МЕ/мл), что свидетельствует о наличии достаточного уровня защиты (табл. 3).
Абсолютные показатели среднегруппового содержания поствакцинальных антитоксических JgG во все обследованные возрастные периоды соответствовали протективному уровню и составляли: 6–9 лет – 0,54 ± 0,03 МЕ/мл; 10–13 лет – 0,33 ± 0,01 МЕ/мл; 14–17 лет – 0,76 ± 0,02 МЕ/мл. Однако их сопоставление между собой позволило установить наличие колебаний абсолютных значений показателя: у детей в возрасте 6–9 лет содержание поствакцинальных антитоксических JgG к дифтерии в 1,6 раза ( р < 0,0001) превышало показатель 10–13-летних, а показатель последних был в 2,3 раза ниже ( р < 0,0001), чем у подростков в 14–17 лет. Анализ результатов исследования детей в возрасте 6–9 лет показал отсутствие надежной защиты от дифтерии у 9,3 % из них, и это максимальный показатель во все изученные возрастные периоды детей группы наблюдения (10–13 лет – 6,1 %, р = 0,30; 14–17 лет – 2,5 %, р = 0,07). Установлено, что вероятность отсутствия защиты от дифтерии у младших школьников группы наблюдения в 4 раза выше, чем у подростков ( OR = 3,92, DI = 1,10–13,97). В средней возрастной группе (10–13 лет) не только снижается уровень
Таблица 3
Количество детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета к дифтерии в исследуемых группах, %
|
Параметр |
Возраст, лет |
Достоверность межгрупповых различий, р < 0,05 |
|||||
|
6–17 |
6–9 |
10–13 |
14–17 |
||||
|
Группа наблюдения |
n = 417 |
n = 151 |
n = 148 |
n = 118 |
р 1 |
р 2 |
р 3 |
|
Отсутствие протективного уровня (< 0,1 МЕ/мл) |
6,0 |
9,3 |
6,1 |
2,5 |
0,30 |
0,07 |
0,01 |
|
Протективный уровень (0,1–1,0 МЕ/мл) |
66,2 |
53,6 |
75,0 |
43,3 |
0,000 |
0,000 |
0,12 |
|
Высокий протективный уровень (≥ 1,0 МЕ/мл) |
27,8 |
37,1 |
18,9 |
54,2 |
0,000 |
0,000 |
0,005 |
|
Группа сравнения |
n = 196 |
n = 68 |
n = 72 |
n = 56 |
р 1 |
р 2 |
р 3 |
|
Отсутствие протективного уровня (< 0,1 МЕ/мл) |
3,1 |
5,9 |
5,6 |
1,7 |
0,94 |
0,26 |
0,24 |
|
Протективный уровень (0,1–1,0 МЕ/мл) |
52,1 |
50,0 |
70,6 |
32,1 |
0,000 |
0,000 |
0,04 |
|
Высокий протективный уровень (≥ 1,0 МЕ/мл) |
44,8 |
44,1 |
23,8 |
66,2 |
0,000 |
0,000 |
0,01 |
Примечание: р 1 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 6–9 и 10–13 лет; р 2 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 10–13 и 14–17 лет; р 3 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 6–9 и 14–17 лет.
антитоксических JgG, но и в 2 раза сокращается число детей с высоким уровнем их содержания (18,9 против 37,1 % в 6–9 лет, р < 0,0001). Наиболее благоприятная ситуация с состоянием противодифтерийной защиты прослеживается у подростков: отсутствие защиты регистрируется как исключение (2,5 %), а каждый второй (54,2 %) имеет высокий уровень содержания антитоксических JgG (см. табл. 3).
В группе сравнения у школьников 6–17 лет защитный уровень JgG установлен в 96,9 % случаев, что не имеет отличий от группы наблюдения (94,0 %, р = 0,12), однако количество детей с высоким содержанием антитоксических антител в 1,6 раза превышает показатель группы наблюдения (44,8 против 27,8 %, р < 0,0001), (ОR = 2,1; DI = 1,44–3,01) (см. табл. 3). Абсолютные значения среднегруппового уровня поствакцинальных антитоксических JgG к дифтерии у детей группы сравнения во все обследованные возрастные периоды также соответствовали протективному уровню и составляли: в 6–9 лет – 0,69 ± 0,01 МЕ/мл (против 0,54 ± 0,03 МЕ/мл в группе наблюдения, р < 0,001); в 10–13 лет – 0,58 ± 0,02 МЕ/мл (против 0,33 ± 0,01 МЕ/мл, р < 0,001); в 14–17 лет – 0,91 ± 0,02 МЕ/мл (против 0,76 ± 0,02 МЕ/мл, р < 0,001), при этом в 1,2–1,8 раза были выше показателей группы наблюдения. У детей этой группы также имели место колебания абсолютных среднегрупповых значений содержания антитоксических JgG, как и в группе наблюдения: уровень антител в 6–9 лет был в 1,2 раза выше аналогичного в 10–13 лет (р < 0,001), а последний – в 1,6 раза ниже (р < 0,0001), чем у подростков в 14–17 лет, однако эти колебания были менее выражены, чем в группе наблюдения (в 1,6 и 2,3 раза соответственно). В группе сравнения у детей в возрасте 6–9 лет отсутствие защиты от дифтерии выявлено у 5,9 % (в группе наблюдения – у 9,3 %, р = 0,39), что статистически не отличалось от других возрастных периодов (10–13 лет – 5,6 %, р = 0,94; 14–17 лет – 1,7 %, р = 0,24) (см. табл. 3). Кроме того, у школьников 10–13 и 14–17 лет группы сравнения соотношение числа лиц с разным уровнем серопротекции не отличалось от аналогичных показателей группы наблюдения (р = 0,13–0,40).
В ходе математического моделирования установлена причинно-следственная связь снижения содержания антитоксических JgG к дифтерии с увеличением содержания в крови марганца ( R 2 = 0,40; b 0 = -4,45; b 1 = 125,50; р < 0,001), никеля ( R 2 =0,78; b 0 = -4,19; b 1 = 302,60; р < 0,001) и хрома ( R 2 = 0,13; b 0 = -2,95; b 1 = 85,22; р < 0,001).
Таким образом, повышенное содержание в крови химических веществ оказывает менее выраженное влияние на напряженность поствакцинального иммунитета к дифтерии, чем к кори. В то же время присутствие в крови повышенных концентраций марганца, никеля и хрома в 4 раза повышает вероятность отсутствия защиты от дифтерии у младших школьников относительно подростков и снижает абсолютное содержание антител в различные возрастные периоды в 1,6–2,3 раза.
В результате исследования состояния специфического иммунитета к коклюшу у школьников 6–17 лет группы наблюдения установлено, что среднегрупповой уровень специфических JgG достигал 16,86 ± 1,13 усл. ед. и превышал протективный уровень ( > 11 усл. ед., р < 0,0001). Однако анализ повозрастной динамики этого показателя (6–9 лет – 13,38 ± 1,04 усл. ед.; 10–13 лет – 17,43 ± 1,12 усл. ед.; 14–17 лет – 19,87 ± 1,28 усл. ед.) выявил иную динамику содержания специфических антител к коклюшу, чем при кори и дифтерии. С увеличением возраста школьников среднегрупповой уровень противококлюшных JgG постоянно нарастал: если у детей в возрасте 10–13 лет содержание антител в 1,3 раза превышало показатель младших школьников (р < 0,0001), то у подростков – уже в 1,5 раза (р < 0,0001). Изучение индивидуальных показателей содержания специфических JgG позволило установить, что только у 50,1 % школьников группы наблюдения в возрасте 6–17 лет их уровень достигал протективного, что не обеспечивает надежной по- пуляционной защиты. Кроме того, среди учащихся средних общеобразовательных учреждений в возрасте 6–17 лет, имеющих повышенное содержание металлов и ароматических углеводородов в крови и привитых в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, не защищены от коклюша 35,3 % лиц, а 14,6 % имеют неопределенный титр специфических JgG (табл. 4).
Среди детей 6–9 лет группы наблюдения доля лиц с защитным уровнем антител составляла только 43,1 %, к 10–13 годам она увеличивалась в 1,3 раза (54,8 %, р = 0,043), а у подростков – в 1,4 раза (61,8 %, р = 0,002) относительно младших школьников (см. табл. 4). В целом вероятность увеличения числа школьников с высоким уровнем JgG к коклюшу к 14–17 годам возрастает более чем в 2 раза ( OR = 2,15; DI = 1,31–3,51). Следует отметить, что максимальное число незащищенных от коклюша школьников с повышенным содержанием химических веществ в крови установлено в возрасте 6–9 лет, что в 1,5 раза больше, чем у подростков (56,9 против 38,2 %, р = 0,002), однако и в 14–17 лет порядка 38,2 % учащихся средних общеобразовательных учреждений этой группы не имеет надежной защиты от коклюша.
Среднегрупповое содержание специфических JgG к коклюшу у детей группы сравнения (6–17 лет) составляло 21,88 ± 1,11 усл. ед., что выше протек-тивного уровня и в 1,3 раза превышает показатель группы наблюдения (16,86 ± 1,13 усл. ед., р < 0,0001). Динамический анализ их содержания у школьников различного возраста также выявил повышение уровня специфических JgG к коклюшу по мере взросления детей: если в 6–9 лет среднегрупповое содержание JgG к коклюшу составляло 18,08 ± 1,19 усл. ед. (в группе наблюдения – 13,38 ± 1,04 усл. ед., р = 0,0001), то в 10–13 лет – 21,87 ± 0,67 усл. ед. (в группе наблюдения – 17,43 ± 1,12 усл. ед., р = 0,0001), а в 14–17 лет – 25,74 ± 1,43 усл. ед. (в группе наблюдения – 19,87 ± 1,28 усл. ед., р < 0,0001) и во всех возрастных группах превышало в 1,3–1,4 раза показатели группы наблюдения. Анализ индивидуальных значений содержания специфических JgG к коклюшу показал, что лишь 63,6 % школьников группы сравнения в возрасте 6–17 лет имели протективный уровень специфических JgG (в группе наблюдения – 50,1 %, р = 0,002), что также недостаточно для создания условий эпидемиологического благополучия; в то же время в группе наблюдения вероятность нарушения противококлюшного иммунитета в 1,8 раза выше, чем в группе сравнения (OR = 1,77; DI = 1,25–2,51) (см. табл. 4).
У детей 6–9 лет группы сравнения доля лиц с защитным уровнем антител к коклюшу составляла 52,9 % (против 43,1 % в группе наблюдения, р = 0,18), к 10–13 годам она достигала 64,7 % (против 54,8 % в группе наблюдения, р = 0,16), а у подростков – 73,3 % (против 61,8 % в группе наблюдения, р = 0,14). Вероятность увеличения числа школьников с протективным уровнем противококлюшных антител к 14–17 годам в группе сравнения увеличивалась в 2,4 раза ( OR = 2,43; DI = 1,14–5,19). Как и в группе наблюдения, максимальное число незащищенных от коклюша в группе сравнения приходится на возраст 6–9 лет (47,1 против 56,9 % в группе наблюдения, р = 0,18), но и в подростковом периоде каждый четвертый школьник не имел должной защиты от коклюша (26,7 против 38,2 % в группе наблюдения, р = 0,14). Установлена причинно-следственная связь снижения содержания специфических JgG к коклюшу с увеличением содержания в крови марганца ( R 2 = 0,19; b 0 = -1,19; b 1 = 39,59; р < 0,001).
Таким образом, 49,9 % школьников с повышенным содержанием марганца в крови в возрасте 6–17 лет не имеют должного уровня защиты от коклюша и вероятность нарушения специфического иммунитета у этих детей в 1,8 раза выше, чем в группе сравнения; максимальное число незащищенных лиц (56,9 %) характерно для младшего школьного возраста (6–9 лет), однако и в подростковом
Таблица 4
Количество детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета к коклюшу в исследуемых группах, %
|
Параметр |
Возраст, лет |
Достоверность межгрупповых различий, р < 0,05 |
|||||
|
6–17 |
6–9 |
10–13 |
14–17 |
||||
|
Группа наблюдения |
n = 417 |
n = 151 |
n = 148 |
n = 118 |
р 1 |
р 2 |
р 3 |
|
Отсутствие протективного уровня (< 9 усл. ед. ) |
35,3 |
39,7 |
32,4 |
28,0 |
0,19 |
0,44 |
0,05 |
|
Неопределенный уровень (9–11 усл. ед. ) |
14,6 |
17,2 |
12,8 |
10,2 |
0,29 |
0,51 |
0,10 |
|
Протективный уровень (> 11 усл. ед. ) |
50,1 |
43,1 |
54,8 |
61,8 |
0,04 |
0,25 |
0,002 |
|
Группа сравнения |
n = 196 |
n = 68 |
n = 72 |
n = 56 |
р 1 |
р 2 |
р 3 |
|
Отсутствие протективного уровня (< 9 усл. ед. ), |
26,7 |
33,9 |
26,5 |
19,6 |
0,34 |
0,36 |
0,08 |
|
Неопределенный уровень (9–11 усл. ед. ) |
9,7 |
13,2 |
8,8 |
7,1 |
0,40 |
0,73 |
0,27 |
|
Протективный уровень (> 11 усл. ед. ) |
63,6 |
52,9 |
64,7 |
73,3 |
0,16 |
0,30 |
0,02 |
Примечание: р 1 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 6–9 и 10–13 лет; р 2 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 10–13 и 14–17 лет; р 3 – число детей с различной напряженностью поствакцинального иммунитета у школьников 6–9 и 14–17 лет.
периоде до 38,2 % школьников не имеют должной защиты от коклюша; присутствие в крови повышенных концентраций марганца снижает абсолютное содержание антител в различные возрастные периоды в 1,3–1,4 раза.
Формирование защиты на уровне 95–98 % детской популяции с протективными уровнями поствакцинальных специфических антител от инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилакти-ки (корь, дифтерия и коклюш), является наиболее надежным и экономически оправданным подходом к сохранению эпидемиологического благополучия. Поиск и устранение причин «вакцинальных неудач» [24] – отсутствия / недостаточного уровня поствакцинального иммунитета или быстрой его утраты – одно из наиболее перспективных направлений решения проблемы. В настоящее время среди различных причин, лежащих в основе нарушений формирования поствакцинального иммунитета, большое значение придается качеству и уровню безопасности среды обитания для здоровья населения и, прежде всего, химическому загрязнению объектов окружающей среды, формирующему иммунологическую толерантность к вакцинальным антигенам [28–32].
Результаты исследования показали, что даже в условиях относительного санитарно-гигиенического благополучия среды обитания, когда индекс опасности неблагоприятных эффектов со стороны иммунной системы и крови в связи с экзогенным воздействием металлов и ароматических углеводородов соответствует минимальному или допустимому ( HI = 0,67–1,5), адекватный уровень напряженности поствакцинального иммунитета к кори сохраняется только у младших школьников (6–9 лет – 94,2 %) в течение 1–3 лет после плановой ревакцинации в 6-летнем возрасте. В условиях отсутствия последующих ревакцинаций на каждой очередной ступени образования (школьники среднего возраста и старшеклассники) число лиц с протективным уровнем специфического иммунитета сокращается на 6–10 %, и в 14–17 лет каждый пятый школьник не имеет адекватной защиты от вируса кори. Полученные данные совпадают с результатами исследований других авторов [26] и позволяют обосновать предложение о внесении поправок в Национальный календарь профилактических прививок, заключающихся в проведении оценки уровня серопротекции к кори у школьников 14–17 лет и выполнении дополнительной ревакцинации у незащищенных лиц.
Согласно результатам настоящего исследования, у детей, проживающих в условиях санитарногигиенического неблагополучия среды обитания, когда индекс опасности неблагоприятных эффектов со стороны иммунной системы и крови в связи с экзогенным воздействием металлов и ароматических углеводородов достигает настораживающего или высокого уровня (HI = 4,3–6,8), проблема недостаточного уровня защищенности от кори приобретает особую значимость. Присутствие в крови детей повышенного содержания металлов (марганец) и ароматических углеводородов (бензол) снижает в различные возрастные периоды в 1,2–1,7 раза абсолютное содержание поствакцинальных JgG к вирусу кори и увеличивает вероятность формирования низкой серопротекции в 3 раза. Даже среди младших школьников адекватный уровень защищенности имеют только 90,1 % детей, к 10–13-летнему возрасту число защищенных лиц сокращается на 30 %, к 14–17 годам вероятность увеличения этой когорты повышается относительно младших школьников в 5,8 раза, а вероятность снижения числа детей с высоким уровнем серопротекции – в 4 раза. Причиной более низких показателей серопротекции у детей с повышенным содержанием в крови марганца и бензола является иммунотропное влияние соединений, ориентированное на дезорганизацию и подавление основных этапов синтеза специфических JgG: снижение абсолютного содержания и функциональной активности фагоцитирующих клеток – пускового звена идентификации вакцинных антигенов; угнетение Т-лимфоцитов, осуществляющих передачу информации в популяции иммунокомпетентных клеток, а также стимулирующих пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов; ингибирование функциональной активности В-лимфо-цитов – продуцентов иммуноглобулинов на фоне оксидативного стресса и нарушения энергетического обмена клеток [33–35]. Совокупность полученных данных позволяет высказать предложение о введении на территориях санитарно-гигиенического неблагополучия по содержанию металлов и ароматических углеводородов в объектах окружающей среды дополнительных мероприятий программы вакцинопрофилактики: выполнение оценки уровня серопротекции к кори у школьников начиная с 10-летнего возраста (средняя ступень обучения) для идентификации серонегативных лиц и последующей их ревакцинации на фоне медико-профилактических технологий коррекции негативных эффектов, связанных с воздействием химических факторов.
Результаты изучения напряженности антитоксического иммунитета к дифтерии показали наличие удовлетворительного уровня поствакцинального иммунитета (0,58 ± 0,02 – 0,91 ± 0,02 МЕд/мл) у 96,9 % школьников 6–17 лет, проживающих на территории относительного санитарно-гигиенического благополучия. Волнообразный характер изменения абсолютного содержания поствакцинальных антитоксических JgG у детей различного возраста совпадал с графиком ревакцинаций. Проведение первой ревакцинации в 6 лет и второй в 14 лет сопровождалось более высокими значениями антитоксических JgG у школьников младшей (0,69 ± 0,01 МЕд/мл) и старшей (0,91 ± 0,02 МЕд/мл) ступени обучения относительно 10–13-летних детей (0,58 ± 0,02 МЕд/мл – группа сравнения). В то же время даже у школьников средней ступени обучения абсолютное содержание поствакцинальных антитоксических JgG соответствовало протективно-му, что совпадает с исследованиями других авторов [3, 16, 17] и позволяет считать действующую программу вакцинопрофилактики дифтерии адекватной у этого контингента детей.
Оценка состояния поствакцинального иммунитета к возбудителю дифтерии у детей с повышенным содержанием в крови марганца, никеля и хрома выявила достаточный уровень абсолютного содержания специфических JgG у 94,0 % детей 6–17 лет (0,33 ± 0,01 – 0,76 ± 0,02 МЕд/мл), возрастные колебания которого также совпадали с графиком плановых ревакцинаций, однако абсолютные значения были в 1,2–1,8 раза ниже аналогичных в группе сравнения ( р < 0,001). Присутствие химических веществ в крови, в 1,6–2,5 раза превышающих RfC , снижало вероятность развития высоких показателей поствакцинального иммунитета в 3,0 раза, при этом наиболее уязвимыми к возбудителю дифтерии являлись младшие школьники, 9,3 % из которых не имели адекватной защиты. Выявленные особенности развития поствакцинального иммунитета у детей с повышенным содержанием в крови марганца, никеля и хрома обусловлены иммунотоксическим действием металлов со снижением продукции Т-регуляторных клеток СД4+СД127-, СД3+СД25+, СД3+СД95+, транскрипционного фактора, регулирующего клеточный цикл – р53 и развитием реакций сенсибилизации с частичным переключением гуморального иммунитета на синтез специфических JgE [35, 36].
Менее выраженные нарушения поствакцинального иммунитета к возбудителю дифтерии относительно кори связаны, скорее всего, с регулярно осуществляемыми ревакцинациями, что позволяет сохранять должный уровень специфических JgG у большинства детей и подростков. На территориях санитарно-гигиенического неблагополучия по загрязнению объектов среды обитания металлами для выявления среди младших школьников лиц с недостаточным / отсутствующим уровнем серопротекции к возбудителю дифтерии целесообразно осуществлять серологический мониторинг через год после второй ревакцинации с последующим дополнительным введением вакцины незащищенным лицам.
Согласно Национальному календарю профилактических прививок, ревакцинация от коклюша проводится детям в возрасте 1,5–2 лет; последующие ревакцинации календарь не предусматривает. Комбинированная бесклеточная вакцина «Адасель» (производство Sanofi Pasteurs, Limited, Канада) и отечественные многокомпонентные ацеллюлярные вакцины, ревакцинации которыми могли бы быть осуществлены в 4–6 и 11–17 лет жизни ребенка, до настоящего времени не нашли в РФ широкого применения [37].
Несмотря на то что всем обследованным последняя ревакцинация от коклюша была проведена в декретированные сроки, абсолютное содержание специфических антител у детей 6–17 лет, проживающих в условиях санитарно-гигиенического бла- гополучия, в 2 раза превышало протективный уровень, однако общее число защищенных лиц составляло только 63,6 %. Анализ динамики возрастных показателей специфического иммунитета выявил нарастание в 1,4 раза абсолютного содержания специфических JgG в период от младшего школьного до подросткового возраста, при этом число лиц, имеющих протективный уровень антител, увеличивалось на 20,4 %.
У детей, проживающих в условиях санитарногигиенического неблагополучия объектов окружающей среды и имеющих повышенное содержание марганца в крови, прослеживалась аналогичная динамика специфических антител и числа защищенных лиц, однако их показатели в любом возрасте были в 1,2–1,4 раза ниже группы сравнения, а вероятность формирования нарушений специфического иммунитета – в 1,8 раза выше.
Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии защитного уровня антител к возбудителю коклюша практически у каждого второго младшего школьника обследованных групп и циркуляции возбудителя в детской популяции с развитием недиагностированных случаев заболевания, что подтверждает необходимость введения повторных ревакцинаций от коклюша детям в возрасте 4–6 лет и подросткам в 14–17 лет. Более низкие показатели серопротекции у детей с повышенным содержанием марганца в крови являются основанием для проведения ревакцинаций на фоне специализированных технологий коррекции негативного воздействия химического вещества на иммунную систему.
Выводы:
-
1. Присутствие в атмосферном воздухе металлов (марганец, хром, никель) и ароматических углеводородов (бензол) на уровне 1,0–13,8 ПДК сг формирует коэффициент опасности развития негативных эффектов со стороны иммунной системы на настораживающе высоком уровне ( HQ хром = 1,1; HQ бензол = 3,2), а со стороны системы крови – высоком ( HQ Ni =3,6; HQ бензол = 3,2), при этом индекс опасности в отношении иммунной системы достигает настораживающих ( HI = 4,3), а в отношении крови – высоких ( HI = 6,8) значений.
-
2. Установлена прямая связь нарушений формирования поствакцинального иммунитета к кори с повышенным содержанием в крови марганца и бензола ( R 2 = 0,19–0,26; b 0 = (-1,19) – (-3,10); b 1 = 32,50–39,59; р < 0,001); к дифтерии – с марганцем, хромом и никелем ( R 2 =0,13–0,78; b 0 = (-2,95) – (-4,19); b 1 = 85,22–302,60; р < 0,001; к коклюшу – с повышенным содержанием в крови марганца ( R 2= 0,19; b 0 = -1,19; b 1 = 39,59; р < 0,001).
-
3. Присутствие металлов (марганец, хром, никель) и ароматических углеводородов (бензол), в 1,6–2,5 раза превышающих RfC , увеличивает в 3 раза вероятность развития нарушений поствакцинального иммунитета к возбудителю кори ( OR = 3,0; DI = 1,68–5,31), в 1,8 раза – к возбудителю коклюша
-
4. Для повышения эффективности вакцино-профилактики кори у детей территорий санитарногигиенического неблагополучия по загрязнению объектов среды обитания металлами (марганец) и ароматическими углеводородами (бензол) необходима оценка уровня серопротекции у школьников, начиная с 10-летнего возраста, с целью идентификации серонегативных лиц и последующей их ревакцинации на фоне медико-профилактических технологий коррекции негативных эффектов, связанных с воздействием химических факторов.
-
5. На территориях санитарно-гигиенического неблагополучия по загрязнению объектов среды обитания металлами (марганец, хром, никель) для выявле-
- ния лиц с недостаточным / отсутствующим уровнем серопротекции к возбудителю дифтерии целесообразно осуществлять серологический мониторинг через год после второй ревакцинации с последующим дополнительным введением вакцины незащищенным лицам.
-
6. Для повышения эффективности вакцино-профилактики коклюша всем детям необходимо введение повторных ревакцинаций в возрасте 4–6 и 14–17 лет, дополненной на территориях с загрязнением объектов среды обитания марганцем технологиями коррекции негативного воздействия химического вещества на иммунную систему.
( OR = 1,77; DI = 1,25–2,51), в 4 раза – низкой серо-протекции у младших школьников к возбудителю дифтерии ( OR = 3,92, DI = 1,10–13,97).
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Список литературы Риск снижения напряженности поствакцинального иммунитета к кори, дифтерии и коклюшу у детского населения в условиях аэрогенной экспозиции металлами и ароматическими углеводородами
- Определение типа иммунного ответа у больных корью разного возраста на территории с высокой заболеваемостью / Т.А. Мамаева, Т.С. Рубальская, П.Е. Жердева, В.А. Метельская, А.П. Топтыгина // Российский иммунологический журнал. - 2024. - Т. 27, № 1. - С. 49-58. DOI: 10.46235/1028-7221-16572-Э0Т
- Коклюш: аспекты патогенеза и поствакцинального иммунитета у детей / А.Б. Ершевская, А.А. Иванова, Г.А. Антропова, Ж.А. Тойиров // Вестник Новгородского государственного университета. - 2024. - № 2 (136). -С. 247-255. DOI: 10.34680/2076-8052.2024.2 (136).247-255
- Состояние поствакцинального иммунитета к дифтерии и столбняку у населения Кыргызской Республики / М.С. Ниязалиева, В.С. Тойгомбаев, Г.А. Джумалиева, И.Ш. Альджамбаева // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2021. - Т. 29, № 4. - С. 988-991. DOI: 10.32687/0869-866Х-2020-29-4-988-991
- Заболеваемость корью в России и за рубежом: причины и тенденции / М.А. Димитриева, А.С. Михайлова, А.А. Степенова, Т.А. Анисимова // Наукосфера. - 2024. - № 5-1. - С. 94-97. DOI: 10.5281/zenodo.Ш88933
- Актуальность серологического мониторинга антитоксического иммунитета к дифтерии / Н.Н. Шершнёва, П.С. Колесников, П.В. Самосадова, Я.В. Мишуткина, С.Г. Марданлы // Поликлиника. - 2022. - № 4. - С. 47-50.
- Сравнительный анализ показателей привитости и охвата иммунизацией детского населения на территории федеральных округов Российской Федерации / П.Р. Гринчик, Л.С. Намазова-Баранова, М.В. Федосеенко, А.А. Гирина, С.В. Ковалёв, А.В. Мазоха, Е.Д. Макушина, Е.И. Малинина [и др.] // Педиатрическая фармакология. - 2022. - Т. 19, № 1. - С. 6-19. DOI: 10.15690Zpf.v18i6.2351
- Актуальные проблемы увеличения заболеваемостью корью на территории Российской Федерации и Белгородской области. Проблемы и прогнозы по развитию очагов вспышки заболевания / А.А. Авраменко, М.А. Исаева, С.А. Кушнир, К.А. Садовски, К.А. Бочарова // Флагман науки. - 2023. - № 11 (11). - С. 98-104. DOI: 10.37539/29491991.2023.11.11.019
- Характеристика кори у детей в период подъема заболеваемости в 2019 году / О.В. Молочкова, О.Б. Ковалев, М.А. Косырева, Н.О. Ильина, О.В. Шамшева, Е.Н. Гетманова, А.А. Корсунский, Е.В. Галеева, А.А. Гужавина // Детские инфекции. - 2022. - Т. 21, № 4. - С. 27-31. DOI: 10.22627/2072-8107-2022-21-4-27-31
- Дик Д.А. История изучения кори, краснухи и эпидемического паротита // Флагман науки. - 2023. - № 9 (9). -С. 140-142.
- Эпидемиологические и клинические особенности кори на примере вспышки заболевания в Пензенской области / Д.Ю. Курмаева, А.В. Афонин, С.Б. Рыбалкин, В.Л. Мельников, М.В. Никольская // Сибирский научный медицинский журнал. - 2024. - Т. 44, № 4. - С. 168-173. DOI: 10.18699^М120240419
- Тюкавкина С.Ю., Воронина Н.А., Балахнова В.В. Основные факторы поствакцинального иммунитета у привитых АКДС-вакциной // Микробиологические аспекты диагностики инфекционных заболеваний: сборник научно-практических работ IX Всероссийской научно-практической онлайн-конференции. - Ростов-на-Дону, 2021. - С. 56-58.
- Нилова Л.Ю., Оришак Е.А., Фоменко В.О. Корь: глобальная программа диагностики и коллективный иммунитет // Проблемы медицинской микологии. - 2022. - Т. 24, № 2. - С. 108.
- Светличная С.В., Елагина Л.А., Попович Л.Д. Оценка экономической эффективности вакцинации против коклюша на основе данных реальной клинической практики // Реальная клиническая практика: данные и доказательства. - 2023. - Т. 3, № 1. - С. 9-19. DOI: 10.37489/2782-3784-туго^-27
- Алябьева И.А., Казакова В.С., Косякова К.Г. Особенности распространения коклюшной инфекции // Здоровье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. - 2023. - Т. 18, № 2. - С. 395-401.
- Проблема коклюша в некоторых регионах мира / А.А. Басов, О.В. Цвиркун, А.Г. Герасимова, А.Х. Зако-реева // Инфекция и иммунитет. - 2019. - Т. 9, № 2. - С. 354-362. DOI: 10.15789/2220-7619-2019-2-354-362
- Забытая, но непобежденная инфекция XXI века - дифтерия (часть 1) / И.В. Федорова, Е.Н. Сергиенко, Н.А. Рыбак, Л.И. Матуш, О.Н. Романова, В.Р. Рыбак // Клиническая инфектология и паразитология. - 2023. - Т. 12, № 3. - С. 252-256. DOI: 10.34883/Р1.2023.12.3.032
- Забытая, но непобежденная инфекция XXI века - дифтерия (часть 2) / Е.Н. Сергиенко, Н.А. Рыбак, И.В. Федорова, Л.И. Матуш, О.Н. Романова, В.Р. Рыбак // Клиническая инфектология и паразитология. - 2023. - Т. 12, № 3. -С. 257-265. DOI: 10.34883/PI.2023.12.3.033
- Колесников П.С. ИФА и РПГА как методы серологического мониторинга дифтерии // Бактериология. -2021. - Т. 6, № 1. - С. 48-53. DOI: 10.20953/2500-1027-2021-1-48-53
- Эпидемическая ситуация по дифтерии в России [Электронный ресурс] / С.С. Маркина, Н.М. Максимова, В.С. Петина, Н.А. Кошкина, В.А. Фисенко // КДЦ ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского. - URL: http:// www.gabrich.com/science/rdift.htm.html (дата обращения: 09.10.2024).
- Особенности эпидемического процесса кори, паротита и краснухи на современном этапе / М.С. Ниязалиева, B.С. Тойгомбаева, Д.А. Адамбеков, И.Ш. Альджамбаева, Н.А. Абдыкеримова, У.Т. Каипова // Alatoo Academic Studies. - 2023. - № 3. - С. 490-496. DOI: 10.17015/aas.2023.233.49
- Безроднова С.М., Демурчева И.В., Кравченко О.О. Изучение поствакцинального иммунитета к коклюшу у детей с синдромом дисплазии соединительной ткани // Детские инфекции. - 2021. - Т. 20, № 1 (74). - С. 28-33. DOI: 10.22627/2072-8107-2021-20-1-28-33
- Дмитриева Т.Г., Нестерева М.Е. Анализ инфекционной заболеваемости у детей в республике Саха (Якутия) с 2012 по 2021 гг. // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия «Медицинские науки». - 2023. - № 1 (30). - С. 37-46. DOI: 10.25587/SVFU.2023.30.1.001
- Михеева Е.М., Пенкина Н.И. Вакциноппрорфилактика у детей грудного и раннего возраста, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий // Лечение и профилактика. - 2023. - Т. 13, № 2. - С. 51-58.
- Ерещенко А.А., Гусякова О.А., Балдина О.А. Прогнозирование формирования поствакцинального противокоревого гуморального иммунитета у медицинских работников // Лабораторная медицина. - 2023. - Т. 14, № 3-4. - C. 19-26. DOI: 10.58953/15621790_2023_14_3-4_19
- Сохранность антител к кори, эпидемическому паротиту, краснухе и дифтерии у пациентов с ювенильным идиопатическим артритом / И.В. Фридман, Н.А. Любимова, О.В. Голева, Ю.Е. Константинова, М.М. Костик // Журнал инфектологии. - 2021. - Т. 13, № 2. - С. 44-52. DOI: 10.22625/2072-6732-2021-13-2-44-52
- Шафалинов А.В., Редько А.А., Иванов Д.В. Корь. Проблемные вопросы // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. - 2024. - № 52 (52).
- Кригер Е.А., Самодова О.В. Гуморальный иммунитет к кори у медицинских работников // Инфекция и иммунитет. - 2021. - Т. 11, № 3. - С. 523-529. DOI: 10.15789/2220-7619-HIT-1452
- Кряжев Д.А., Боев В.М., Кряжева Е.А. Взаимосвязи и прогностические модели факторов среды обитания, влияющие на состояние поствакцинального иммунитета у населения // Альманах молодой науки. - 2017. - № 3. - С. 3-10.
- Швецова А.А., Кряжева Е.А. Взаимосвязь антропогенного загрязнения со снижением поствакцинального иммунитета у населения Оренбургской области // Материалы XII съезда Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов / под ред. А.Ю. Поповой, В.Г. Акимкина. - М., 2022. - С. 533-534.
- Комплексная оценка факторов среды обитания и состояния поствакцинального иммунитета / Д.А. Кряжев, М.В. Боев, Л.М. Тулина, А.А. Неплохов, В.М. Боев // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 3. - С. 229-232. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-3-229-232
- Ильина С.В., Савилов Е.Д. Техногенное загрязнение окружающей среды и эффективность вакцинопрофилактики у детского населения // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2009. - № 4 (47). - С. 57-62.
- Ахмадиев Г.М. Зависимость исчезновения иммуноглобулинов в крови у потомства млекопитающих от состояния среды обитания // Актуальные исследования гуманитарных, естественных, общественных наук: материалы VIII Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. - Новосибирск: ООО «ЦСРНИ», 2016. - С. 8-15.
- Изучение защитных антибактериальных механизмов у детей, проживающих в условиях воздействия выбросов предприятия черной металлургии / С.В. Поспелова, Э.С. Горовиц, А.В. Кривцов, О.В. Долгих // Лабораторная служба. - 2021. - Т. 10, № 2. - С. 22-27. DOI: 10.17116/labs20211002122
- Анализ показателей иммунного статуса у детей в условиях аэрогенной экспозиции металлами / О.В. Долгих, А.В. Кривцов, О.А. Бубнова, Е.А. Отавина, Н.В. Безрученко, А.А. Колегова, А.А. Мазунина, М.А. Гусельников // Гигиена и санитария. - 2017. - Т. 96, № 1. - С. 26-29. DOI: 10.18821/0016-9900-2017-96-1-26-29
- Старкова К.Г., Долгих О.В., Казакова О.А. Особенности иммунного статуса школьников средней и старшей ступеней обучения в условиях повышенного содержания в крови ряда экзогенных химических веществ // Гигиена и санитария. - 2021. - Т. 100, № 5. - С. 501-506. DOI: 10.47470/0016-9900-2021-100-5-501-506
- Аликина И.Н. Оценка состояния системы клеточного иммунитета у работников предприятия по подземной добыче хромовой руды // Российский иммунологический журнал. - 2019. - Т. 13, № 3 (22). - С. 1089-1092. DOI: 10.31857/S102872210007231-9
- Безопасность применения коклюшных вакцин у подростков / М.П. Костинов, Е.В. Пруцкова, А.П. Черданцев, Г.Р. Фейсханова, А.М. Костинов, А.Е Власенко, В.Б. Полищук // Журнал инфектологии. - 2020. - Т. 12, № 4. - С. 29-36. DOI: 10.22625/2072-6732-2020-12-4-29-36