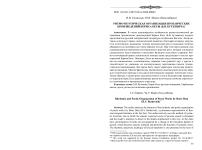Ритмо-поэтическая организация прозаических произведений Бориса Беты (Б.В. Буткевича)
Автор: Силантьев Игорь Витальевич, Шатин Юрий Васильевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (54), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности ритмо-поэтической организации прозаических произведений Бориса Беты (Б.В. Буткевича), видного представителя русской эмигрантской литературы на Дальнем Востоке. Автор активно использует прием синтаксической инверсии, благодаря которому нарушается естественное, ожидаемое течение прозаической речи и внимание читателя обращается на подчеркнутые таким образом детали. При этом перестановки слов сопровождаются изменением интонационного рисунка речи, который становится специальным, искусственным и выполняет функцию смыслового ударения. Ритмо-стихотворный прием лексического повтора также представлен в текстах произведений Бориса Беты. Повторы у Беты не выглядят искусственными, поскольку они не синонимичны, а метонимичны, значения слов граничат друг с другом и способствуют не удвоению, но континуальному перетеканию смысла художественного высказывания. Для прозы Беты также характерна тоническая (акцентная) организация. Многие фрагменты прозаических произведений писателя образуют тонические периоды и тем самым потенциально содержат тонические стихи. Таким образом, в своей прозе дальневосточного и еще в большей мере парижского периодов Борис Бета транспонировал ритмо-поэтические свойства лирического стихотворения в прозаическую структуру.
Б.в. буткевич, борис бета, русская эмиграция, харбинская школа, проза, ритмо-поэтическамя организация
Короткий адрес: https://sciup.org/149127270
IDR: 149127270 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00065
Текст научной статьи Ритмо-поэтическая организация прозаических произведений Бориса Беты (Б.В. Буткевича)
Проблема ритма художественной прозы принадлежит к числу наиболее сложных и парадоксальных в теории литературы. С одной стороны, в отличие от стихотворной речи проза лишена строгой опоры на метр и главного признака стиха - двойного членения на синтагмы и особые единицы, которые в устной речи выделяются обязательной паузой, а в письменной разбивкой на отдельные строчки. С другой стороны, интуиция подсказывает нам, что ритм художественной прозы глубоко отличен от ритма как повседневных высказываний, так и деловой прозы. Родоначальник современного стиховедения Андрей Белый одним из первых констатировал этот парадокс: «Сперва кажется нам, что есть внешнее различие меж поэзией и художественной прозой: присутствие метра в поэзии и - отсутствие метра хотя бы в изысканной прозе. Но различие это состоятельно лишь на первых порах, потому что поэзия с прозой сливается в ритме, присущим обоим» [Белый 1990, 46]. Развивая это предположение, Белый продолжает: «Стих свободный (verse fibre) - есть естественный переход к перебоям ритмической прозы, которая у великих стилистов есть стих, не уменьшающийся в узкое о нем представление учебников. Потому-то и правила ритма для прозы сложнее, чем правила метрики, оттого-то писать «яркой» прозой трудней, чем стихами» [Белый 1990, 49].
На определенную гомогенность стиха и прозы указывал и Б.М. Эйхенбаум в статье «Иллюзия сказа»: «Стих, по самой природе своей, есть особого рода звучание - он мыслится произносимым и поэтому текст его есть только запись, знак. Но не бесплоден такого рода “слуховой” анализ и в области художественной прозы. В ее основе тоже лежит начало устного сказа, влияние которого часто обнаруживается на синтаксических оборотах, на выборе слов и их постановке, даже на самой композиции» [Эйхенбаум 1924, 152]. Особый интерес в этом плане представляет творчество писателей, у которых проза в той или иной мере ориентирована на поэзию и во многом следует за ней.
В творчестве Б.В. Буткевича (Бориса Беты), видного представителя русской эмигрантской литературы на Дальнем Востоке, а далее в Китае и Франции, стихотворное начало, несомненно, преобладает над прозаическим, и не столько в количественном, сколько в качественном аспекте: прозу автора пронизывает ритмо-поэтика стихотворного текста, определяемая правилом произвольного конца строки и противоположными прин-

ципами тесноты стихотворного ряда [Тынянов 1965, 76] и повтора.
Стилистически очень интересны инверсии с союзом «будто»: «...шла, мелькала в потемках гудящего вентиляторами зала чудесная, вкрадчивобезмолвная будто жизнь... (9); «В сумерках, будто пасмурных, при морозце» (9); «- Разъезд, - ответил один из солдат, толстощекий, в черной папахе, лежа на локте, засматривая будто безразлично в бойницу» (12); «за этой брошенной, будто ничьей станцией» (11).
Не менее сильна в смысловом отношении и постпозиционная инверсия значащих слов: «Там, в этой людной парной темноте, раздраженный приятно, Алексей познакомился с женщиной...» (9); «.. .потом, уже через день, он слабо помнил ее лицо, забыл ее имя, чувствуя воспоминанием только недевичье тело...» (9); «...та вереница довольно бойких букашек на просторной скатерти снегов - ведь люди же и живые просто крестьянские лошади, расстреливаемые отсюда, через версты из двух трехдюймовок...» (12).
Обратим особенное внимание на следующий пример: «Здесь, на узле двух, к Волге, дорог, в заснеженных степях опять забередила бодрость» (10). С точки зрения прозаической стилистики перестановка предложнопадежной группы «к Волге» выглядит совершенно избыточной и даже неправильной. Вместе с тем эта перестановка совершенно отвечает формату словесных инверсий стихотворной речи, инверсий вынужденных, вызванных фактором «тесноты стихотворного ряда», и вместе с тем объективно формирующих тоническую ритмику строки.
Тем самым мы вплотную подходим к проблеме ритмо-стихотворной организации прозаической речи Бориса Беты.
Ритмо-стихотворный прием лексического повтора также представлен в тексте «Музы странствий»: «.. .он сел, влез в теплушку...» (9); «.. .в Акше он перешел, перенес, смеясь свои вещи...» (9); «Это был удивительный час удивительного времени: закат ли, восход, осень, весна?» (14). Повторы у Беты не выглядят искусственными и навязчивыми, поскольку они не синонимичны, а метонимичны, значения слов граничат друг с другом и способствуют не удвоению, но континуальному перетеканию смысла художественного высказывания.
Отметим такую характерную ритмическую особенность прозы Бориса Беты, как ее разработанная тоническая (акцентная) организация. Многие фрагменты прозаических произведений писателя образуют тонические периоды и тем самым потенциально содержат тонические стихи.
Приведем несколько показательных примеров, в которых прозаический текст словно напрашивается на разбивку акцентными стихами: «.. .Глубокой ночью / платформой вперед / вкатился броневик / на свет высоких фонарей / опустевшего депо, / безмолвных мастерских, / большой станции / - на расчищенные, совершенно и странно свободные / от вагонов длиннейшие пути, / - и задержался, остановился против вокзала / в снежном полном освещении» (10); «В этой комнате с коричневыми кроватями / в глухих спинках с белыми покрывалами, / в пучке колосьев на земных, будто шагреневых, / обоях в фотографиях, / была отрадная бодрость, прежнее равновесие» (22).
В одновременном «Музе странствий» небольшом цикле миниатюр «Записи на манжетах» Борис Бета также развивает акцентный принцип сложения текста как потенциального стихотворения. Разбитый на потенциальные стихи, текст практически обретает форму верлибра - и за счет стройной ритмической организации (число иктов 6-6-5-5), и за счет тематической самодостаточности каждого стиха: «Солнце падающим блеском в глаза растворяло стволы: / Старые листья под ногами были уже вечерние. / Я зяб, идя, поднимаясь между деревьями. / И блеск дрожал, показывая золотой обруч...» (74).
Потенциальной стихотворной ритмической конструкции текстов цикла отвечает их жанровая природа: они являются полновесными «стихотворениями в прозе», наполненные тематическим лиризмом, как это, например, имеет место в миниатюре «Овидий»: «Когда вижу голубые маревом горы, и серебренные слои облаков, и море, отливающее полосами далей, -понимаю, что и я изгнанник» (75).
В опубликованном в 1926 г. рассказе «О любви к жизни» писатель добивается предельной ритмизации прозаической речи, просодически разделяющей ее на фрагменты, равновеликие стихам верлибра: «Я шел узким тротуаром, / широкоплечая тень моя опять оказывалась у ног моих, / как только освобождался тротуар передо мною; / шанхайская шляпа также оттенилась. / Я вдыхал стремительную свежесть зимнего моря, / иногда глядел во встречные глаза женщин, / невзрослых, коротко одетых, угловатых от зябкости; / пестрые шарфы на их плечах кидались концами... / и вдруг моя десятидолларовая шляпа, / вспорхнув с головы, покатилась кубарем, / умчалась от меня, - а я бросился вдогонку» (86); «Я шел по глубокому

снегу среди высоких деревьев, / поднимался на склон - мыс Гольденштедт, парк Гондатти... / А вот и дача Толмачевых. / Я вхожу на веранду, на мне мое широкое пальто, мохнатый шарф, оленья шапка. / Я открываю дверь, она осыпает снег - / удивительно пахнет снегом. / Вот комната, деревянные панели, винтовая лестница наверх. / И еще я вижу серое пальто в плетеном кресле у камина» (91).
Тонически организованные периоды наблюдаем и в парижской публикации 1927 г. «План одного путешествия»: «Тогда, / один за другим, / переодетые, / кочегары стали спускаться / по отвесным, сквозным железным лестницам / в разверстое пространство, / где ходили, крутились, шумели, дышали / теплым маслом, нашатырем или просто металлом / глянцевитые полированные машины / - спустились до самого железного дна / - пола -/ и прошли к шипящим котлам: / право, / стремительное круговращение машин, / оцепленное мостиками, решетками и лестницами, / оставшееся за железной дверью, / казалось теперь прохладным, просторным раем!..» (110-111).
На усиление тонической организованности прозы Беты работает и прием лексического повтора. На его прямую ритмическую роль определенно указывает тавтологичность и собственно прозаическая избыточность: «.. .а потом, после обеда, который команда получала особенно шумно, после обеда стали, одевшись по-боевому собираться к боевым коробкам, к броневым вагонам...» (10); «Ну, перестаньте, - ответила она; но зрачки, ее женские зрачки в палевой живой эмали, говорили, что он прав» (14).
Ритмо-поэтическая организация прозаических произведений Бориса Беты сопровождается процессами эмансипации сюжетного начала, его отрыва от начала фабульного и, в конечном счете, лиризации сюжета в прозаической поэтике автора.
Так, уже в ранней новелле «Два выстрела» развитие сюжета практически не зависит от движения фабулы.
Фабула представлена биографическим течением событий, от появления героя в городе и разглядывания из окна, а потом встречи с очаровательной незнакомкой, до встреч с солдатом Костей и его нелепого пьяного выстрела в не завешенное окно, за которым угадывалось лицо той самой женщины.
Сюжет проявляется одномоментно - в результате сухого финального сообщения о смерти героини от другого выстрела: «А теперь, не так давно, мне говорил приехавший старый знакомый, что ее, застрявшую с поляками в Ново-Николаевске или в Красноярске, - расстреляли...» (33-34).
Бессмысленный выстрел солдата Кости герой отвел рукой и тем спас незнакомку. Поведав о ее гибели, рассказчик вопрошает: «Неужели не нашлось руки, которая отвела бы выстрел?» (34).
Сюжет новеллы в большей степени лирический, нежели эпический. Схватываются в смысловом сопоставлении два события, подобных в своей семантике, но противоположных в своих итогах: первый выстрел шальной, второй завершается смертью героини. Фабула становится ненужной, она забывается, в смысловом итоге остается сухой и жесткий сюжет, своего рода повествовательное двустишие, замыкающее новеллу, будто поворотом ключа.
Именно благодаря ритму происходит эмансипация сюжета от фабульного начала, и здесь Борис Бета в полной мере реализует принцип бунинской прозы, где «слова рассказа или стиха несут его простой смысл, его воду, а композиция, создавая над этими словами, поверх их, новый смысл, располагает все это в совершенно другом плане и претворяет это в вино» [Выготский 1986, 196-197]. И здесь мы приходим к более глубокому пониманию ритма, не ограниченного его лингвистической природой. Вступая в сферу художественного языка, ритм становится фактором семиотики и захватывает все уровни структуры текста, а не только локальные участки отдельных высказываний.
Лиризмом проникнут и сюжет новеллы «Чудесное явление». Мальчиком Сергей Шкляр видит сон, в котором получает бутылкой по голове от «человека кавказского обличья» - и вот в гражданскую войну в белогвардейском Омске «поручик Шкляр одним веселым вечером попал в переделку и был привезен в госпиталь в беспамятстве, оглушенный бутылочным ударом в голову...» (49). Едва не замерзнув в метель, поручик Шкляр видит, снова во сне, женщину: «Да, скучающий по водке уланский поручик Шкляр, замерзая на облучке буксирного грузовика на метельной дороге по отрогам Урала, - почувствовал, что он блаженно слепнет - так невыразимо засияло виденье в небе, которое было черным, в небе стала женщина в одеждах желтых и лучезарных; видны были пальцы ее босых ног; она развела руки; рукава откинулись в широком благословении, а лицо, светлее платья, широкоглазое, особенное линией бровей, - лицо улыбалось...» (48) - а много позже «в вагоне № 78 трамвайного маршрута г. Сан-Франциско студент политехникума и рабочий завода телефонных аппаратов С. Шкляр встретил девушку, пронзительно схожую с той, которая мнилась замерзающему сознанию на горной дороге Западного Урала» (49). «Да, жизнь чудесна. И чудеса зачастую выполняются безо всяких предзнаменований: часто принимаем мы чудо как должное явление», - подытоживает автор.
В плане сюжетообразования чудо как таковое самодостаточно и противоположно биографической цепи фабульных событий новеллы, и собственно сюжет ее образуют два параллельных событийных повтора событий - сначала во сне героя, потом в его жизни. Создавая сюжет новеллы, Бета выходит за рамки экзотерического языка, способного логически объяснить смысл того или иного события, но неспособного изобразить явления, располагающегося за гранью нашего сознания. Он мастерски отделяет план реальности со скучающим по водке уланом от плана трансцендентного. Череда событий, образующих сукцессивный порядок повествования, трансформируется в симультанную картину видения, предваряющего событие будущей встречи много лет спустя в далеком от отрогов Урала Париже.
Разграничение чуда и события как двух противоположных кодов художественного языка, обусловливающих сюжетостроение - важнейший признак литературы вплоть до нового времени. Литература же нового времени допускает изображение чуда как события и события как чуда. Чудо преображения Шкляра в момент его падения с грузовика предопределяет событие мистического явления, однако само явление становится приемом художественного предварения, в полной мере выявляя эстетический потенциал наррации.
В новелле «Потерявшийся на перекрестке» герой, увлекшись оккультизмом, идет с приятелем ночью встречать черта и, повернув на перекрестке за угол дома, исчезает навсегда. Здесь чистый сюжетный новеллизм, завершающий пуант, в своей текстуальной форме тяготеет к стиховой форме - парадигматически это своего рода нарративный моностих открытой длины, но завершающийся характерным лирическим повтором: «И больше вы вашего приятеля не встречали? - спросил я. - Да, ни разу, - ответил он, - ни разу... - повторил он еще» (53).
В миниатюре «Письмо, которое я не оправил» на первое место вновь выходят повтор и перечисление как ключевые приемы лирического сюжета, позволяющие выровнять синтагматическое и парадигматическое измерения текста: «Помните: самовар шипит, парит, липовый мед, городская халва, ватрушечки, заварные крендели, ваше “без меры в длину” тело на черной, отсвечивающей старой коже самосона, опять покусыванье ногтей, взгляд сквозь стекла и без очков, привставанье, этакий жест, смешок; а потом в (чьей? прадедовской?) “охотничьей” шубе, - на морозе, на дивном, искристом в темноте, морозе, вы покашливаете октавой, и напев: “В старину живали деды...”» (55). Повтор и перечисление влекут за собой восприятие синтагм текста как однородных фрагментов, равноположенных друг другу и тем самым образующих цельную парадигму сложного образа.
Рассказ «Октябрь» не имеет единой фабульной линии, тем важнее и интереснее становятся соприкосновения, со- и противоположения отдельных и практически независимых частей фабулы, что в целом и образует сюжет этого короткого произведения, сюжет, проникнутый лирическими смыслами. Сами названия трех частей рассказа уже укладываются в лирическую парадигму: «Солнце» - «Тишина» - «Ветер». Осеннее солнце позволяет герою сосредоточиться на ключевых смыслах его жизни и погрузиться в тишину экзистенциального переживания, в котором ему является его муза, чтобы исчезнуть призраком при налетевшем порыве ветра.
Рассказу «Октябрь» композиционно вторит и рассказ «Сны», в котором на внешнюю фабульную линию прогулки героя в гости накладывается, с одной стороны, ужасное в своем натурализме воспоминание о раздавленном поездом японском солдате, с другой стороны, открывающее текст размышление о снах и заключающее текст повествование о сне героя, который раскрывает образы бесплотной близости его с незнакомкой. Данные нарративы переводят сюжетный смысл произведения в предельно высокий регистр экзистенциального переживания, завершающегося соб- ственно лирической синтагмой:
«- Ты едешь в город? - кричал снизу мой друг.
- Нет! - ответил я громко и закрыл глаза. Но я открыл их тотчас, - да: ветер, опаловый залив там, в провале, голубая облачность... жизнь, жизнь...» (71).
В новелле «Классон и его душа» мы видим, как странное происшествие перебивает эпическую фабулу простого рассказа о походе моряка в дом свиданий. «Иное», выделенное автором курсивом в тексте, заслоняет Классону ощущения реальности, иное, связанное с другой жизнью, но ставшей в ту ночь на чужой яхте его собственной жизнью:
«Мы стали весело разговаривать и пить чай в этот поздний час, - (так рассказывал Классон два года спустя двум русским в Марселе в баре на Бельгийской набережной) - я ел свои любимые сандвичи с огурцами, хотя, признаться, никогда я их не любил. Мы беседовали, и теперь к двум девицам присоединился еще старик со своими дружескими и семейными воспоминаниями. И, представьте себе, я очень отчетливо видел в ту пору какие-то английские пейзажи средней Англии, тюдоровские дома, газоны, охоты псовые, гольф, чай в темноватых гостиных, куренье и смакованье ароматных спиртов в глубоких креслах курительных комнат, биллиардные партии с одной из барышень, с Меджи, и прочее, и прочее, чего я совершенно не помню и не вспомню никогда, наверное, - но что в те ночные часы было моим» (118).
И после этого происшествия, будучи сильно пьяным, матрос возвращается в обыденность портового мира и укрывается утренним часом в кабаке. Наложение пуантированного новеллистического события на фабульную канву портовой повседневности создает эффект чуда и влечет за собой выщепление лирического смысла - смысла жизни, балансирующей на тонкой грани реального и вымышленного. К реальному же - но и одновременно к памяти о нереальном - героя возвращает удар: «И только после случая этой зимой, когда меня ударил вечером по голове негр с “Атлантика”, - когда я лежал некоторое время в госпитале - я вспомнил эту страшную ночь подробно. И, честное слово, не знаю, где здесь настоящая правда...» (118).
Таким образом, в своей прозе дальневосточного и еще в большей мере парижского периодов Борис Бета продемонстрировал многие достижения, воспринятые им от лучших мастеров XX в., обращавшихся к жанру лирической миниатюры. К таким достижениям, бесспорно, относится и принцип транспонирования ритмо-поэтических свойств лирического стихотворения в прозаическую структуру.
Список литературы Ритмо-поэтическая организация прозаических произведений Бориса Беты (Б.В. Буткевича)
- Белый А. О художественной прозе / публ. Л.А. Новикова // Русская речь.
- Бета Б. (Буткевич Б.В.). Муза странствий (Избранное. Т. 1.) / сост. А. Степанов; подг. текста и комм. А. Степанова и М. Фоменко. Б.м.: Salamandra P. V., 2018.
- Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986.
- Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965.
- Эйхенбаум Б.М. Сквозь литературу. Л., 1924.