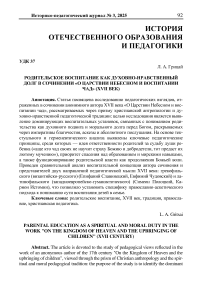Родительское воспитание как духовно-нравственный долг в сочинении «О Царствии Небесном и воспитании чад» (XVII век)
Автор: Грицай Л.А.
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История отечественного образования и педагогики
Статья в выпуске: 3, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию педагогических взглядов, отраженных в сочинении анонимного автора XVII века «О Царствии Небесном и воспитании чад», рассматриваемых через призму христианской антропологии и духовно-нравственной педагогической традиции: целью исследования является выявление доминирующих воспитательных установок, связанных с пониманием родительства как духовного подвига и морального долга перед Богом, раскрываемых через императивы благочестия, аскезы и абсолютного послушания. На основе текстуального и герменевтического анализа выявлены ключевые педагогические принципы, среди которых — идея ответственности родителей за судьбу души ребенка («аще кто чад своих не научит страху Божию и добродетели, тот предаст их лютому мучению»), приоритет спасения над образованием и мирскими навыками, а также функционирование родительской власти как продолжения Божьей воли. Проведен сравнительный анализ воспитательной концепции автора сочинения и представителей двух направлений педагогической мысли XVII века: грекофильского (византийско-русского) (Епифаний Славинецкий, Евфимий Чудовский) и латинофильского (западноевропейско-гуманистического) (Симеон Полоцкий, Карион Истомин), что позволило установить специфику православно-аскетического подхода к пониманию сути воспитания детей в семье.
Родительское воспитание, XVII век, традиция, православие, христианская педагогика
Короткий адрес: https://sciup.org/140312109
IDR: 140312109 | УДК: 37
Текст научной статьи Родительское воспитание как духовно-нравственный долг в сочинении «О Царствии Небесном и воспитании чад» (XVII век)
Введение. Актуальность исследования определяется необходимостью глубокого осмысления исторических форм родительского воспитания как системы нравственных императивов, сформированных в рамках русской духовной культуры XVII века, когда происходило интенсивное взаимодействие византийско-православного наследия и новых западноевропейских влияний, при этом несмотря на обилие исследований, посвященных «Домострою» и педагогическим идеям периода реформ Петра I, период «досветского» этапа развития воспитательной мысли – в частности, сочинения назидательно-религиозного характера, – остается слабо освещенным в академической литературе, между тем именно такие тексты, как сочинение «О Царствии Небесном и воспитании чад», представляют собой важный источник для реконструкции представлений о роли родителя в деле спасения ребенка, о нравственных обязанностях семьи и религиозных основаниях воспитания.
Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на основе герменевтического анализа выявить педагогические установки, сформулированные в сочинении, и сравнить их с параллельными концепциями, представленными в наследии других известных мыслителей данного периода.
Материалы и методы. Материалом для анализа послужил текст сочинения «О Царствии Небесном и воспитании чад» в издании Е. В. Петухова [Петухов, 1893], а также сопоставительные источники: сочинения других авторов того времени; в работе были использованы методы сравнительноисторического анализа, историкокультурного контекстуализирования, а также герменевтический подход, позволяющий реконструировать педагогические смыслы, содержащиеся в религиозно-нравственном дискурсе эпохи. Текст сочинения рассматривался как часть более широкой православной традиции, в рамках которой предназначение родителей определяется не только как социальная, но прежде всего, как духовная миссия, требующая от отца и матери активного участия в спасении души ребенка через наставничество, аскезу и молитву.
Результаты исследования. Во второй половине XVII века, в контексте интенсивных общественно-политических, религиозных и культурных трансформаций, охвативших Русское царство в период после Смутного времени, воцарения династии Романовых и начала постепенной рецепции западноевропейских влияний, происходит заметное переосмысление прежнего воспитательного идеала, который ранее в значительной степени опирался на устойчивую систему домостроевских ценностей и норм поведения и был направлен преимущественно на поддержание иерархически выстроенной, религиозно-нравственно ориентированной модели родительского воспитания, поэтому в условиях кризиса прежних традиционных представлений о родительском воспитании детей, вызванного не только социальными сдвигами и религиозными спорами, но и растущим интересом к образованию, педагогическая мысль начинает демонстрировать стремление к концептуальному обновлению, что приводит к формированию ряда разнонаправленных педагогических парадигм, в рамках которых и складываются новые представления о сущности и целях родительского воспитания.
Анализируя полемику между представителями византийско-русского («грекофильского») и западноориентированного («латинофильского») педагогических направлений, можно заключить, что именно во второй половине XVII века российская педагогическая мысль приобретает внутреннюю структурную многослой-ность: с одной стороны, формируется устойчивая тенденция к сохранению домостроевской воспитательной традиции, которая нашла свое отражение в многочисленных памятниках средневековой письменности: в текстах «Домостроя» и учительных сборников («Измарагд», «Златоуст», «Цветник духовный» и т. д.), с другой, – заметны попытки переосмысления византийского духовного наследия в контексте отечественной воспитательной традиции, а с третьей стороны – наблюдается обращение к гуманистическим и рационалистическим основаниям западной педагогики, в частности к идеям важности просвещения, личностного развития и сознательной нравственной ответственности ребенка за свое поведение [Грицай, 2022, с. 237–251]. Эти направления, в свою очередь, не только задают тон научным и богословским дискуссиям эпохи, но и получают литературное выражение в сочинениях крупнейших представителей русской интеллектуальной элиты, таких как Епифаний Славинецкий, Евфимий Чудовский, Симеон Полоцкий и Карион Истомин, чьи тексты позволяют реконструировать идеологические основания новых моделей воспитания, в частности в аспекте их понимания родительского долга как духовно-нравственной обязанности, имеющей не только земное, но и эсхатологическое измерение [Гончаров, 2016, с. 63–75]. Таким образом, представления о родительском воспитании в XVII веке формируются не как единый и однозначный педагогический проект, а как поле сложной и многослойной идеологической борьбы, в которой сталкиваются, пересекаются и взаимно обогащаются различные подходы – от строго ортодоксальных до осторожно реформаторских.
Следует также подчеркнуть, что в условиях этой идейной многополярности можно выделить как минимум четыре ведущих направления развития педагогической мысли: консервативное, ориентированное на повторение и переписывание ранее закрепленных текстов воспитательного характера; старообрядческое, настаивающее на необходимости религиозной строгости и непреложности догматических основ; византийско-русское, стремившееся к актуализации православного воспитательного идеала в духе новозаветного гуманизма и христианской любви; и, наконец, латино-фильствующее, склонявшееся к восприятию западных образцов, подчеркивавшее личностное начало в процессе воспитания и актуализировавшее идею индивидуального нравственного совершенствования [Грицай, 2022, с. 240–246], именно в рамках этих направлений происходило формирование новых смыслов родительского воспитания, где оно все более рассматривалось не как механическое исполнение предписаний, но как осознанное и деятельное участие родителей в духовно-нравственном становлении ребенка, в его приобщении к вечным истинам и христианским добродетелям.
Как подчеркивает В. Б. Новичков, эта ситуация порождает особый тип педагогической преемственности, в рамках которой новые идеи формируются не в отрыве от национальной тра- диции, а через ее внутреннюю переработку и органичное развитие, что позволяет говорить о самобытной траектории становления русского воспитательного идеала, оформившегося на стыке религиозно-нравственной и гуманистической парадигм [Новичков, 2018, с. 195–198].
На этом фоне сочинение «О царствии Небесном и воспитании чад» представляет особый интерес как текст, возникший в русле пересечения традиционного, византийско-русского и западноевропейского направлений и отражающий представления о родительском воспитании как о важнейшем духовном долге, предполагающем активное участие родителей в спасении души ребенка через его приобщение к благочестию, добродетели и страху Божию.
Изучаемое сочинение было введено в научный оборот выдающимся отечественным филологом Е. В. Петуховым (1863–1948), который в конце XIX века обнаружил данный текст в составе рукописного Синодника, хранившегося в Императорской Публичной библиотеке на 112 листах и, осознав его научную и культурную ценность, опубликовал его в 1893 году, снабдив важными текстологическими и историко-литературными комментариями, способствующими осмыслению произведения как целостного памятника духовно-нравственной и педагогической мысли XVII века [Петухов, 1893]. Благодаря исследованию Е. В. Петухова удалось установить, что сочинение состоит из трех взаимосвязанных частей, которые, несмотря на формальные жанровые различия, объединены сквозной идеей – пред- ставлением о духовной жизни человека как пути к Царствию Небесному, в котором родительское воспитание выступает как ключевой элемент этого пути, как нравственное посредничество между временным земным бытием и вечной участью души.
Первая часть произведения (л. 70–83 об.), лишенная авторского заглавия, но тематически сосредоточенная на эсхатологической перспективе, представляет собой богословско-моралистическое рассуждение о Царствии Небесном и его превосходстве над бренной земной жизнью, в ходе которого автор, начиная с восхваления Пресвятой Троицы и христоло-гических доктрин, развивает рассуждение о воплощении Христа, искупительной жертве и нравственной ответственности человека перед Богом, при этом активно используя приемы контрастного сопоставления вечных, совершенных благ будущего века и несовершенств, тревог и соблазнов земного существования [Петухов, 1893, с. 9–12]. Автор, находясь в русле покаянно-эсхатологического направления русской духовной литературы XVII века, призывает читателя к сосредоточенности на «едином на потребу» — размышлении о спасении души, возвышает образ жизни праведника и резко противопоставляет его суетной, греховной, «мракоземной» жизни обывателя, уводящей от пути к Небесной Отчизне, это философское и религиозное размышление сопровождается интенсивным нравственным пафосом, обращенным ко внутреннему человеку, и наполнено многочисленными цитатами из Священного Писания и творений отцов Церкви, что подтверждает принадлежность автора к византийско-русской традиции книжного богословствования и указывает на его знакомство с идеями западноевропейских мыслителей (хотя идеи Лютера и его веру автор не принимает о чем и пишет), а также на его стремление наставлять читателя не отвлеченными тезисами, но конкретными примерами и ссылками [Петухов, 1893, с. 14–17].
Вторая часть (л. 84–86 об.), озаглавленная в рукописи как «О воспитании чад», тематически и логически продолжает первую, развивая мысль о воспитании как действенном способе, способствующем подготовке ребенка к восприятию высших духовных истин и, в конечном итоге, к вхождению в Царствие Небесное, поэтому автор, осмысляя родительское воспитание сквозь призму христианской сотерио-логии, подчеркивает, что главной целью просвещения является не только польза в делах житейских, хотя она и упоминается в контексте государственно-административной рациональности (так, например, родителям советуется заботиться о том, чтобы их дети стали «умными и учеными друзьями царей»), но прежде всего внутреннее устроение души, формирование страха Божия, добродетели, целомудрия и стремления к благу [Петухов, 1893, с. 18–20].
Идея о приоритете духовного над материальным проходит сквозь весь текст: «лучше свет разума детям дать, нежели злато и богатство», – утверждает автор, противопоставляя воспитание в истине стремлению к мнимому благополучию, которое не дает душе спасения, в частности, он опирается на библейские примеры – прежде всего на образ Анны, матери пророка Самуила, посвятившей сына Богу с младенчества, – что позволяет ему формулировать идеал родительской ответственности как религиозного подвига. Подобная установка согласуется с основополагающими принципами православной педагогики, сформулированными в трудах позднейших мыслителей, но здесь она подается в ее наиболее традиционном и, вместе с тем, интенсивно эмоциональном выражении.
Третья часть сочинения (л. 87– 88), обращенная к читателю и имеющая исповедально-автобиографический характер, представляет собой краткое, но насыщенное сведениями о жизни автора повествование, в котором он открывает обстоятельства своей светской службы, участия в военных походах, столкновений с церковной и административной властью, гонений и обвинений в еретичестве, а также заключения, добровольно им перенесенного ради верности собственной совести и христианскому долгу [Петухов, 1893, с. 21–23]. Этот фрагмент несет не только документальную, но и глубокую религиознонравственную нагрузку: он служит своего рода свидетельством личной стойкости и духовной зрелости автора, который, несмотря на испытания, остался верен своим убеждениям, отказался от мздоимства и лжи, презирал пьянство, дорожил книжным учением и стремился к «раченію любомуд-рыхъ»: подобный автопортрет позволяет не только реконструировать биографический контекст сочинения, но и увидеть в нем образ человека, который свою педагогическую концепцию строит не на отвлеченной теории, но на личном нравственном опыте и собственных духовных исканиях.
Таким образом, трехчастная структура сочинения представляет собой своеобразную триаду, в которой первая часть формирует богословское основание, вторая – педагогическое приложение, а третья – личностнонравственную иллюстрацию, вместе создавая цельную и насыщенную концепцию духовно-нравственного воспитания, в центре которой – родительский долг как религиозная обязанность, имеющая значение не только для земного благополучия ребенка, но и для его вечной участи.
Анализируя педагогические идеи, заложенные в сочинении «О Царствии Небесном и воспитании чад», нельзя не отметить, что автор этого произведения, сохраняя верность традиционному христианскому учению, формулирует свое понимание родительского воспитания как духовно-нравственного долга на стыке нескольких педагогических парадигм, в том числе традиционной, византийско-русской (новозаветной) и раннепросветительской (западноевропейской), что позволяет рассматривать данный текст как уникальное свидетельство переходного характера воспитательной мысли XVII века, поэтому выступая в качестве выразителя духовных и образовательных идеалов своего времени, автор, опираясь на тексты Священного Писания и отцов Церкви, прежде всего Иоанна Златоуста, по мысли П. Ф. Каптерева, утверждает, что главной целью родительской заботы о детях должно быть их нравственное и духовное устроение, направленное на обретение Царствия Небесного [Каптерев, 1915].
При этом в сочинении четко прослеживаются три взаимосвязанных педагогических направления: во-первых, это традиционная христианская модель, основанная на домостроевском типе мышления, где воспитание мыслится как прямая обязанность отца и матери перед Богом, поэтому автор с особой строгостью предупреждает родителей, что «отцы не радя-щие о своих детях во учении, лютому осуждению предаются; таковии детям своим убийцы бывают» [Петухов, 1893, с. 49], тем самым формулируя не только меру ответственности, но и метафизическую тяжесть вины за неисполненный долг, здесь воспитание предстает как форма служения, исполнение которого обусловливает не только судьбу детей, но и собственное спасение родителей; следуя в русле древнерусской патристики, автор акцентирует внимание на необходимости воспитания через наставление, личный пример и наказание, при этом указывая: «Яко же убо всяк нерадивый о том муку приемлет, и наказуйте себе и чада своия в наказании и во учении Господнем» [Петухов, 1893, с. 50].
Во-вторых, в произведении присутствует византийская новозаветная педагогическая линия, в центре которой – идея любви к Богу как основание воспитания, автор с очевидной эмоциональной вовлеченностью развивает мысль о том, что воспитание должно быть направлено не на внешний порядок, а на внутреннее преображение человека, его добровольное стремление к добродетели, покаянию, милосердию и любви, поэтому в этом контексте он пишет: «Аще пре Богом праведен будет, учения благоразумия не может сгораться, несть бо таковому»
[Петухов, 1893, с. 50], подчеркивая вечную ценность не внешнего благополучия, но доброй совести, основанной на знании истины и жизни по заповедям. Духовное воспитание в данном случае не есть насильственное внедрение норм, а внутреннее, деятельное следование Христову пути – путь, который открывается через покаяние, молитву и «богоразумное учение».
Наконец, третьим – и наиболее примечательным с точки зрения интеллектуальной истории – является просветительский элемент, соотносимый с формами западноевропейского гуманизма, выражающийся в возвышении значения книжного учения и светлого разума как средств достижения не только земного успеха, но и вечного спасения, автор заявляет: «Учение есть благоразумие, просвещая очи средечные, опаляя неистовство самохотных стремлений» [Петухов, 1893, с. 52], тем самым выстраивая параллель между светом знания и светом благодати. Подобная апология учености, сравнимой со «свечой, просвещенной от огня», которая «озаряет в храмине», представляет собой переход от аскетически-созерцательной к деятельной педагогике, где умственная культура становится формой служения Богу и людям, в духе гуманистической традиции Просвещения автор подчеркивает приоритет духовного и умственного развития над материальным благополучием: «Того ради да не убо смотрием, яко да богатыя оставим дети, но яко да добродетельны и праведны Богу представим» [Петухов, 1893, с. 50].
Рассмотрим педагогические идеи автора сочинения «О Царствии
Небесном и воспитании чад» по трем основным направлениям в виде таблицы 1.
Педагогические идеи автора сочинения «О Царствии Небесном и воспитании чад»
Таблица 1
|
Педагогическое направление |
Основные идеи автора |
Цитаты из текста / Источники |
|
Традиционные ветхозаветные (домостроевские) педагогические идеи |
Родители несут личную ответственность за духовную судьбу ребенка. Воспитание – долг перед Богом, невыполнение которого приравнивается к убийству. Важнейшие методы воспитания: наставление, пример, наказание. |
Отцы не радящие о своих детях во учении, лютому осуждению предаются; таковии детям своим убийцы бывают» [Петухов, 1893, с. 49]. «Яко же убо всяк нерадивый о том муку приемлет и наказуйте себе и чада своия в наказании и во учении Господнем» [Петухов, 1893, с. 50]. |
|
Новозаветные (христианский гуманизм, любовь к Богу) педагогические идеи |
Воспитание направлено на внутреннее преображение ребенка. Основа воспитания – любовь к Богу, стремление к добродетели и праведности. Жизнь праведника выше внешнего успеха. |
«Аще пре Богом праведен будет, учения благоразумия не может сгораться, несть бо таковому» [Петухов, 1893, с. 50]. |
|
Просветительские (западноевропейское влияние) |
Просвещение и знание – путь к добру и спасению души. Учение – свет, просвещающий разум и сердце. Богатство уступает значению духовного и умственного воспитания. |
«Учение есть благоразумие, просвещая очи средечные, опаляя неистовство самохотных стремлений» [Петухов, 1893, с. 52]. «Того ради да не убо смотрием, яко да богатыя оставим дети, но яко да добродетельны и праведны Богу представим» [Петухов, 1893, с. 50]. |
Таким образом, сочинение «О Царствии Небесном и воспитании чад» представляет собой сложный и многослойный текст, в котором сочетаются строгость патристической традиции, эмоциональность новозаветного благочестия и рационализм зарождающегося просветительского мышления: подобное соединение является признаком того, что к концу XVII века в России уже начала оформляться собственная, самобытная педагогическая парадигма, в которой идеалы общественного блага и индивиду- ального спасения находились в сложной, но органичной связи, сочинение, таким образом, не только отражает синтез трех педагогических направлений, но и задает перспективу дальнейшего развития русской воспитательной традиции, в которой просвещение и духовность не противопоставляются, но взаимно подкрепляют друг друга.
Сравнительный анализ педагогических взглядов, представленных в сочинении «О Царствии Небесном и воспитании чад», с идеями других па- мятников духовно-нравственной литературы XVII века позволяет более полно раскрыть как идейную природу рассматриваемого текста, так и его место в системе педагогических представлений эпохи, находящейся на границе между традиционной патристической ортодоксией и ранними формами просветительского мировоззрения, при этом следует отметить, что автор сочинения, с одной стороны, продолжает линию византийско-русской педагогической традиции, близкую к мировоззрению таких мыслителей, как Епифаний Славинецкий и Евфимий Чудовский, а с другой – демонстрирует интерес к более рационалистическим основаниям воспитания, опираясь на идеи книжного просвещения, что сближает его с представителями латинофильского направления.
Прежде всего, обращает на себя внимание некоторое сходство «О Царствии Небесном и воспитании чад» с назидательной поэмой «Наказание от некоего отца к сыну своему, дабы он подвизался о добрых делех выну», где в поэтической форме излагаются те же идеи духовной чистоты, послушания родителям, стремления к добродетели и спасению души через соблюдение Божьих заповедей, так, наставления отца в этом произведении содержат требования к сыну соблюдать телесную и душевную чистоту, избегать пороков, регулярно посещать церковь, слушать Слово Божие и помышлять о Царствии Небесном: «И Царство Небесное во уме своем помышляти» [Наказание от некоего отца к сыну, 1934]. Подобно этому, в рассматриваемом трактате автор прямо указывает, что забота родителей должна быть направлена на то, чтобы «чада праведны Богу представити», а не просто обеспечить их богатством [Петухов, 1893, с. 50], и призывает к духовному воспитанию как к форме жертвенной любви и ответственности, утверждая: «Отцы, не радящие о своих детях во учении, лютому осуждению предаются» [Петухов, 1893, с. 49].
Эти идеи во многом корреспондируют с воззрениями представителей византийско-русского направления, в частности Епифания Славинецкого, который в своих «Словах» настойчиво проповедует необходимость вывода народа из мрака невежества через просвещение, при этом связывая это дело не только с религиозной обязанностью, но и с социальной ответственностью властей: «Эти мысленные совы, ненавистники науки, скроются в любимый ими мрак… да воссияет свет науки и просвещает природный человеческий разум» [Блинов, 2001, с. 121]. Славинецкий, как и автор «О Царствии Небесном…», подчеркивает значение личного примера родителей: «Будь (для детей и рабов) таков, каким хочешь, чтобы был для тебя владыка» [История педагогики, 2011, с. 288], при этом его сочинение «Гражданство обычаев детских», созданное в форме катехизиса, совмещает нравоучения, правила поведения и указания по развитию ума, что сближает его с рассматриваемым трактатом, где также сочетаются традиционное религиозное наставление и элементы педагогического рационализма [Грицай, 2024, с. 67].
В свою очередь, Евфимий Чу-довский, следуя идеям своего учителя, также утверждает приоритет духовного над материальным и критикует излишнее баловство детей, настаивая на воспитании их через смирение, послушание и приобщение к Слову Божию: «Матери прелестницы детищи прельщают… пенязи дают» [Буш, 1918], его отрицание латинского просветительства как «новомышленного и лживого» также находит отголосок в осторожности, с которой в сочинении «О Царствии Небесном…» трактуется книжное учение: хотя оно и признается «благоразумием, просвещающим очи сердечные» [Петухов, 1893, с. 52], его смысл строго ограничен задачей подготовки человека к Царствию Божию, а не мирскому успеху, поэтому, как отмечает Н. В. Пуминова, для Чу-довского любое знание, не ведущее к смирению и покаянию, становится источником прелести, и эта установка явно отражается и в анализируемом тексте [Пуминова, 2013, с. 74].
Таким образом, идеи сочинения «О Царствии Небесном и воспитании чад» во многом соотносятся с грекофильским направлением: автор разделяет установку на духовно-нравственное совершенствование ребенка, подчеркивает значение примера, строго осуждает нерадение родителей и возвеличивает послушание, однако в отличие от Славинецкого и Чудовского, автор трактата в большей степени акцентирует внимание на роли просвещения, что приближает его к западноевропейским педагогическим концептам и предваряет идеи, более ярко выраженные позднее в сочинениях Симеона Полоцкого и Кариона Истомина, именно это напряженное сочетание византийской ортодоксии с идеей духовного просвещения делает сочинение уникальным явлением в духовной педагогике XVII века. Например, в трактате «О Царствии Небесном...» воспитание ребенка мыслится исключительно как духовно-нравственный долг родителей перед Богом, подчиненный исключительно идее спасения души: «аще кто чад своих не научит страху Божию и добродетели, тот предаст их лютому мучению…» [Петухов, 1893, с. 49], – и именно в этом автор видит подлинный смысл отцовства и материнства, родители, согласно тексту, ответственны не только за нравственный облик ребенка в земной жизни, но и за его участь в вечности, при этом всякая мирская забота – о здоровье, богатстве, славе и даже грамотности – рассматривается как вторичная, если она не ведет к достижению Царствия Небесного.
В то же время в произведениях Симеона Полоцкого мы наблюдаем отчетливое смещение акцента с исключительно религиозной мотивации на синтез духовно-нравственного и личностно-практического воспитания, что отражает влияние западноевропейской просветительской педагогики, прежде всего модели «разумного обучения и воспитания» Я. А. Комен-ского, так, в «Вертограде многоцветном» Полоцкий говорит о необходимости обучения детей как обязательной составляющей формирования «приятного» человека: «Яко же лю-безни суть прекраснии цвети, так научени всем приятни дети» [Антология пед. мысли, 1985, с. 334], – подчеркивая тем самым, что воспитание включает в себя как развитие нравственности, так и эстетического, интеллектуального начала, эта установка на образовательный элемент воспитания, вытекающая из веры в способность человека к самосовершенствованию, принципиально отличает Симеона от автора «О Царствии Небесном…», для которого всякое знание имеет лишь инструментальное значение, будучи допустимо лишь постольку, поскольку способствует духовному очищению.
Особое значение у Симеона Полоцкого приобретает идея ответственности самого ребенка за судьбу своей души, что ярко проявляется в его стихотворении «Честь», где утверждается невозможность автоматического переноса заслуг родителей на детей: «Родителей на сына честь не прехождает, аще добродетей их не подражает» [Антология пед. мысли, 1985, с. 335]: эта мысль о самостоятельной нравственной личности, способной к выбору, роднит Полоцкого с идеями гуманистической педагогики Запада, в которой понятие «личной свободы» начинает вытеснять идею абсолютного послушания. Напротив, в сочинении «О Царствии Небесном…» приоритет отдается модели безусловного подчинения родительской власти, поскольку в глазах автора родитель выступает как прямой представитель Божьей воли на земле.
Если Симеон Полоцкий, подражая западным образцам, особенно латинским наставлениям морали, вводит элементы возрастной педагогики, разграничивает этапы обучения и осмысленно формирует образ «совершенного человека» как результат комплексного воспитательного процесса [Антология пед. мысли, 1985, с. 137], то в сочинении «О Царствии Небес- ном…» подобной структуры нет: автор сосредотачивает внимание на единственной цели – спасении души и достижения Царствия Небесного – и отказывает воспитанию в светском, социальном или политико-государственном назначении, следовательно, если Полоцкий говорит о человеке как об «образе и подобии Божием, способном к восприятию наук» [Морозов, 1982, с. 172], то автор трактата воспринимает человека как немощное существо, нуждающееся в постоянном духовном надзоре и покаянии.
Карион Истомин, в отличие от своего наставника Симеона Полоцкого, еще более явно демонстрирует приверженность идеям западноевропейского гуманизма, особенно в отношении к детской природе, в которой он видит не источник греха, как это следует из ветхозаветной педагогической традиции, а потенциал к развитию через образование и добродетельный пример, поэтому его «Букварь», свободный от назидательной назидательности и пропитан идеей «учения через наглядность», говорит о попытке создать совершенно новую модель педагогического взаимодействия, построенную не на страхе наказания, а на уважении к индивидуальным возможностям ребенка [Демков, 1899, с. 74]. В то время как автор «О Царствии Небесном…» мыслит воспитание как почти насильственное приобщение к истине («аще не наказу-еши, погибнет» [Петухов, 1893, с. 48]), Истомин предлагает путь убеждения и нравственного внушения, исходящего из христианской любви и педагогического разума: «Науку и страх в должности имели» [Демков, 1899, с. 75].
Кроме того, как указывает Л. А. Черная, Карион Истомин одним из первых предлагает целостное представление о формировании личности ребенка как единства знания, страха Божия и труда [Черная, 1989, с. 223], – и в этом отношении его взгляды полностью совпадают с основными принципами педагогики Я. А. Коменского, а также перекликаются с наставлениями Эразма Роттердамского, произведения которого Истомин не только знал, но и переводил, напротив, в сочинении «О Царствии Небесном…» просвещение трактуется скорее как средство ограждения от ереси, а не как цель воспитания: здесь мы не находим рассуждений о значении разума, чувства, способности к нравственному выбору – все подчинено идее подвига, духовного страха и личной аскезы.
Таким образом, сопоставление «О Царствии Небесном…» с произведениями Симеона Полоцкого и Кариона Истомина выявляет две различные педагогические парадигмы: первая, представленная в рассматриваемом сочинении, является выражением православно-аскетического мировоззрения, где воспитание – это прежде всего духовное окормление ребенка, направленное на его подготовку к Страшному суду, вторая же, восходящая к западноевропейской гуманистической традиции, выражает веру в возможности человека и значение просвещения как средства личностного становления и общественного служения. Педагогика Полоцкого и Истомина по сути своей стремится преодолеть домостроевскую модель воспитания, вводя в культурное сознание нового времени идею личности как активного субъекта образования, в то время как в трактате «О Царствии Небесном…» ребенок предстает, прежде всего, как объект духовной ответственности родителей и церковной общины, пассивно принимающий нравственные ориентиры, транслируемые через страх, покаяние и смирение.
Также следует заметить, что анализируя сочинение «О Царствии Небесном и воспитании чад» сквозь призму его авторской интенции и характерных идейных установок, трудно не заметить, что перед нами текст, по стилю, содержанию и мировоззренческому напряжению, явно принадлежащий перу не просто монаха, но личности образованной и интеллектуально независимой, способной к богословскому синтезу, социальной критике и глубокому саморефлексивному дискурсу, именно это обстоятельство побудило Е. В. Петухова выдвинуть гипотезу об авторстве князя Ивана Андреевича Хворостинина – видного государственного деятеля начала XVII века, вольнодумца и писателя, судьба которого была тесно связана с ключевыми политико-религиозными противоречиями эпохи [Петухов, 1893, с. 6– 8].
Если допустить, что сочинение действительно написано князем Хво-ростининым в период его заточения в монастыре по приказу патриарха Филарета и царя Михаила Федоровича (в 1622 или 1623 году), то многие черты текста находят в этом биографическом контексте убедительное объяснение: в частности, просветительская устремленность автора, его определенная свобода в формулировке богословских суждений, склонность к латинско-греческим синтезам и даже – почти пуб- лицистическая откровенность в третьей части, где он открыто и с болью пишет о собственных страданиях, притеснениях, клеветах и неправедных обвинениях, что в своей исповедаль-ности сближает этот текст с «Житием» протопопа Аввакума.
Действительно, личность автора, как можно заключить из его собственных слов, незаурядна: он упоминает о своем военном прошлом («в ратях бывал»), политической службе («верно служил своим владыкам»), обличении невежества властей и церковников, притом подчеркивает, что был чужд «лстивства» и «корысти», имел богатство, но не обращал его во зло, и, наконец, в зрелом возрасте обратился к книжному учению, подчеркивая свою природную склонность к «ра-ченію любомудрыхъ» [Петухов, 1893, с. 23]. В совокупности эти черты удивительным образом перекликаются с биографией И. А. Хворостинина - блестящего воеводы, бывшего при Лжедмитрии I, публично глумящегося над церковными установлениями, за что неоднократно подвергавшегося ссылке и, по свидетельствам, имевшего опыт общения как с польскими католиками, так и с протестантами [Половцев, 1904, с. 289–290].
Более того, стилистика сочинения – богатая цитатами из отцов Церкви, прежде всего Иоанна Златоуста, но также содержащая ясные элементы западноевропейской учености (например, представление о «богора-зумии учения» и «просвещении очей сердечных» как свете разума) – прямо свидетельствует о знакомстве автора с корпусом как византийской, так и латинской книжной традиции, поэтому Пастухов, опираясь на текстуальный анализ, отмечает, что сочинение «насыщено цитатами и идеями, явно заимствованными не только из греческих, но и латинских авторов» [Петухов, 1893, с. 14], что подтверждает гипотезу о принадлежности его перу образованного и внутренне сложного человека, не ограниченного монастырским кругозором, этот внутренний универсализм делает произведение не просто очередным дидактическим сочинением, а выразителем своеобразного педагогического синтеза, сочетающего православную строгость, гуманистическое милосердие и уважение к силе знания.
Наконец, нельзя не заметить, что фигура предполагаемого автора – человека, который, будучи обвинен в ереси, пережил тюремное заключение и духовный кризис, но в итоге принял монашество и оставил после себя глубокий духовно-нравственный текст – соответствует драматической структуре сочинения, где обретение Царствия Небесного связывается с личным подвигом, страданием, покаянием и сознательным служением ближнему, однако, несмотря на убедительность данной гипотезы, достоверно установить авторство невозможно: отсутствие точных атрибуций, автографа, прямых упоминаний имени или места написания делает все выводы предположительными.
Тем не менее, размышление о личности автора не является второстепенным: напротив, оно открывает важнейший аспект интерпретации текста, позволяя лучше понять напряженную духовную атмосферу XVII века, в которой педагогика, богословие и личный опыт страдания сплетаются в единую ткань нравственного наставления
– столь же актуального тогда, как и сегодня.
Обсуждение результатов. Анализ сочинения «О Царствии Небесном и воспитании чад» позволяет заключить, что в педагогическом дискурсе XVII века родительское воспитание мыслилось не как утилитарная задача по подготовке ребенка к социальной жизни, но как глубоко религиозный, онтологически значимый долг перед Богом, нарушение которого влекло за собой не только разрушение семейного порядка, но и вечное осуждение, поэтому автор трактата, опираясь на традиции христианского мировиде-ния, утверждает, что всякий родитель, не научивший своего ребенка страху Божию и добродетели, становится по сути его «душевным убийцей»: «Отцы нерадящие о своих детях во учении… детям своим убийцы бывают» [Петухов, 1893, с. 49]; воспитание, согласно данной логике, должно осуществляться не только словом, но и делом, молитвой, примером, покаянием, т. е. восприниматься как путь соработни-чества с Божественной волей.
Сравнение с другими авторами той эпохи позволяет более рельефно выявить специфику представлений о духовно-нравственном родительском долге, так, в стихотворении «Наказание от некоего отца к сыну своему» воспитание также предстает как непреложная обязанность родителей, продиктованная не просто любовью, но духовным страхом, стремлением оградить ребенка от греха и направить к добродетельной жизни: «Да не бу-деши слыти никоторыми пороки… И Царство Небесное во уме своем по-мышляти» [Наказание…, 1934].
Епифаний Славинецкий, действуя в рамках византийской новозаветной педагогической традиции, подчеркивает значимость родительского примера и необходимости дать детям «знание, спасающее душу», указывая, что «образ твой да будет детям как зерцало благонравия» [История педагогики, 2011, с. 288], его ученик Евфимий Чудовский разделяет эту позицию, акцентируя внимание на том, что «воспитание должно быть духовным подвигом родителей, равно как и детей» [Буш, 1918]. В отличие от них, представители «латинофильского» направления Симеон Полоцкий и Карион Истомин, рассматривают родительский долг шире, включая в него просветительскую, образовательногуманистическую составляющую: они утверждают идею природосообразного воспитания, значение личной ответственности ребенка и постепенного освобождения его воли, так, Полоцкий считает, что «родителей на сына честь не прехождает, аще добродетей их не подражает» [Антология пед. мысли, 1985, с. 335], а Истомин, следуя западноевропейским образцам, подчеркивает важность обучения как формы воспитания: «Учися ныне, прилежно учися…» [Демков, 1899, с. 74].
Таким образом, автор трактата «О Царствии Небесном…» остается в русле традиционной православной педагогики, в которой родительство мыслится как священное делание – личное соработничество со Христом в деле спасения души ребенка, тогда как в сочинениях латинофильских авторов акцент все чаще смещается с сакрального на рационально-гуманистический аспект воспитания (таблица 2).
Таблица 2
Понимание родительского воспитания как духовно-нравственного долга
|
Автор / Источник |
Содержание родительского долга |
Цитаты / Ссылки |
|
Анонимный автор сочинения «О Царствии Небесном...» |
Родитель – соучастник в деле спасения души ребенка; воспитание – долг перед Богом; неисполнение – духовное убийство |
«Отцы… детям своим убийцы бывают» [Петухов, 1893, с. 49] |
|
Автор «Наказания от некоего отца…» |
Родитель – нравственный наставник; воспитание через запреты, призывы к скромности, молитве, почитанию родителей |
«Да не будеши слыти никоторыми пороки…» [Наказание…, 1934] |
|
Епифаний Славинецкий |
Родитель должен быть нравственным примером; воспитание как просвещение во Христе; религиозное наставничество. |
«Будь (для детей)… каков хочешь видеть владыку» [История педагогики, 2011, с. 288] |
|
Евфимий Чудовский |
Воспитание – соработничество в духовном делании; цель – стяжание добродетели и знаний; отвержение латинского рационализма |
«Делом того людие сами подражайте…» [Буш, 1918] |
|
Симеон Полоцкий |
Воспитание – синтез традиции и гуманизма; упор на примере, обучении, наказании, любви как добродетели |
«Родителей на сына честь не прехождает…» [Антология пед. мысли, 1985, с. 335] |
|
Карион Истомин |
Воспитание – путь к просвещению; акцент на науке, обучении, дисциплине, важности разумного труда. |
«Учися ныне, прилежно учися…» [Демков, 1899, с. 74] |
В результате проведенного анализа текста сочинения «О царствии Небесном и воспитании чад» получено обоснование того, что родительское воспитание в трактате рассматривается в исключительно духовнонравственной парадигме, при этом акцент переносится с внешнего контроля за поведением ребенка на внутреннюю, сердечную ответственность родителя за спасение души своего чада: в данном памятнике автор не мыслит воспитание в категориях нравоучения, а выстраивает его как форму богослужебного подвига, в которой каждое действие родителя – будь то словесное наставление, молитва, личный пример или наказание – получает сакральное измерение, при этом основной педагогический императив трактата выражается в требовании нести перед Богом полную ответственность за душевное состояние и нравственное становление ребенка.
Следовательно, сочинение репрезентирует христианскую концепцию воспитания, в которой высшая цель жизни и детского развития заключается в стяжании Царствия Небесного, а не в обретении мирских знаний или социального статуса, при этом сравнительный анализ с произведениями Епифания Славинецкого, Евфимия Чудовского, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина и анонимного автора стихотворения «Наказание от некоего отца к сыну» позволил установить, что, несмотря на единство христианской парадигмы, внутри нее прослеживаются две различные концептуальные линии – византийско-русская (Славинецкий, Чудовский, а также анонимные авторы назидательных текстов) и западноевропейско-гуманистическая (Полоцкий, Истомин), различающиеся как в понимании целей воспитания, так и в трактовке роли родителя.
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
-
1. Родительское воспитание в трактате «О царствии Небесном и воспитании чад» осмысляется как духовное делание, непосредственно связанное с ответственностью за спасение души ребенка и требующее от родителя подвига внутреннего самострои-тельства.
-
2. Автор сочинения исходит из тезиса о том, что безнравственное поведение детей является виной родителей, не исполнивших своего духовного долга, а не результатом врожденных свойств личности или случайных обстоятельств.
-
3. Воспитание в сочинении мыслится как богословски обоснованное служение, в котором родитель выступает не только как наставник, но и как соучастник Божественного замысла о человеке.
-
4. Сравнение с педагогическими позициями представителей византийско-русского направления (Е. Слави-нецкий, Е. Чудовский) позволяет зафиксировать общность богословской базы и понимания воспитания как аскетического труда, осуществляемого ради спасения души ребенка.
-
5. В противоположность этому, анализ сочинений С. Полоцкого и К. Истомина демонстрирует смещение акцента с сакральной ответственности родителя на просветительскую, педагогически рационализированную про-
- грамму, сочетающую элементы традиционного наставничества с идеалами гуманистического просвещения.
-
6. Родительская ответственность в текстах представителей латинофильского направления рассматривается как педагогическая компетенция, тогда как в трактате «О царствии Небесном и воспитании чад» – как акт духовной воли и религиозного самоотвержения.
Заключение. Полученные результаты создают основу для дальнейшего изучения традиционных христианских концепций воспитания как в контексте религиозно-педагогических практик XVII века, так и в рамках современного педагогического дискурса, интересующегося метафизическими основаниями родительской ответственности, поэтому будущие исследования могут быть направлены на более широкую сравнительную характеристику восточнохристианского и западного педагогического мышления, в том числе с привлечением новых, ранее не введенных в научный оборот текстов, а также на осмысление возможностей реинтерпретации духовно-нравственного долга родителя в современных условиях.