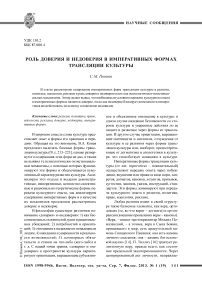Роль доверия и недоверия в императивных формах трансляции культуры
Автор: Попков Сергей Михайлович
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Научные сообщения
Статья в выпуске: 1 (19), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено содержание императивных форм трансляции культуры в религии, политике, идеологии, рекламе и роль доверия и недоверия в них как психологически-экзистенциальных механизмов. Автор делает вывод, что необходимым условием передачи культурного опыта в императивных формах является доверие, тогда как недоверие блокирует возможности императивов воздействовать на психику и поведение индивидов.
Религия, политика, право, идеология, реклама, доверие, недоверие, императивные формы
Короткий адрес: https://sciup.org/14974570
IDR: 14974570 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Роль доверия и недоверия в императивных формах трансляции культуры
В широком смысле слова культура представляет опыт и формы его хранения и передачи. Обращая на это внимание, В.А. Конев предложил выделять базовые формы трансляции культуры [9, с. 213–223], однако развернутого содержания этих форм не дал, а также не выявил те психологически-экзистенциаль-ные механизмы, с помощью которых функционируют эти формы и обеспечивается кумулятивный характер развития культуры. Ассимилируя этот подход и выделяя демонстративные, императивные, ценностно-селективные и рационально-теоретические формы передачи культурного опыта, мы анализируем содержание императивных форм и в качестве их механизмов предлагаем рассматривать доверие и недоверие.
В философии существует различное понимание «доверия» и «недоверия»: 1) как бессознательных склонностей души и рациональных убеждений; 2) потребностей и ориентаций; 3) отношения к надежным и ненадежным людям; 4) ожидания и уверенности в реальности возможностей; 5) договорных обязательств и ставки на что-либо (кого-либо) и т. д. С нашей точки зрения, «доверие» и «недоверие» в пространстве культуры характеризуют ориентации, выражающие субъектив- ное и объективное отношение в культуре: в одном случае ожидание безопасности со стороны культуры и уверенные действия по ее защите и развитию через формы ее трансляции. В другом случае ориентации, выражающие скептицизм и нигилизм, отчуждение от культуры и ее развития через формы трансляции культуры или, наоборот, предостерегающие от догматизма и апологетики в культуре, что способствует новациям в культуре.
Императивные формы трансляции культуры (от лат. imperativus – повелительный) осуществляют передачу опыта через побуждение, внушение или приказ в виде норм, запретов, догматов, канонов, лозунгов, призывов, суггестии, законов, указов, инструкций, стандартов. Эти формы доминируют при передаче культурного опыта в религии, политике, праве, идеологии, рекламе.
Любая религия имеет в своей структуре такие базисные элементы, как вера, ортодоксия (то, во что верят – догматы) и ортоп-раксия (внешние проявления веры – каноны). «Вера, – пишет протопресвитер Михаил По-мазанский, – а точнее, вера в Сына Божия, пришедшего в мир, есть краеугольный камень Священного Писания; она есть камень личного спасения; она – камень богословской науки» [14]. П. Тиллих [16] трактует религиозную веру, прежде всего, как состояние предельной заинтересованности. Через центрированный акт личности, направляе- мый интересом, раскрывается само содержание веры, обладающей такими атрибутами, как безусловность, бесконечность, абсолютность.
В истории человечества императивные культурные формы впервые получили свое бытие в религии. «На уровне императивной категории, – считает В.А. Конев, – развивается такая важная сфера культуры, как религия. …сама культурная природа религии коренится в императивности – в признании абсолютности требования Абсолюта (отсюда догмат как основное формообразование религии). …Он и возникает как развертывание абстрактного содержания императивности в представление об идеальном всепроницаю-щем Начале и Завершении всякого человеческого деяния» [10, с. 45]. Религия есть сфера сакрального, под которым понимаются Бог как онтологический Абсолют, религиозные ценности и все, что входит в систему религиозного культа. К сакральному исторически сложилось отношение почитания, благоговения, духовной любви, глубочайшего экзистенциального доверия и верования (вплоть до жертвенности), нерассуждающего принятия, что обеспечивает передачу всего религиозного в неизменном, первозданном виде (догматы, культ, ритуалы). Отблеск этой сакрально-сти опосредованно присутствует во всех культурных формах, трансляция опыта которых осуществляется через императивы. В форме своеобразных абсолютов могут выступать политические программы, законы права, пропагандистские идеи, рекламируемая мода. Объективно абсолюты поддерживаются различными институтами и действиями человека, субъективно – чувствами доверия, почитания, очарования и страха.
Догматами первоначально назывались положения философских школ, принимаемые в качестве аксиомы. В трудах христианских мыслителей слово «догмат» стало употребляться для обозначения истин вероучения, объявленных церковью. «Догматы, – пишет А. Кураев, – это выражение веры Церкви в точных формулировках, которые исключают ложные интерпретации» [11]. Источником христианских догматов являются Священное Писание и Священное Апостольское Предание. Заключенные в них истины веры образуют полноту учения веры, которая носит название «соборной веры», или «кафолического учения» и определяет «соборное сознание» Церкви. К важнейшим свойствам догматов относятся вероучительность, означающая, что в догматах содержится учение о Боге и его домостроительстве; богооткровенность, характеризующая догматы как истины, открытые самим Богом и не являющиеся плодом деятельности человеческого разума; церковность, указывающая на то, что только на Вселенских соборах христианские истины могут обрести догматический авторитет; общеобязательность, означающая, что только в догматах раскрывается сущность веры, вследствие чего они требуют признания со стороны всех верующих в ту или иную религию.
Догматы являются основанием всех церковных канонов. Как и догматы, они были сформулированы на Вселенских соборах, но в отличие от них понимаются как предписания, касающиеся церковного строя, церковного управления, к обязанностям священнослужителей и каждого христианина. Верующий должен иметь веру, разделять догматические положения и соблюдать правила поведения, существующие в религиозной культуре. Но это долженствование обеспечивается не принуждением, а доверием к Богу, его заветам, получившим форму догматов, и доверием к церкви. В передаче религиозного опыта недоверие долгое время играло негативную роль, порождая ереси и религиозные расколы. Но в эпоху Реформации именно недоверие к католической церкви привело к ее критике и возникновению новой ветви христианства – протестантизму, более соответствующему возникшему индустриальному обществу. В исламе отсутствует единое и единственное вероучение и церковь, и естественным способом бытия ислама является сектантство, что религиозно обосновывается в сунне в хадисе Пророка о 73 сектах: «И расколется моя умма на 73 секты» [7], – различающихся решением основных религиозных вопросов. Целый ряд сект выделяется по такому вопросу, как обвинение в неверии (такфир).
Императивные формы трансляции культуры действуют и в сфере политики. В политической литературе существуют две основные традиции в интерпретации происхождения и сущности доверия – культурологическая и институциональная. Первая традиция реализуется в теориях политической культуры, в которых источник политического доверия считается экзогенным, внешним, и в качестве его выделяются нормы культуры, которые усваиваются индивидом в процессе ранней социализации. Политическое доверие рассматривается как «продолжение, своего рода проекция межличностного доверия. …Макрокультуро-логические теории подчеркивают прежде всего сходство общих тенденций и характеристик национальных традиций (Traditions), норм и ценностей, в то время как микрокультуро-логические теории доверия фиксируют внимание на различиях индивидуального опыта социализации (Socialization)» [12]. Во второй традиции признается эндогенный, внутренний источник политического доверия, и его проблематика рассматривается в границах теории рационального выбора с опорой на экономическую полезность и эффективность политических институтов.
Вопрос о соотношении межличностного и политического доверия продолжает и сегодня интересовать ученых. П. Штомпка предлагает подход, согласно которому межличностное доверие является и необходимой предпосылкой, и результатом политического порядка. По его мнению, при прочих равных условиях «культура доверия» с большей вероятностью появляется при демократической системе правления. В связи с этим он формулирует два парадокса демократии: 1) доверие к демократии основано на институционализации недоверия в ее структуру; 2) институционализация недоверия не должна быть чрезмерной. Если преобладает «культура недоверия», то аппарат контроля и принуждения приходит в состояние мобилизации, что воспринимается гражданами как недоверие к ним и неполадки в системе власти и укрепляет «культуру недоверия» [17, с. 16].
Основным способом функционирования власти при демократических режимах являются выборы, в процессе проведения которых применяются различные императивные средства. Политические лидеры используют в своих выступлениях речевые акты-императивы. К ним относятся перлокуция (высказывания с оттенком убеждения или сильных эмоций), побудительные предложения-призывы, слова, имеющие характер суггестии (внушения), применяются невербальные способы общения, клятвы, лозунги, «магические слова» с положительным значением и различные тропы, особенно метафоры, и т. д. Политический дискурс имеет прагматический смысл: он направлен на то, чтобы завладеть вниманием аудитории и сориентировать ее на определенные намерения и действия.
Г.М. Заболотная [6, с. 73], связывая политическое доверие с базовыми потребностями, выделяет ряд его функций, к числу которых относит обеспечение устойчивости и интегрированности общества, упорядочивание и уравновешивание социальных и культурных разнообразий для предотвращения явлений ксенофобии, поддержание институтов власти. Политическое доверие (недоверие) является индикатором отношения масс к политическим институтам, государству, власти, ее лидерам. Недоверие к политическому и экономическому курсу страны выражается в таких процессах, как увод капиталов из страны, использование людьми иностранной валюты, массовая эмиграция, отказ от участия в политике, политические акции социального протеста, что имеет результатом проведение политической реформы, смену политического режима или политического лидера.
Основными элементами права являются закон и норма. Закон в философском понимании представляет объективную, существенную, необходимую, устойчивую, повторяющуюся связь (отношение) между явлениями. Но в обществе как системе отношений, основанной на взаимодействии свободных субъектов, закон всегда выражается в форме предписания, долженствования, императива, поскольку «долженствование представляет собой единственно возможное непосредственное детерминирующее воздействие по отношению к свободной воле» [19, с. 34]. Механизмом регуляции поведения человека посредством правовых норм является принуждение, необходимость которого объясняется тем, что «свобода не может гарантировать необходимый характер самовоспроизводства социокультурного целого» [там же, с. 32]. Правовая норма включает диспозицию, которая «сообщает юридическому закону нормативное содержание и тем самым ставит юридический закон под знак долженствования» [19, с. 34], гипотезу, которая характеризует условия правового поведения, и санкцию, которая рассматривает необходимые последствия для нарушителей правовой нормы. Нормы права используют детерминацию через долженствование и необходимость.
Вопрос о доверии (недоверии) к закону решается в плоскости проблемы соотношения закона, государства и права. Согласно одной точке зрения, государство является единственным источником права, а принимаемые им законы и есть право. Поэтому исполнение законов права опирается на доверие к государству и правовому закону. С другой точки зрения, государство и закон признаются производными от права, понимаемого как совокупность исторически сложившихся правил поведения, служащих цели торжества принципов справедливости, равенства, гуманизма и т. д. В этом случае возможно как доверие, так и недоверие к государству и закону, по критерию соответствия или несоответствия их идеалу правового государства и закона.
Императивные формы осуществляются также в пропаганде как идеологии в действии, где используется манипулирование, основанное на внушении. Б.Н. Бессонов отмечает, что «в современной литературе под манипуляцией, или манипулированием, понимается искусство управлять поведением с помощью целеустремленного воздействия на общественную психологию, на сознание и инстинкты человека» [2]. Наиболее многочисленны взгляды на манипулирование как на специфическое явление современности, укорененное в природе массового общества, основными чертами которого являются массовое производство и массовое потребление.
Многие исследователи считают следствием процессов омассовления изменение самого человека. Появляется новый тип человека, который в философии определяется как «минимальная личность», «одномерный человек», «постчеловек», «человек-муравей» и т. д. Его сущностными чертами выступают ограниченность, так как «человек привыкает реагировать только на определенные побуждения, касающиеся непосредственного выполнения его функций» [там же], конформизм, утрата способности к критическому, рациональному мышлению. Манипулирование рассматривается как единственное ненасильственное необходимое средство управления массовым сознанием и поведением. «Лозунг манипуляции человеком, – подчеркивает Г. Франке, – является одним из проявлений недоверия к образу жизни нашего времени» [2].
Американские исследователи Г.С. Джо-уэтт и В. О’Доннел определяют пропаганду как коммуникационный процесс, направленный на формирование восприятия и манипулирование поведением с целью реализации желаемой пропагандистом цели [4]. Модель пропаганды включает в себя элементы информационной коммуникации и коммуникации внушения. Первая является информацией, которая используется для целей объяснения, инструктирования, достижения взаимного понимания. Вторая представляет оказание воздействия на человека с тем, чтобы он считал внушаемый ему поступок единственно правильным и полезным для себя и доверял пропаганде. Фактор доверия играет в пропаганде важную роль. Успех пропаганды зависит от того, испытывает ли внушаемый доверие к внушающему, так как доверие является тем способом, с помощью которого манипулятор способен внушать человеку те или иные идеи. Поэтому в идеале пропагандист выступает в некотором роде вторым Я реципиента, разделяющим его потребности, ценности и т. д. М.В. Киселев на примере политической пропаганды показывает, что доверие является неотъемлемой ее частью. «Политический PR, – утверждает он, – формирует доверие к определенному политическому деятелю (политической партии), то есть создает плацдарм для дальнейшей обработки массового сознания. Политическая пропаганда на основе сформированного доверия внедряет в массовое сознание определенные политические установки и стереотипы и формирует определенный тип политического поведения» [8].
Императивные формы передачи культурного опыта осуществляются и в рекламе. «Рекламную коммуникацию, – по мнению Л.С. Ракитиной, – с точки зрения культуры, можно рассматривать как культурную форму. Реклама... предполагает не только само произведение (рекламный продукт), но и процесс его трансляции» [15, с. 14]. Реклама передает культурное содержание через побуждение культурных субъектов к определенным установкам сознания, действиям и поступкам и направлена на формирование желания обладания и мотивационной установки, управляющей потреблением. Желание-обладание обусловлено доминированием в духовном мире человека индивида прагматических и витальных ценностей. Человек, который руководствуется желанием-обладанием, живет в модусе иметь, как его именовал Э. Фромм [18]. Он считал, что сведение бытия человека к обладанию вещами свидетельствует о высокой степени его отчуждения от мира. Принцип обладания-потребления превращает социальное целое в атомизированное общество приобретателей и потребителей.
Рекламная коммуникация как процесс манипулирования знаками представляет собой практику, в основе которой находится рекламный символ. «Рекламная коммуникация, – отмечает Ракитина, – …опирается на символическое мышление, присущее каждому индивиду. Посредством подобной структурной организации реклама выполняет функцию социализации и вхождения в культуру, что является результатом усвоения определенного метатекста» [15, с. 15]. Реклама тем самым выступает как универсальный код культуры, необходимый способ, побуждающий индивида покупать вещи и потреблять их, и как универсальная система маркировки социального статуса людей.
По мнению Ж. Бодрийяра, реклама как дискурс о вещи и вещь-знак прошла несколько этапов: информативный (сообщение о характеристиках того или иного товара), «незаметное внушение» и управление потреблением. Эти три стадии составляют рекламный императив, действенность которого со стороны потребителя психологически обусловлена доверием к рекламе. «Сопротивляясь все лучше и лучше рекламному императиву, – утверждает Бодрийяр, – мы зато делаемся все чувствительнее к рекламному индикативу, то есть к самому факту существования рекламы как вторичного потребительского товара и очевидного явления определенной культуры. Именно в этой мере мы ей и “верим”: в ее лице мы вкушаем роскошь общества, яв- ленного нам как податель благ и “превзойденного” в культуре. В нас оказываются внедрены одновременно сама инстанция и ее образ» [3, с. 179]. И еще: «…не “веря” в этот товар, я верю рекламе, которая пытается заставить меня в него поверить....Отсюда проистекает вполне реальная действенность рекламы: ее логика – …логика верования и регрессии» [там же, с. 180–181].
Реклама сходна с пропагандой, ибо она тоже имеет манипулятивный характер, но побуждает человека принять соответствующую установку на доверие не в отношении политических идей, а в отношении вещей, товаров. Г. Маркузе отмечает, что в рекламном сообщении «суждения принимают форму суггестивных приказов, они скорее побуждают, чем констатируют, и ...коммуникация в целом носит гипнотический характер» [13, с. 356]. Для этого в рекламных сообщениях применяют специальные манипулятивные средства речевой коммуникации [1; 5].
Несмотря на различие средств, используемых императивными формами трансляции культуры, сущность этих форм оказывается общей: культурный опыт передается путем побуждения, внушения или приказа. Доверие (недоверие) к средствам императивных воздействий имеет специфические особенности. В религии доверие «переводит» внешнее побуждение во внутренний мир человека-индивида, где оно находит отклик в такой экзистенциальной форме, как верование. В политике и праве внушение и приказ опираются на доверие к политическим лидерам, их политическим программам и законам права, а недоверие гасится социальным страхом или, наоборот, является важным психологическим фактором изменения политики. В рекламе доверие играет роль психологического медиатора, обеспечивающего эффективность внушения, благодаря чему формируется потребительское поведение человека.
Список литературы Роль доверия и недоверия в императивных формах трансляции культуры
- Барт, Р. Рекламное сообщение/Р. Барт//Р. Барт. Система моды. Статьи по семиотике культуры. -М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004. -С. 410-415.
- Бессонов, Б. Н. Пропаганда и манипуляция как инструменты духовного порабощения/Б. Н. Бессонов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://psyfactor.org/propaganda2.htm. -Загл. с экрана.
- Бодрийяр, Ж. Система вещей/Ж. Бодрийяр. -М.: Рудомино, 1999. -224 с.
- Гаджиев, К. С. Пропаганда и внушение/К. С. Гаджиев, Г. С. Джоуэтт, В. О'Доннел. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/propaganda13.htm. -Загл. с экрана.
- Джефкинс, Ф. Реклама/Ф. Джефкинс. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -543 с.
- Заболотная, Г. М. Феномен доверия и его социальные функции/Г. М. Заболотная//Вестник РУДН. Серия «Социология». -2003. -№ 1 (4). -С. 67-73.
- Игнатенко, А. А. Эпистемология исламского радикализма/А. А. Игнатенко//Ислам и политика: сб. ст. -М.: Ин-т религии и политики, 2004. -С. 216-255.
- Киселев, М. В. Психологические аспекты пропаганды/М. В. Киселев. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://psyfactor.org/propaganda5.htm. -Загл. с экрана.
- Конев, В. А. Социальная философия/В. А. Конев. -Самара: Изд-во Самар. гос. ун-та, 2006. -287 с.
- Конев, В. А. Человек в мире культуры: (Культура, человек, образование)/В. А. Конев. -Самара: Изд-во Самар. гос. ун-та, 2000. -109 с.
- Кураев, А. Традиция. Догмат. Обряд/А. Кураев. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://lib.eparhia-saratov.ru/books/10k/kuraev/tradition/38.html. -Загл. с экрана.
- Лукин, В. Н. Политическое доверие в современном гражданском обществе: культурологические и институциональные модели/В. Н. Лукин. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://credonew.ru/content/view/500/30/. -Загл. с экрана.
- Маркузе, Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества/Г. Маркузе. -М.: REFL-book, 1994. -368 с.
- Протопресвитер Михаил Помазанский. Православное Догматическое Богословие/М. Помазанский. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.e-reading-lib.org/book.php? book=70752. -Загл. с экрана.
- Ракитина, Л. С. Культурно-антропологическое содержание рекламного символа: автореф. дис.... канд. филос. наук/Л. С. Ракитина. -Омск, 2006. -20 с.
- Тиллих, П. Динамика веры/П. Тиллих/П. Тиллих. Избранное: Теология культуры. -М.: Юрист, 1995. -С. 132-215.
- Фрейк, Н. В. Концепция доверия в исследованиях П. Штомпки/Н. В. Фрейк//Социологические исследования. -2006. -№ 11. -С. 10-18.
- Фромм, Э. Иметь или быть?/Э. Фромм//Э. Фромм. Величие и органиченность теории Фрейда. -М.: АСТ, 2000. -448 с.
- Шалютин, Б. С. Закон, юридический закон и общественный договор/Б. С. Шалютин//Вопросы философии. -2006. -№ 11. -С. 27-46.