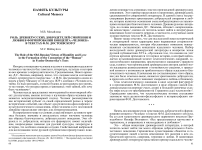Роль древнерусских добродетелей смирения и любви в формировании концепта «человек» в текстах Ф.М. Достоевского
Автор: Михайлова М.В.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Память культуры
Статья в выпуске: 69, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрено содержание концепта «человек», утвердившееся в произведениях русской публицистики XVI в., и его трансформация в художественном пространстве текстов Ф.М. Достоевского. Главное внимание уделено основным смыслообразующим элементам концепта «человек» – христианским добродетелям смирения и любви. По мнению автора статьи, для Московского государства XVI в. было характерно появление множества исторических личностей, включая государственных деятелей, которые и в жизни своей демонстрировали эти христианские добродетели, и отразили свое понимание этих добродетелей в своем публицистическом и эпистолярном наследии. Помимо этого, XVI в. характеризуется явной сотериологической направленностью и усиленными эсхатологическими ожиданиями, что оказало сильное влияние на ключевые темы, идеи и образы русской литературы. Публицисты времен Московского государства рассматривали спасение души как главную цель земного пути человека и считали способами достижения этой цели борьбу с человеческими пороками и взращивание в себе христианских добродетелей, в частности смирения и любви. Предпосылкой к спасению авторы XVI в. также считали гармоничное сосуществование царской власти и человека. Размышления русских публицистов XVI в. о смирении и любви как главных человеческих добродетелях отразились и трансформировались в историософском наследии Ф.М. Достоевского, в содержании его концепта «человек», ярко представленном в текстах писателя.
Ф.М. Достоевский, христианство, христианская этика, идеал человека, добродетель, самодержавие, литературное наследие, художественный текст, публицистика, лингвокультурный концепт, интеллектуальная биография, историософия.
Короткий адрес: https://sciup.org/149136991
IDR: 149136991
Текст научной статьи Роль древнерусских добродетелей смирения и любви в формировании концепта «человек» в текстах Ф.М. Достоевского
The Role of the Old-Russian Virtues of Humility and Love in the Formation of the Conception of the “Йитап” in Fyodor Dostoevsky’s Texts
Интерес к концепции человека в целом и к концепции идеального человека в частности был заметен в литературе, культуре и истории во все времена: в период античности, Средневековья, Нового времени. Д.С. Лихачев, например, писал, что «человек всегда составляет объект литературного творчества»1. А Ф.М. Достоевский в одном из писем к брату Михаилу от 16 августа 1839 г. сообщал: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»2.
Человек всегда представляет многогранный и многомерный объект для изучения, именно поэтому к изучению образа человека применяется междисциплинарный подход. Человек рассматривается как исторический субъект со своей определенной ролью в череде исторических событий, как объект для религиозно-философского и культурологического осмысления, образ человека в его постоянной динамике представляет интерес для литературоведения.
В современном мире в условиях существующего духовного кризиса большое значение и актуальность имеет изучение человека как образца благочестивого, добродетельного поведения. Этот образец и те добродетели, которые его формируют, имеют величайшее, непреходящее значение для русской культуры, литературы и истории, что особенно очевидно сегодня. Свойственный выбранной для исследования эпохе русской публицистики пример такого пове- дения возникает на страницах текстов произведений древнерусских книжников. Этот пример представлен в памятниках древнерусской, средневековой и современной литературы. В данной статье мы рассматриваем феномен христианских добродетелей смирения и любви, которые являются основными смыслообразующими составляющими концепции благочестивого человека. Древняя русская литература, по словам академика Д.С. Лихачева, обладает «непреходящими ценностями»3, именно их читатель может найти в литературных памятниках более позднего периода, в частности, в изучаемых нами художественных текстах Ф.М. Достоевского.
Важно также отметить, что для исследуемой нами исторической и литературной эпохи характерна явно выраженная сотериологи-ческая направленность, которая обуславливает появление вышеуказанных составляющих концепции идеального человека. Выбор исследуемой эпохи древнерусской литературы и конкретно эпохи русской публицистики XVI в., обусловлен тем, что именно на этот отрезок времени приходится тот период истории, в который наблюдается кульминационный момент эсхатологических ожиданий, эсхатологического напряжения, предчувствия и ожидания Страшного суда, в связи с чем произведения древнерусских авторов данной эпохи насыщены размышлениями о возможности спасения, о праведной жизни и о возможности приблизиться к образу идеального благочестивого человека. Ключевыми же составляющими этого образа, как уже было отмечено выше, являются христианские добродетели, и среди них особое место занимают смирение и любовь к ближнему.
Тема эсхатологического ожидания в виде аллюзий фигурирует и в произведениях Ф.М. Достоевского в виде образов «малой (индивидуальная посмертная участь души) и большой (конечные судьбы мира после его преображения на Страшном суде) эсхатологии»4. Справедливо заметить, что эсхатологические мотивы составляют значимую часть религиозно-философского и историософского мировоззрения Ф.М. Достоевского.
* * *
Начать исследование роли христианских добродетелей в формировании концепта «Человек» в текстах Ф.М. Достоевского хотелось бы со слов талантливого древнерусского церковного писателя Преподобного Иосифа Волоцкого: «Все преодолевается кротостию и терпениемъ, и смирениемъ и милосердиемъ и любовию»5.
Это - общая концепция древнерусской литературы, в которой читатель может найти так много образцов добродетельного благочестивого поведения. Гармоничное существование общества и сосуществование людей в целом невозможно без наличия в нем добродетелей кротости, смирения, терпения и любви. В памятниках древнерусской литературы представлен пример идеального челове- ка - человека смиренного, верующего, добродетельного, проявляющего и дарящего ближнему смиренную любовь и великодушие. Этот образ становится уподобленным образу Спасителя, Первообразу, абсолютному Идеалу Проявление любви к ближнему, к миру и жизнь со смирением, с радостью и тихостью - это в представлении древнерусских книжников является высшей степенью уподобления человека Богу
При анализе произведений Ф.М. Достоевского, в частности, текстов, относящихся к раннему периоду его творчества, обнаруживается типологическое сходство концепций, представленных в древнерусской литературе. Эти концепции будут развиты писателем далее, в более поздние периоды его творчества, и лягут в основу его гениальных произведений, его религиозных, философских и историософских взглядов.
Обратимся к образцам смирения и любви к ближнему, представленным в литературных памятниках Руси.
В первую очередь, важно заметить, что сами древнерусские книжники и публицисты являют собой пример смирения и смиренной любви к ближнему. Так, весьма интересно изучить в этом отношении переписку таких исторических фигур, как царь Иван Грозный и князь Андрей Курбский. Практически в каждом своем послании царь Иван Грозный призывает к смирению, демонстрирует его сам, хотя, как мы знаем, по натуре своей он является человеком вспыльчивым: «подлинную заповедь со смирениемъ даемъ»6. Известно, что ряд исследователей полагают, что Иван Грозный хотел писать «со смирением», но это ему плохо удавалось, часто «могучий темперамент царя брал верх над его “смиренной” позой»7. Возникает вполне закономерный вопрос, всегда ли царь искренен в посланиях, в своем смирении и покаянии, и нет ли в них временами гиперболизации эмоций, свойственных человеку публичному. Вопрос, безусловно, интересный и требует отдельного изучения.
Такая значимая историческая личность, как царь Иван Грозный, не случайно упомянут нами при рассуждениях о смирении. Уникальной особенностью публицистического периода древнерусской литературы может считаться наличие среди писателей исторических личностей и представителей власти. Мировоззрение человека в данный период имеет ярко выраженный сотериологический характер. Именно на базе основных принципов сотериологии и формируются представления об идеальном человеке в миру: человек в мире «дольнем» так или иначе взаимодействует с царем, царской властью. Царь (царская власть) и человек являют собой симфонию, а их синергия является значимой частью процесса спасения человека верующего8.
Тема взаимоотношений царя и человека затрагивается многими публицистами. Основной принцип публицистического периода древнерусской литературы - это идея о богопоставленности царя, о царе как о помазаннике Божьем, «власть царя уподоблялась власти 62
Божьей»9. Публицисты полагали, что подчинению царю, помазаннику Божьему, проявление смирения по отношению к царской власти - это непременное условие спасения человека, что является высшей целью его земного существования, закономерным итогом его благочестивой и праведной жизни. Царю полагалось служить «яко самому Богу»10, верой и правдой, считалось, что кто противится царской власти, тот противится Богу.
Стоит также вспомнить переписку Ф.М. Достоевского и К.П. Победоносцева, в которой писатель выражал свое согласие с взглядами К.П. Победоносцева относительно укрепления позиции православной церкви и веры в монархической России, что логически имеет следствием и укрепление христианских добродетелей. В свою очередь К.П. Победоносцев изначально считал, что Ф.М. Достоевский был едва ли не единственным писателем, который акцентировал внимание на патриотических ценностях, на вере и на любви к отечеству. Это отмечают и зарубежные исследователи: вера, по мнению К.П. Победоносцева, служит для сохранения морали, поэтому церковь должна быть всемогущей, имеющей право давать советы в разных областях жизни11.
В письме от 30 марта 1881 г. К.П. Победоносцев обращается к только что взошедшему на трон Александру III: «Его была святая воля, чтобы Вы для этой цели родились на свет»12. Он называет народ сыном царя, а царя отцом народа. И его идея об укреплении монархической формы правления путем усиления церковности находит отклик в идейном историософском наследии Ф.М. Достоевского. В «Дневнике писателя» мы читаем, что народ «кроме царя своего, в которого верует нерушимо, ни в ком и нигде опоры теперь уже не чает и не видит»13. И далее: «Тут организм, живой и могучий, организм народа, слиянного с своим царем воедино... царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя (как было, например, с династиями прежних королей во Франции), а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его»14.
Царская власть у Ф.М. Достоевского - это категория духовного порядка. Царская власть зиждется на факте союза, синергии народа, царя и церкви, и это является специфической особенностью исторического пути развития России, «воля государя есть воля Божья, и что бы ни сделал государь, он делает это по воле Божьей»15, тогда как в европейских государствах король именовался “pater et filius justitiae”16.
Отсюда следует, что аксиологические концепты творчества Ф.М. Достоевского находят свое отражение не только в художественных произведениях, но и в его публицистике. Размышления Ф.М. Досто- евского о государственности в «Дневнике писателя» затрагивают и такую важную на тот момент тему, как объединение и судьба Италии. В его понимании сильное государство - это государство, основанное на принципах духовности, святости, добродетельности, христианских ценностях и любви. С сокрушением замечает писатель, что Италия после объединения представляет собой «второстепенное королевствицо, потерявшее всякое мировое поползновение»17. Его система историософских взглядов также базируется на христианском миропонимании.
Возвращаясь к памятникам древнерусской литературы, проанализируем, как называют себя древнерусские книжники в своих произведениях: грешные, окаянные, Иван Грозный пишет: «Увы мне грешному! Горе мне окаянному! Ох мне скверному!» («Послание в Кирилло-Белозерский монастырь»), называя себя «псом смердящим» в том же послании, вопрошает: «кому учити и чему наказати, и чем просветити», если сердце скверное и душа окаянная, а сами «бо всегда въ пианьстве, в блуде, в прелюбодействе, в скверне, во убийстве, в граблении, в хищении, в ненависти, во всяком злодействе»18. Смиренный человек себя не хвалит и старается быть примером достойного и добродетельного поведения, «а мы себя сами ни хвалим, ни славим, а пишем, в какове нас достоинстве Богъ устроил; а тебя не хулим, а пишем к тебе потому так, чтобы еси познался да от неподобных дел отстал», - пишет царь в «Послании шведскому королю Юхану III 1572 г.)19. А один из главных героев романа Ф.М. Достоевского «Бедные люди» Макар Девушкин про себя пишет, что он - нижайший и покорнейший слуга.
Называя себя в своих посланиях грешным, окаянным, царь Иван Грозный признает, что по своей природе он сам является грешником, обычным человеком, борющимся с пороками и старающимся взрастить в себе добродетели. Как богопоставленный человек, царь должен являться образцом смирения, праведности, он словно выступает от лица грешников, он является мучеником во имя царства и своих подданных, поэтому от человека ожидается безусловное подчинение царю во имя богоугодной цели спасения. Здесь важно помнить о том, что на полное духовное господство на земле царь все же претендовать никак не может, поскольку он хотя и наместник Бога в мире «дольнем», посредник и помощник в деле спасения человека, но никак не замещает Бога20. По мнению исследователя А.В. Каравашкина, «многие писатели были охвачены опасениями, что может произойти, если царь перестанет соблюдать заповеди»21. Эти опасения послужили основанием для многочисленных размышлений на данную тему в трудах древнерусских книжников.
Наиболее важно отметить тот факт, что царь, проявляя смирение, является в этом отношении образцом для других людей, праведный и справедливый царь словно кормчий, который ведет своих подданных к спасению, царь, который правит «истиною и кротостию, и не 64
яростию»22, является для людей примером благочестивого поведения, образом человека идеального.
У князя Андрея Курбского тоже есть рассуждения на тему смирения и смиренной любви, предпосылкой к спасению души человеческой князь считает также соблюдение идеалов нестяжания, постничества, взращивание смиренной любви в своем сердце.
В «Книге о Святой Троице» другого средневекового автора Ер-молая-Еразма есть глава, которая так и называется «О смирении». В указанной главе можно проследить деление поступков человека на ангельские и бесовские, без смирения, трепета перед Богом, любви и кротости - «бесовско есть», с этими же добродетелями - «аггельско есть», совершается победа над страстями23. В этой же главе автором выявляется важная мысль о проявлении любви к ближнему и нравственном идеале - это творение милостыни от плодов собственного труда. Имеется в виду, конечно же, милостыня от праведного труда, а не от лихоимства.
Одной из ключевых мыслей посланий, слов митрополита Московского и всея Руси Даниила является суждение о том, что смирение и любовь крайне необходимы людям, поскольку они живут в мире, полном прелестей и соблазнов. Эти же добродетели помогают смирять плоть, сосредоточиться на своем истинном пути, на «нужной потребе» во имя Господне, «смирение бо дверь царствия небес-наго есть», - пишет митрополит Даниил24.
Митрополит Даниил указывает, что на необходимый и важный для любого благочестивого человека путь спасения, смирения и любви к ближнему помогает настроиться труд. Бог помогает тем, кто праведно и смиренно трудится, любит труд, ведь лень - один из самых страшных пороков человеческих. Важен также духовный труд над собой, иначе человек может погибнуть от духовного голода. Трудиться, конечно же, нужно с благой целью духовного саморазвития и смирения, а не с целью накопления материальных благ.
Образцы проявления такого добродетельного поведения, примеры образа человека старательного, воплощение концепции человека трудящегося в произведениях раннего периода творчества Ф.М. Достоевского читатель может найти в повести «Слабое сердце», рассказе «Ползунков», который создавался параллельно с ней, романе «Бедные люди».
Тема подаяния как примера поступка, являющегося символом любви к ближнему, также подробно рассмотрена в трудах древнерусских книжников. Митрополит Даниил, например, полагает, что акт подаяния, совершенный с чистым и искренним сердцем, со смирением - это один из способов проявить любовь, научиться смирять материальные и телесные устремления. Об этом говорят как митрополит Даниил, так и Ермолай-Еразм. «Отвещай нищему и убогому и съкрушенному в болезнехъ тихо, кротко, смиренно слово сладко, и сие принесъ подарокъ ему паче злата <.. .> Подаждь убо злато, и сре- бро, и медницу и инаа, елика возможно ти есть, точию тихостию и в веселии сердца, а не свирепствомъ, и кричаниемъ съставляй позорище на нищаго, но милость сътворимъ по возможному, хвалиться бо, рече, милость на суде, и судъ безъ милости не сътворшему милости и даай нищему в заимъ даеть Богу Даждь уломокъ хлеба, даждь слово благо, даждь умиление сердца твоего, возри нань сладко умиленыма очима, но скорби о немъ въ уме своемъ, милостыня бо всехъ добродетелей болши и вышши есть»25, - рассуждает митрополит Даниил. Подаяние несет в себе спасительную и очистительную силу
Преподобный Иосиф Волоцкий, с высказывания которого была начата данная статья, пишет, что духовная любовь, смиренная любовь - это еще одно качество, которое необходимо проявлять благочестивому человеку. Это главная добродетель, основа всех добродетелей. Без любви невозможно и недостижимо спасение человека. Малейший добрый поступок, совершенный из любви, приносит пользу всем. Бог есть любовь, а человек создан по образу и подобию Божиему и следует, таким образом, путем Господним в земном мире. На этом пути любовь помогает человеку жить в мире страстей и соблазнов и бороться с ними.
Важно также отметить, что, по мнению древнерусских авторов, любовь превращается в истинное чувство, когда она подтверждается делами. Как вера без дел мертва, так и любовь должна быть подкреплена и доказана действиями.
Митрополит Даниил часто обращается к человеку с призывами, например, с таким: «имей духовную любовь, понеже Христосъ насъ ради душу свою положи и мы должни есмы братий ради нашихъ душа своа полагати. Богъ бо любы есть и пребываай въ любви въ Бозе пребываетъ, и Богъ въ немъ. Възлюбимъ якоже сами възлю-бени быхомъ Господемъ нашимъ Иисусомъ Христомъ, помилуемъ якоже помиловани быхомъ, долготерпимъ братиамъ нашимъ, яко же и намъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ долготерпе о прегрешени-яхъ нашихъ <...> яко всехъ добрыхъ делъ болши есть любовь и основание и верхъ всемъ добродетелемъ, понеже Богъ любовь есть»26. Любовь является лейтмотивом сочинений митрополита Даниила.
С помощью смирения и любви человек также борется с пороками, которыми наполнен земной мир, с их помощью он взращивает и добродетели. Без смиренной любви невозможно становление эстетического идеала праведного человека, представленного в древнерусской словесности. Невозможно это и в произведениях Ф.М. Достоевского.
В романе «Бедные люди» рассмотренные добродетели смирения и любви к ближнему представлены наиболее ярко, они служат ключевыми моментами в становлении и формировании концепции благочестивого человека в раннем творчестве писателя и развиваются в его последующих произведениях. Роль добродетели любви к ближнему в формировании концепции человека идеального у 66
Ф.М. Достоевского не раз отмечалась и зарубежными исследователями: любовь к ближнему - это путь ко спасению, к вечной жизни, к бессмертию человеческой души27. Часто Достоевский раскрывает сущность мотива любви к ближнему, всепрощения в тех сюжетах, где им, кажется, совсем не место (душная гнетущая атмосфера петербургских кварталов)28.
Человек смиренный - такое определение можно дать Макару Девушкину, главному герою романа. Добрый, незлобивый, ко вреду ближнему неспособный, скромный - такую характеристику дает Макару Варя Доброселова, Макар соглашается с ней, говоря: «Я себе ото всех помаленьку живу, втихомолочку живу. Я-то не ропщу и доволен. Оно достаточно... Я привык, потому что я ко всему привыкаю, потому что я смирный человек»29.
По мнению Макара, всякое состояние определено Всевышним на долю человеческую. Способности устроены самим Богом, так полагает Макар и живет в горести и в радости, уповая на волю Божью, со смирением и кротостью принимая данное ему. Макар - образец сострадания, христианской любви к ближнему, усердной любви друг к ДРУГУ, которая покрывает множество грехов и, как уже было отмечено выше, является лейтмотивом древнерусской литературы. Этот же мотив мы видим и у Ф.М. Достоевского.
Макар вечно болеет чужим горем. Так, его сокрушает, например, положение дел у его соседа Горшкова, у него надрывается сердце при мыслях о его семье, он говорит о них: «люди смирные, Горшков седенький, маленький, ходит в таком истертом платье, что больно смотреть, еще хуже моего»30.
Типологически близок к образу Макара и образ Васи Шумко-ва из повести «Слабое сердце». Вася является символом радости и переживания за других, за всех, любви ко всем, для него характерна альтруистичность характера, основное его желание - чтобы все вокруг были счастливы. Близок к нему и образ Ползункова из одноименного рассказа «Ползунков». Вася Шумков отличается от героев Макара Девушкина и Ползункова возрастом, он молод, но уже демонстрирует христианские добродетели - любовь к ближнему, желание не сидеть в праздности. В отличие, например, от Макара Девушкина, который живет, принимая на себя удары судьбы, Вася на первый взгляд изначально счастлив, живет не в нужде, не страдает от одиночества, искренне любит Лизу. При этом они схожи с Макаром в своих добродетелях: всегда готовы прийти на помощь ближнему, принимают с радостью и смирением то, что дает им Господь.
Макар готов сострадать и помочь любой ценой. Есть пример, когда он отдает своему соседу Горшкову последние 20 копеек, проявляет к нему сочувствие и любовь Христа ради: «А всего-то у меня и оставалось двадцать копеек, да я на них рассчитывал: хотел завтра на свои крайние нужды истратить <.. .> Ну, я ему и вынул из ящика и отдал свои двадцать копеек, маточка, все доброе дело!»31.
Варя Доброселова также несет в себе смиренную любовь к ближнему, великодушие и сострадание. Очень показательна в этом плане сцена с купленными почти на последние деньги книгами в подарок Покровскому Она отдает книги старику, его отцу, без тени сомнения. Ее мысли при этом такие: «если сын ваш будет доволен, если вы будете рады, то и я буду рада, потому что втайне, в сердце-то моем, буду чувствовать, будто и на самом деле я подарила»32.
Тема подаяния в «Бедных людях» раскрыта ярко и подкреплена описанием многочисленных ситуаций, в которых герои демонстрируют любовь к ближнему, отдавая и делясь. А как уже было отмечено выше, древнерусские авторы пишут, что подаяние - это один из способов смирения себя, проявления любви к ближнему, шаг к спасению души.
И Варенька, и Макар всегда готовы совершить акт подаяния. Макар сообщает Варе, что он откладывает деньги, и у внимательного читателя вполне может возникнуть закономерный вопрос «зачем?» и могут появиться мысли о пороке стяжания, но ответ дан в письмах Макара: он откладывает, чтобы отдавать. Оба готовы отдать последнее, поделиться с ближним с любовью и смирением, оставив себе самую малость или же совсем ничего. Вспомним тут «Послание к Филиппийцам» апостола Павла: «не о себе только каждый заботься, но и о других» (Фил. 2:4). И Варенька, и Макар живут по заветам Священного Писания. Варя пишет: «Это почти последнее все наше, а я Бог видит, как желала бы помочь вам теперь в Ваших нуждах»33.
Макар также готов помочь ближнему любой ценой: «Я все превозмогу, я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги, навяжусь на работу... вам себя изнурять не дам». При этом в том же письме он говорит, что сам «в крайне бедственном положении, то есть решительно ничего подобного никогда со мной не бывало»34. В одной из очень примечательных сцен Макар не смог подать милостыню мальчику с шарманкой, поскольку у самого не было. И это очень сокрушает его.
Варя считает, что благодеяния Макара внушены ему состраданием и родственной любовью. И это действительно так. Духовное преображение героев, их духовное спасение возможно посредством сострадания и проявления любви к ближнему. Эта тема, возникнув в ранних произведениях Ф.М. Достоевского, является концептуальной доминантной составляющей его творческого наследия и сквозным лейтмотивом проходит сначала через повести, рассказы и романы начального периода творчества и развивается в более поздних его произведениях, в его гениальном Пятикнижии.
Вспомним, к примеру, эпизод с Грушенькой и луковкой, поданной «одной бабой злющей-презлющей» нищенке или же момент, когда Иван Карамазов после разговора со Смердяковым, который полностью меняет и переворачивает его сознание, спасает замерзшего мужика, до которого ему ранее не было решительно никакого 68
дела. Луковка является интертекстным символом великодушия, подаяния, смирения, любви к ближнему, этот символ служит для более глубокого восприятия и понимания текста, в данном случае символ луковки помогает читателю увидеть в череде обычных событий нечто духовное, сакральное, вечное. Старец Зосима также упоминает этот символ, говоря о том, что подаяние со смирением - это путь к спасению. Он ведет речь о рае и пребывании в нем: «Я луковку подал, вот я и здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке»35.
Спасти себя можно спасая других людей. Здесь явно прослеживаются сотериологические идеи древнерусской литературы, русской истории и публицистики, подробно рассмотренные нами ранее. В текстах Ф.М. Достоевского, таким образом, представлено художественное осмысление и переосмысление важнейших аксиологических концептов древнерусской литературы.
* * *
В процессе размышления над темой репрезентации древнерусских добродетелей смирения и любви в творчестве Ф.М. Достоевского и их роли в формировании его концепта «человек» наше основное внимание было сосредоточено на романе «Бедные люди», поскольку именно в нем нам столь ярко явлены христианские добродетели смирения и любви, представленные в древнерусской литературе. Тут уместно вспомнить слова исследователя творчества Ф.М. Достоевского В.Н. Захарова о том, что в «Бедных людях» явлено новое слово о человеке и мире, ведь герои романа «несут в своей душе тайну, и эта тайна - православное миропонимание»36. Они говорят друг с другом на языке христианской любви к ближнему, сострадают, помогают, делают добро ближнему. Невзирая на тяготы и невзгоды, живут, благодарят и славят Бога, являют читателю феномен древнерусских христианских добродетелей, столь ярко представленных в художественном пространстве текстов Ф.М. Достоевского, его публицистическом и историософском наследии.
Список литературы Роль древнерусских добродетелей смирения и любви в формировании концепта «человек» в текстах Ф.М. Достоевского
- Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. Санкт-Петербург, 2015. С. 5.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 15. Санкт-Петербург, 1996. С. 21.
- Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. Санкт-Петербург, 2015. С. 267.
- Дергачева И.В. Эсхатологический хронотоп Федора Достоевского // Quaestio Rossica. 2019. Т. 7. № 4. С. 1144.
- Просветитель, или Обличение ереси жидовствующихъ: Творение преподобнаго отца нашего Иосифа, Игумена Волоцкаго. Казань, 1896. С. 167.
- Послания Ивана Грозного. Москва; Ленинград, 1951. С. 149–153.
- История русской литературы X – XVII вв. Москва, 1979. С. 323-325.
- Михайлова М.В. «Муж благоверный» в поэтике русской публицистики XVI века // Вестник Литературного института им. А.М. Горького. 2014. № 1. С. 37, 38; Михайлова М.В. Образ «мужа благоверна» в русской публицистике XVI века // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 18 (704). С. 173–182.
- Юрганов А.Л. Опричнина и Страшный суд // Отечественная история. 1997. № 3. С. 56–57.
- Домострой: По рукописям Императорской публичной библиотеки. Санкт-Петербург, 1867. С. 11.
- Courtney W.L. The Development of Maurice Maeterlinck and Other Sketches of Foreign Writers. London, 1904. P. 167.
- К.П. Победоносцев и его корреспонденты: Письма и записки. Т. 1. Москва; Петроград, 1923. С. 45.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 14. Санкт-Петербург, 1995. С. 490.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 14. Санкт-Петербург, 1995. С. 492.
- Герберштейн С. Записки о Московии. Москва, 1988. С. 29.
- Канторович Э.Х. Два тела короля: Исследование по средневековой политической теологии. 2-е изд. Москва, 2015. С. 175, 177.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 14. Санкт-Петербург, 1995. С. 167.
- Послания Ивана Грозного. Москва; Ленинград, 1951. С. 162.
- Послания Ивана Грозного. Москва; Ленинград, 1951. С. 159.
- Михайлова М.В. «Муж благоверный» в поэтике русской публицистики XVI века // Вестник Литературного института им. А.М. Горького. 2014. № 1. С. 24–40; Михайлова М.В. Образ «мужа благоверна» в русской публицистике XVI века // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2014. № 18 (704). С. 173–182.
- Каравашкин А.В. Власть мучителя: Конвенциональные модели тирании в русской истории: XI – XVII вв. // Россия XXI. 2006. № 4. С. 72.
- Ржига В.Ф. Литературная деятельность Ермолая-Еразма // Летопись занятий Археографической комиссии за 1923 – 1925 годы. Вып. 33. Ленинград, 1926. С. 199.
- Попов А. Книга Еразма о святой Троице // Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. 1880. Кн. 4. С. 98.
- Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. Москва, 1881. С. 44.
- Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. Москва, 1881. С. 27.
- Жмакин В.И. Митрополит Даниил и его сочинения. Москва, 1881. С. 15.
- Scanlan J.P. Dostoevsky the Thinker. Ithaca (NY); London, 2002. P. 29.
- Bercken W., van den. Christian Fiction and Religious Realism in the Novels of Dostoevsky. London, 2011. P. 15.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 1. Ленинград, 1988. С. 34, 71.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 1. Ленинград, 1988. С. 42, 43.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 1. Ленинград, 1988. С. 123.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 1. Ленинград, 1988. С. 65.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 1. Ленинград, 1988. С. 110.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 1. Ленинград, 1988. С. 103–105.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 15 т. Т. 9. Ленинград, 1991. С. 394, 395.
- Захаров В.Н. Имя автора – Достоевский: Очерк творчества. Москва, 2013. С. 79.