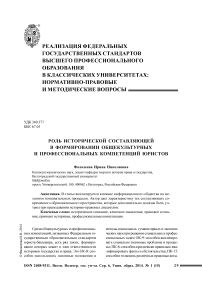Роль исторической составляющей в формировании общекультурных и профессиональных компетенций юристов
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние информационного общества на механизм познавательных процессов. Автор дает характеристику тех составляющих современного образовательного пространства, которые дополнительно должны быть учтены при преподавании историко-правовых дисциплин.
Историческое сознание, клиповое мышление, правовое сознание, принцип историзма, профессиональные компетенции
Короткий адрес: https://sciup.org/14973964
IDR: 14973964 | УДК: 340:377
Текст научной статьи Роль исторической составляющей в формировании общекультурных и профессиональных компетенций юристов
Среди общекультурных и профессиональных компетенций, названных Федеральным государственным образовательным стандартом юриста-бакалавра, есть ряд таких, формирование которых лежит в зоне ответственности историков государства и права. Это ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; ПК-6: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; ПК-15: способен толковать различные правовые акты.
Строго говоря, история государства и права не имеет специфических, только ей присущих задач по формированию указанных компетенций. Основной задачей изучения истории государства и права для студентов-юристов является выработка навыков критики и толкования правового источника, а также усвоения логики исторического развития государственно-правовых институтов и процессов. При этом конечной целью внедрения компе-тентностного подхода является формирование навыков самостоятельной работы, способности к самообучению.
Названная цель не является абсолютно новой в педагогике высшей школы. Интересно, что уже в средневековой Византии в юридическом образовании возникает тенденция подготовки юристов к самостоятельному познанию права, исследовательскому взгляду на профессиональную деятельность. Так, византийский ученый-юрист Михаил Пселл (1018– 1078 гг.) учил будущих юристов не столько знать законы, сколько уметь их анализировать, понимать суть, рассматривать правовые предписания в контексте общего назначения законодательства [9, с. 65]. Сегодня при решении аналогичных задач мы сталкиваемся с рядом проблем нового порядка.
Первой трудностью в формировании каких бы то ни было компетенций следовало бы назвать относительно низкий базовый уровень первокурсников. Но корить за это школьное образование так же непродуктивно, как обижаться на вчерашний дождь. Приходится воспринимать наличный образовательный уровень студентов как данность, а значит, искать в нем не только отрицательные, но и положительные, пока скрытые от нас характеристики.
Одной из важнейших таких черт, однозначно оцениваемых негативно, является клиповое сознание. Это понятие используется сейчас достаточно широко. Но данное словосочетание вместе с «клиповым мышлением» требует некоторых пояснений. При этом типе сознания и мышления человек оперирует не понятиями и логическими связями, а, главным образом, ситуациями, картинками и эмоциями. Клипового человека интересует не столько существо происходящего события, сколько текущая ситуация и ее прагматичность. Такой человек не может длительное время со- средоточиваться на какой-либо информации, у него снижена способность к анализу. Отсюда и некритичность восприятия. Естественно, с таким мышлением не рождаются. Оно вырабатывается при длительном потреблении информации в мозаичном и препарированном виде через каналы СМИ, Интернет [14]. Но, думается, следует учитывать, что «экономия» мышления – всего лишь способ адаптации к резко меняющемуся коммуникативному пространству. Это ответ на вхождение Интернета в нашу повседневность, когда насыщенность информационной среды растет по экспоненте. Cовременное поколение студентов выросло перед экраном телевизора, где каждую четверть часа логика повествования прерывается рекламной паузой. Разрыв преемственности информации сопровождается потерей внимания и в итоге потерей исторической памяти, то есть самого чувства пространственно-временного континуума. Студенты, устав от рекламы, предпочитают сегодня прямой доступ в Интернет, что создает у них иллюзию управления своими предпочтениями. Но и тут их ожидают аналогичные ловушки. Вот как об этом рассуждают интернет-спе-циалисты: «Сегодня никто не смотрит длинных роликов, контент должен быть мелко гранулированным, легкоусвояемым, читаться наискось, состоять из привычных образов, мемов и архетипов. При этом память среднего интернетчика окончательно стала короткоживущей, никто не помнит даже того, что было в прошлом месяце, не говоря уж о прошлом годе» [10].
Следующий фактор, серьезно влияющий на формирование профессиональных компетенций юриста, – все возрастающая скорость не только технологических, но и социокультурных изменений. Это влечет за собой девальвацию традиции – корневой основы преемственности. Сам процесс научения как трансляция опыта предыдущих поколений будущим воспринимается студентами как неактуальный. Это также способствует потере «ощущения» истории. Философы же отмечают, что «защитный пояс» традиций и обычаев призван смягчить темп инноваций через создание виртуального пути возврата назад [7, с. 109].
Учитывая названные факторы, детерминирующие новые условия образовательной среды, нетрудно заметить, как актуализируется задача изучения цикла исторических дисциплин для юриста. Как писал В.О. Ключевский, знание своего прошлого есть «не только потребность мыслящего ума, но и существенное условие сознательной и корректной деятельности. Вырабатывающееся из него историческое сознание дает обществу, им обладающему, тот глазомер положения, то чутье минуты, которые предохраняют его как от косности, так и от торопливости» [4, с. 33].
Осмыслить и оценить объективное содержание истории государства и права невозможно без опоры на принцип историзма. Согласно данному принципу и методу все государственно-правовые явления рассматриваются в их конкретной полноте возникновения и развития и при их сопоставлении друг с другом либо каких-то их этапов и элементов. Принцип историзма позволяет рассматривать государственно-правовые феномены в единой исторической перспективе, увидеть тесную «связь времен», понять, что ничто не возникает на голом месте [1].
Историческое сознание, как его понимают сторонники историзма, основывается на трех принципах. Первый, и наиболее фундаментальный из них – это признание различий между современной эпохой и всеми предыдущими: в любом научном исследовании выступают именно отличия прошлого от настоящего. Вторым компонентом исторического сознания является контекст: предмет истории нельзя вырывать из окружающей обстановки – таков основополагающий принцип работы историка. Третий фундаментальный аспект историзма – это понимание истории как процесса [11, с. 47]. Историческое сознание, по мнению современных историков права, – важнейший фактор социальной жизни, исторической памяти народа и национальной идентичности. Поэтому историческое образование, играющее ключевую роль в формировании исторического сознания, должно стать частью системы национальной безопасности [5, с. 79]. Но студентов сегодня все труднее «замоти-вировать» мнением авторитетов о важности знания истории. В современном российском обществе изменяется восприятие исторического знания, которое сегодня выступает не в форме констатации абстрактной научной ис- тины, а как способ утверждения определенного ценностного и методологического выбора, определенной исторической версии, определенной интерпретации прошлого. Если для старшего поколения граждан России советское прошлое еще является и будет являться их общим прошлым, которое в значительной степени определяет их идентичность, то для молодого поколения, отмечают специалисты, ситуация принципиально другая. Самосознание и идентичность российской молодежи формируются в условиях суверенной российской государственности. Для современных студентов общее советское прошлое, которое в значительной степени определяет самосознание россиян старшего поколения, относится к сфере исторической памяти. В этой связи вопросы сохранения коллективной исторической памяти, которая в значительной степени является основой культурной преемственности поколений, основой национально-гражданской идентичности, приобретают особую значимость [3, с. 90–91].
Добавим к этому некоторые нейтральные и положительные черты, привнесенные информационным обществом с клиповым мышлением: способность нелинейного, многомерного восприятия, обостренное чувство сопричастности текущему моменту, осознание наличной дискретности правового пространства по образцу обычно-правовых систем (то, что разрешено или даже предписано делать на границе «ойкумены», запрещено у «очага», например, в частной фирме и т. п.). Историки и философы отмечают такую немаловажную деталь: где ценится время – высоко ценится и право [13, с. 22]. Тотальность времени заключается в историческом единстве темпорального изменения, которое объединяет прошлое, настоящее и будущее [12, с. 5]. Думается, что указанные черты по-прежнему составляют каркас исторического сознания современных студентов. Они хорошо представляют себе, что такое «история поисковых запросов», «кредитная история», наконец, «история болезни». Через такие «прагматические» мостики, как через вешки на болоте постмодернистской относительности, приходится сегодня выстраивать «актуальный принцип историзма». Бесспорно, что преподавателям милее более академичные «репер- ные точки», но на цитаты классиков, увы, аудитория отзывается реже.
Сегодня мы становимся свидетелями того, как исполняется предсказание канадского философа Маршалла Маклюэна. В своей работе «Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего» он писал, что развитие электронных средств коммуникации вернет человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность знаков перестанет быть базой нашей культуры. Сталкиваясь с информационными перегрузками, мы не имеем другой альтернативы, кроме восприятия по образцам (стереотипам) [6].
На наш взгляд, это актуализирует изучение дописьменных правовых источников, раз уж они ворвались в жизнь молодых через Интернет. Общая варваризация культуры активно манифестируется сегодня через «вспоминание» традиционных семиотических механизмов. Даже современные правовые формы студенты склонны осваивать через символы, опрощенно-казуистично. Они вынуждены на веру принимать смыслы и знаки нового конструкта реальности, часто не рефлексируя над знаком и его связью с означаемым (использование кибербанка, регистрация в частных электронных библиотеках, идентификация в соцсетях и т. п.). Следовательно, выработка навыка критики источника становится еще более востребованной [8, с. 131].
Призывы педагогов к борьбе с клиповым мышлением свидетельствуют, что характерное для молодежи соотношение концентрации и переключаемости не соответствует идеальным представлениям преподавателей об этой пропорции. Тем более что всегда возникает вопрос: если именно данное соотношение умения углубляться и умения переключаться является оптимальным, то оптимальным для каких целей, для чего? Для культурологов становится очевидным, что «клиповое мышление» – то есть усиленное развитие навыка быстрого переключения за счет длительного сосредоточения — более соответствует той информационной среде, в которой обитает современный студент [14]. Данный вывод входит в резонанс с наблюдением Ю.Ю. Ветют-нева, который обратил внимание на дихото-мичность сознания практикующего юриста. По его мнению, двойственность как раз и яв- ляется ключом к пониманию выражения «человек юридический»: его основная характеристика – это именно способность беспрепятственно переключаться из модуса критики в модус доверия. То есть юридическое мышление по определению должно обладать «двухтактной частотой» [2, с. 167].
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что приведенные наблюдения позволяют строить более оптимистичные прогнозы по поводу совмещения двух познавательных функций современных студентов – быстроты переключения и глубины сосредоточения. Изменилась пропорция, но суть сохраняется. Хочется верить, что современное поколение студентов-юристов при всей сложности своего положения обладает достаточными ресурсами для получения успешного профессионального образования, в том числе и формирования исторического сознания. Благодаря блоку историко-правовых дисциплин связь времен можно надежно укрепить и сохранить с учетом всех вышеописанных особенностей образовательного пространства и восприятия обучающихся.
Список литературы Роль исторической составляющей в формировании общекультурных и профессиональных компетенций юристов
- Берман, Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования: пер. с англ./Г. Дж. Берман. -2-е изд. -М.: Изд-во МГУ: Инфра-М -Норма, 1998. -624 с.
- Ветютнев, Ю. Ю. Аксиология правовой формы/Ю. Ю. Ветютнев. -М.: Юрлитинформ, 2013. -200 с.
- Вяземский, Е. Е. Историческая политика государства, историческая память и содержание школьного курса истории/Е. Е. Вяземский//Проблемы современного образования. -2011. -№ 6. -С. 89-97.
- Ключевский, В. О. Русская история: полный курс лекций. В 2 кн. Кн. 1/В. О. Ключевский; послесл. и коммент. А. Ф. Смирнова. -М.: Олма-Пресс, 2002. -733 с.
- Летяев, В. А. Историческое сознание -структурообразующий элемент гуманитарной безопасности страны/В. А. Летяев//Историческая наука и образование в условиях современных вызовов: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Казань, 22-23 нояб. 2012 г.). -Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2012. -С. 78-83.
- Маклюэн, М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего = The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man/М. Маклюэн. -М.: Академический проект, 2005. -496 с.
- Мелик-Гайказян, И. В. Проблемы образования как последствия темпа социокультурных трансформаций/И. В. Мелик-Гайказян//Высшее образование в России. -2013. -№ 2. -С. 102-115.
- Мелик-Гайказян, М. В. Манипуляция культурной памятью -результат управления социальными технологиями в обществе знаний/М. В. Мелик-Гайказян//Высшее образование в России. -2013. -№ 2. -С. 126-131.
- Пономарчук, П. Н. Влияние особенностей юридической деятельности на содержание исследовательской компетенции студентов-юристов/П. Н. Пономарчук//Право и образование. -2010. -№ 1. -С. 62-69.
- Потеря внимания и памяти, «клиповое мышление» присущи также сахалинцам. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://sakhalinmedia.ru/news/politics/20.01.2013/251655/poterya-vnimaniya-i-pamyati-klipovoe-mishlenieprisuschi-takzhe-sahalin.html. -Загл. с экрана.
- Репина, Л. П. Историческая память и современная историография/Л. П. Репина//Новая и новейшая история. -2004. -№ 5. -С. 39-51.
- Рюзен, Й. Утрачивая последовательность истории (некоторые аспекты исторической науки на перекрестке модернизма, постмодернизма и дискуссии о памяти)/Й. Рюзен//Диалог со временем: альм. интеллект. истории. Вып. 7. -М., 2001. -С. 8-26.
- Сигалов, К. Е. Право и история: методологические функции исторической науки/К. Е. Сигалов//История государства и права. -2011. -№ 7. -С. 22-26.
- Фрумкин, К. Г. Откуда исходит угроза книге/К. Г. Фрумкин//Знамя. -2010. -№ 9. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://magazines.russ.ru/znamia/2010/9/index-pr.html (дата обращения: 23.04.13). -Загл. с экрана.