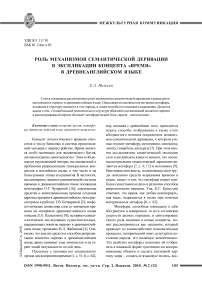Роль механизмов семантической деривации в экспликации концепта «время» в древнеанглийском языке
Автор: Нильсен Е.А.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению роли механизмов семантической деривации в репрезента- ции концепта «время» в древнеанглийском языке. Описываются основные когнитивные метафоры, входящие в структуру концепта в этот период, а также способы его языкового выражения. Делается вывод о том, что наибольшей значимостью в структуре образной составляющей концепта «время» в рассматриваемый период обладает метафорический блок «время - вместилище».
Концепт, время, метафора, древнеанглийский язык, архаичное мышление
Короткий адрес: https://sciup.org/14969457
IDR: 14969457 | УДК: 811.11101
Текст научной статьи Роль механизмов семантической деривации в экспликации концепта «время» в древнеанглийском языке
Концепт онтологического времени относится к числу базисных в системе представлений человека о мироустройстве. Время является особо значимым для человеческого бытия, оно многогранно, многоаспектно. Этим и объясняется неугасающий интерес исследователей к проблемам репрезентации темпоральных концептов в английском языке, в том числе и на более ранних этапах его развития. В частности, исследованию лексико-семантической системы времени в древнеанглийском языке посвящена монография О.Г. Чупрыной [16]; лексические средства и композиционные приемы создания картины времени в древнеанглийском эпосе рассмотрены в работах Т.В. Бочкаревой [2]; мифопоэтическая символика слов со значением времени на материале древнеанглийского языка описана Л.А. Плахотнюк [10]; историко-семасиологическое исследование существительных, выражающих понятие «время» в древнеанглийском языке, проведено Н.Л. Жабицкой [4]. Очевидно, что анализ средств и способов репрезентации концепта «время» в древнеанглийском языке давно занимает умы лингвистов и не теряет своей актуальности по сей день.
Поскольку у человека нет специального органа для восприятия времени [1, с. 51; 6, c. 62], ему, начиная с древнейших эпох, приходится искать способы отображения в языке этого абстрактного понятия посредством механизмов семантической деривации, к которым ученые относят метафору, метонимию, синекдоху, литоту, гиперболу, катахрезу [7]. При этом многие исследователи семантической эволюции слов в английском языке отмечают, что основными приемами семантической деривации являются метафора [7, с. 4; 13] и метонимия [9]. Некоторые лингвисты, посвятившие свои труды описанию средств выражения времени в языке, пишут о том, что метафора играет наиболее существенную роль в развитии способов репрезентации времени. Так, К.Г. Красухин отмечает, что время, как любая нематериальная вещь, выражается в языке при помощи материальных метафор [6, c. 63].
Метафора, способная совмещать в себе абстрактное и конкретное, то есть логические сущности разных порядков, и синтезировать такого рода сведения в новые концепты, может рассматриваться как механизм, который приводит во взаимодействие познавательные процессы, эмпирический опыт, культурное достояние народа, его языковую компетенцию. Это свойство метафоры позволяет ей отобразить в языковой форме чувственно не воспринимаемые объекты и сделать наглядной картину мира – создать ее языковую модель, вос- принимаемую за счет вербально-образных ассоциаций составляющих ее слов и выражений.
Как пишет В.И. Постовалова, «картина мира не есть зеркальное отображение мира и не открытое “окно” в мир, а именно картина, то есть интерпретация, акт миропонимания... она зависит от призмы, через которую совершают мировидение» [11, c. 55]. Роль такой призмы, по мнению В.Н. Телия, наиболее успешно выполняется метафорой, поскольку она способна обеспечить рассмотрение вновь познаваемого через уже познанное, зафиксировать в виде значения языковой единицы. В этом переосмыслении образ, лежащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы с характерными именно для данного образа ассоциациями, которые предоставляют субъекту речи широкий диапазон для интерпретации обозначаемого и для отображения сколь угодно тонких «оттенков» смысла [12, c. 179].
Механизмы семантической деривации в древних языках имеют специфику, которая объясняется тем, что «познавательные процессы людей, живущих в условиях менее сложных социально-исторических укладов, включаются в иную деятельность и строятся существенно иначе, чем познавательные процессы, известные нам по нашему собственному опыту... <...> Ведущее место в них занимают не отвлеченные, вербально-логические, а конкретные, наглядно-практические операции, и именно они кладутся в основу существенных связей между предметами» [8, c. 53].
Многие лингвисты отмечают, что в древних, в частности в германских, языках в основе метафоры лежит первоначальное отождествление предметов/явлений/эмоций и т. д. [5; 14].
Рассмотрим специфику основных когнитивных метафор, входящих в структуру концепта «время» в древнеанглийском языке, а также роль механизмов семантической деривации в экспликации данного концепта в этот период. Основным источником для отбора языкового материала в исследовании послужил словарь древнеанглийского языка под редакцией Дж. Босворта.
Наиболее продуктивной моделью семантической деривации в древнеанглийский период в рамках концепта «время», как показывают материалы нашего исследования, является «время – вместилище» или «время – кон- тейнер», в котором аккумулируются определенные события, действия, обстоятельства, имеющие важное значение для носителей языка. Так, например, лексема dæg, по данным словаря древнеанглийского языка, имела не только значение «a day», но и «the daily service of the early English church», как в предложении Dauid cwæþ seofon sīþon on dæg ic sang þē, Drihten, to lofe... (Bosworth, р. 193). Поскольку в результате христианизации Великобритании церковные обряды стали играть важную роль в жизни жителей страны, день стал ассоциироваться с таким значимым событием, как ежедневная служба в церкви, включающая конвенциональные атрибуты и действия – чтение псалмов и песнопения во славу Господа.
Среди темпоральных лексем, содержащих в своей семантике элементы религиозного характера, можно назвать также fæsten-dæg (fast-day) / fæsten-tīd (fast-tide or time) / fulluht-tīd (time of baptism, baptismal time) / gang-dagas (Perambulation days, the three days before Ascension day or Holy Thursday, Rogation days when the boundaries of parishes and districts were traversed) / ge-bēd-dagas (prayer-days) / mæsse-tīd (a time at which mass was said) / palm-sunnandæg (Palm Sunday) / sweotolung-dæg (Epiphany) / tēođung-dagas (Tithing-days, days amounting to a tithe of the year, a term applied to the thirty-six week days in the six weeks of Lent from the first Sunday in Lent until Easterday) / twelfta (ord. num. Twelfth, in reference to Twelfth night, the twelfth day after Christmas, Epiphany, the first of January) / twelfta-nihte (ord. num. Twelfth, in reference to Twelfth-night, the twelfth day after Christmas, Epiphany, the first of January) / þeorf-dæg (a day on which unleavened bread was to be eaten) / ūhtan-tīma (the time of nocturnes) / ymbren-dæg (an Ember day) / ymbren-wicu (a week in which Emberdays fall) и др. (Bosworth). Все эти слова номинируют определенные отрезки времени, наполненные событиями, важными как для служителей церкви, так и для простых христиан – дни поста, Крещение Господне, Вербное воскресенье, время крещения и т. п.
Действие механизмов метонимизации можно проследить в словосочетаниях ēagan beorht и ēagan bryhtm, переводимых в словаре древнеанглийского языка как «an eye’s glance, a moment» и «an eye’s twinkle, a moment» соответственно (Bosworth, р. 226). В семантике словосочетаний содержится указание на то, что время измеряется действием, которое можно успеть совершить за названный отрезок времени, а именно, момент, миг равен отрезку времени, за который можно успеть моргнуть или мельком взглянуть на что-то.
В результате метонимии у существительного hungor-gēar появляется значение «a year of famine» (ibid., р. 567). По-видимому, во времена англосаксов голодные годы случались довольно часто, что вызвало необходимость образования лексической единицы, способной называть такой период времени, характерной чертой которого был недостаток продуктов питания и связанные с этим обстоятельством страдания людей.
В словаре древнеанглийского языка зафиксированы и другие единицы, номинирующие отрезки времени, наполненные неприятными событиями, несчастьями, страданиями, оплакиванием умерших, горем, невзгодами, бедствиями: earfoþ-hwīl (a time of hardship) / earfoþ-þrag (the time of tribulation) / hēofung-dæg (a day of mourning) / hēofung-tīd (a time of mourning) / langung-hwīl (a time of longing or weariness) / orleg-stund (a time of trouble, time when the unfavourable decree of fate is carried out) / þræc-hwīl (a time of suffering, a hard time) / þrowing-tīd (1. the time at which a person suffered; 2. the anniversary of the time when someone suffered) / þrowing-tīma (a time of suffering) / un-tīma (adj. unhappy, unfortunate, ill-timed) / wræc-fæc (a time of misery) и др. (Bosworth). Очевидно, что жизнь англосаксов была полна тягот, лишений, войн и борьбы за выживание, что нашло отражение, в частности, в темпоральной лексике.
Поскольку германские племена часто находились в состоянии войны, существовала необходимость обозначения средствами языка отрезков времени, наполненных военными действиями. К таким номинациям относятся gefeoht-dæg (a fight-day, day of battle) / gewin-dæg (a labour or trouble day, battle day) / orleg-hwīl (battle-time, time of war) / sige-hwīl (a time of victory, the hour of victory) / winn-dæg (a day of labour or struggle) и др. (Bosworth). Достаточно долгие отрезки мирного времени были репрезентированы в языке с помощью таких единиц, как friþ-gēar (a year of peace, or jubilee)
(Bosworth, р. 338), передававшей представление о годе как о святом или заполненном событиями мирной жизни.
Ряд темпоральных лексем номинировал отрезки времени, наполненные радостными событиями – праздниками, пиршествами, например: frēols-dæg (a feast day, festival day) / frēols-gear (a feast-year, jubilee) / hēahrēols-fid (the time of a high festival) / m S rsung-fima (a time of celebration, glorification) / mæsse-dæg (a festival) / symbel-dæg (1. a feast day, a day of a banquet; 2. a festival) / weorþung-dæg (a day for the bestowing of honours or offices; a day for worship or celebration) / wyn-dæg (a day of gladness, a joyous time) и др. (Bosworth).
Многие лексические единицы обозначали одновременно и событие, и время, когда это событие произошло, или время, удачное или неудачное для какого-либо события, например: byre (an event, the time at which anything happens, a favourable time, an opportunity) / cerr (a turn, time, an occasion, affair) / māl-dæg (an agreement, covenant, settlement or a day on which terms are fixed, a day when the dowry was settled) / un-tīma [1. a wrong time, an improper time; 2. a bad time, an unhappy condition of things, a mishap (in a wrong time)] и др. (Bosworth). Такое совмещение в семантике одной лексемы разных с точки зрения современного человека значений связано с особенностями архаичного сознания, для которого события, время, когда они происходили, а также их неотъемлемые атрибуты были неразрывно связаны между собой и, как следствие, зачастую передавались одной лексической единицей.
В семантике некоторых слов эксплицируются не только событие и время, когда оно произошло, но и противоположные коннотативные оттенки значения, например у существительного ssl, среди значений которого в словаре древнеанглийского языка указаны: 1. Time, occasion; 2. a fit time, season, opportunity, the definite time at which an event should take place; 3. time as in bad or good times, circumstance, condition; 4. a time of misery; 5. happiness, good fortune, good time, prosperity (Bosworth, р. 810). Таким образом, sSl может обозначать временной отрезок, вмещающий в себя определенное событие, и это событие как таковое; время, подходящее для свершения чего-либо, и возможность этого свершения; плохие или хорошие времена, обстоя- тельства или условия; время горя и страданий; счастье и процветание. Помимо этого, как отмечает в своих работах О.Г. Чупрына, в рамках англосаксонской парадигмы семантика sel обладает признаком кульминационности, она связана с триумфом героев и высшей точкой потенциала дружинного мира [16, c. 90]. Значение существительного sel является достаточно широким. Однако необходимо учитывать: принципиальное отличие древнеанглийских слов с широкой семантикой от современных заключается в том, что широта их значения обусловлена не высокой степенью абстракции, обобщения, а, напротив, недостаточно высоким ее уровнем. «В этом случае можно говорить о невысоком уровне такого вида абстракции, который получил в логике название конструктивизации, когда в процессе познания действительности происходит выделение отдельных сторон явления, превращение непрерывного в дискретное, текучего в жесткое. Этот процесс отвлечения от зыбкости границ, текучести отдельных сторон, превращения их в жесткие конструктивные объекты мог длиться тысячелетиями, и не окончен еще и сейчас, поскольку процесс абстрагирования находится в постоянном развитии» [3, c. 26].
Анализ представленного в словаре древнеанглийского языка фактического материала позволил установить, что 75 % древнеанглийских лексических единиц, номинирующих время и содержащих в своей семантической структуре метафорические и метонимические сдвиги, можно отнести к группе «время – вместилище» или «время – контейнер». Помимо рассмотренных выше слов в нее входят ering (the early dawn, day-break) / ge-byre (the time at which anything happens, a favourable time) / ge-mynd-dæg (a commemoration day, day of birth or of death) / gēola (the Yule or Christmas month, December) / ge-swinc-dæg (a labour-day, day of foil) / len-dagas (the days granted to a man in which to live, the time during which a man lives) / mid-winter (mid-winter, Christmas) / reste-dæg (a day of rest, a day when no work is done) / resten-gēar (a year in which no work is done) / riþ-tīma (harvest-time) / rōt-hwīl (a time of refreshing) / sin-niht (continual night, perpetual darkness) / swig-tīma (a time of silence) / þing-gemearc (measurement of time by events, by years, by feet) / þrāg, þrāh (1. a time, season; 2. in reference to the condition of things at any time, time as in good, bad, hard times; 3. adverbial uses) / tīd (tide, time, hour) / weder-dæg (a day of fine weather, a fine day) / weorc-dæg (a work day, any day of the week but Sunday) / wic-dæg (a day of the week, a week day, a day on which business may be done) / wōl-dæg (a day of pestilence, a day of death) (Bosworth) и др.
В памятниках письменности древнеанглийского периода также можно найти примеры экспликации модели «время – вместилище» или «время – контейнер». Так, например, в переводе Церковной истории Беды (Historia Ecclesiastica gentis Anglorum) на уэссекский диалект, датируемом примерно 890 годом, время (tīde) представляется как вместилище определенных событий, явлений, состояний и т. д. В частности, в следующем примере отрезок времени tīde вмещает в себя период жизни человека (поэта Кэдмона), когда он стал больным и пожилым, что повлекло за собой определенные последствия и было связано с описанными далее событиями: Wæs hē sē m O . n in weoruldhāde зeseted oð þā tīde þe hē wæs зelēfedre ylde (Historia, р. 20) – Был он, тот человек, в мирскую жизнь помещен до того времени, пока не стал слабее и старше (перевод наш. – Е. Н. ). Еще в одном предложении из этого же произведения tīde вмещает ряд действий Кэдмона, подчиненных следующему сценарию: во время пира будущий поэт видит, как к нему приближается арфа, встает из-за стола и уходит: Þā hē þæt þā sumre tīde dyde, þæt hē forlēt þæt hūs þæs зebēorscipes... (Historia, р. 21) – Когда он это тогда некоторое время делал, что он покидал тот дом того пира (перевод наш. – Е. Н. ).
Еще одной частотной моделью метафо-ризации в рамках концепта «время» в рассматриваемый период является «время – пространство» или «отрезок времени». Как отмечают лингвисты, время в англосаксонской парадигме могло отождествляться с пространством, поскольку архаичное сознание не разделяло их и принимало пространство за время, и наоборот [15, c. 20; 16, c. 8].
Тесная взаимосвязь пространства и времени прослеживается в семантике многих лексических единиц древнеанглийского языка. Так, по данным словаря англосаксонского языка прилагательное midd может обозначать середину как пространственного, так и временного отрезка; лексемы ufer(r) a и ufe- weard способны в одних контекстах указывать на нахождение чего-либо выше чего-то другого в пространстве, а в других контекстах – на следование какого-либо события после какого-то другого на временной оси; предлог tō-foran передает значение «перед» в пространственном или временном плане в зависимости от контекста и т. п. Прилагательное wīd имело значение «широкий», с его помощью могли описывать размеры объектов, обширные пространства, далекие путешествия и длинные отрезки времени: wīd – 1. in reference to the dimensions of an object – wide, of a certain width; 2. of that which is spread over a wide surface; 3. Wide, having no limit near, open; 4. Of travel, that traverses many lands, far and wide; 5. Of the duration of time – long, lasting long, in phrases equivalent to ever, always) (Bosworth).
Данные лексикографических источников свидетельствуют, что 18 % древнеанглийских лексических единиц, номинирующих время и содержащих в своей семантической структуре результаты действия механизмов семантической деривации, можно отнести к группе «время – пространство» или «отрезок времени». В частности, в нее входят следующие слова: hēr (adv. here, at this time, in this world) / hwīl (a while, space of time) / lang (length of time) / on (prep. adv. 1. expressing local relations, rest upon and contact with an object; 2. expressing temporal relations, marking a point of time – on, in, at; on-écnesse – for ever) / rūm (1. local room, space; 2. temporal, space of time; 3. time, which allows unhindered or unhurried action, opportunity) / ryne-þrāg (a space of time) / scortlīc (adj. short, of time, not lasting) / scortness (1. shortness of time; 2. a short account, an epitome) / tō-foran (prep. before 1. of place, in front of, in present of 2. of time, previous to) / ufer(r)a (1. local, upper, higher, upmost, highest; 2. temporal, later, after) / ufe-weard (1. local, upper, generally may be translated by «upper part of» the noun which it qualifies: the lower and upper parts of the neck are green; 2. temporal – later part of a time) и др. (Bosworth).
Время в архаичном сознании могло представляться и как движение, дорога. Такого рода семантический сдвиг актуален для носителей английского языка по сей день, что подтверждается, в частности, исследованиями Дж. Ла-коффа, М. Джонсона и М. Тернера [17; 18], в которых отмечается, что одной из базовых метафор в английском языке является «время – это движущийся объект» [18]. При этом будущее может восприниматься как движущееся по направлению к нам, либо время может мыслиться статичным, а человек – движущимся сквозь время. Таким образом, метафора «время – это движущийся объект» («время – движение») распадается на две составляющие: «время – путник» и «время – путь/дорога».
В англосаксонском языке примером метафорического переноса «время – путь/доро-га» может служить существительное ellor-sīþ , которое обозначало уход в мир иной, смерть (a journey elsewhere, departure, death) (Bosworth, р. 247). Такой перенос значения представляется возможным отнести к метафорическому блоку «жизнь есть путь/дорога», предложенному в книге Дж. Лакоффа и М. Тернера «More than Cool Reason: a Field Guide to Poetic Metaphor» [18], который можно рассматривать как вариант блока «время – путь/дорога». В этом случае смерть представляется конечной точкой такого путешествия. В древнеанглийском языке этот день, день смерти, обозначался существительными ende-dæg (the last day, the day of one’s death) и ende-dōgor (the final day, day of one’s death) (Bosworth). Однако, несмотря на то, что смерть ставит точку в нашем путешествии по мирской жизни, для сознания англосакса, тяготеющего к циклической модели времени, она означала и начало нового пути, нового витка жизни, возвращение к истокам. Поэтому, например, в поэме «Бео-вульф» встречаются такие строки:
Sigemunde gesprong
æfter deaðdæge dom unlytel (Beo. 884–885) – Слава Сигмунда немало выросла после смерти его (пер. В. Тихомирова) (Беовульф, с. 71).
Великий воин, павший в битве, как бы заново возрождается после своей смерти в песнях и сказаниях о его героических подвигах. Он приобретает новую жизнь после своей безвременной кончины.
К блоку «время – путник», являющемуся вариантом блока «время – движение», можно отнести следующий пример из Книги Бытия Эльфрика, датируемой примерно 1000 годом: Þū зesihst Þæt ic ealdiзe, and ic nāt hwænne mīne daзas āзāne beoÞ (Old Testament, с. 32) – Ты видишь, что я старею, и я не знаю, когда мои дни пройдут (перевод наш. – Е. Н.). Здесь дни жизни Исаака предстают перед читателем в роли путников, которые идут по дороге жизни, приближая человека к его смертному часу.
Некоторые древнеанглийские лексические единицы, номинировавшие время, совмещали в своей семантике различные модели метафори-зации. Так, наречие и предлог ofer/ofor можно отнести к двум блокам: «время – пространство» и «время – путь/дорога». В словаре древнеанглийского языка их значение описано следующим образом: ofer, ofor – prep. adv. 1. Generally with the idea of rest: above, over; denoting extension over etc. 2. Marking time – beyond (beyond the time). 3. Generally with the idea of movement: denoting motion in a definite direction across, to the other side of an object; denoting extension through a space; denoting motion from below, over, above etc. (Bosworth, р. 729). Как свидетельствуют данные лексикографической статьи, наречие и предлог ofer/ofor могли описывать расположение объектов в пространстве как находящихся выше чего-либо, местоположение событий на временной оси как следующих за чем-либо и в то же время обозначать движение в определенном направлении.
Примеры совмещения моделей метафо-ризации «время – пространство» и «время – путь/дорога» встречаются и в памятниках письменности рассматриваемого периода. Так, в поэме «Беовульф» главный герой бросается в пучину вод, чтобы спасти славного Хродгара, и стремится достичь морского дна, чтобы встретиться в схватке со злобной матерью Гренделя. Расстояние, которое при этом должен преодолеть Беовульф, описывается в поэме следующим образом:
Ða wæs hwil dæges, ær he þone grundwong ongytan mehte (Beo. 1495–1496) – был переходу дневному равен путь через бездну (пер. В. Тихомирова) (Беовульф, с. 100).
В приведенном примере указание на расстояние осуществляется с помощью лексических единиц, обозначающих время.
В древних памятниках письменности можно встретить и случаи персонификации времени. Например, в строках 1789–1790 по- эмы «Беовульф» так описывается наступление ночи:
Nihthelm geswearc deorc ofer dryhtgumum (Beo. 1789–1790) –
Шлем ночи сгустил тьму над воинами (перевод наш. – Е. Н. ).
Ночь, как древний воитель, накрывает своим шлемом, выкованным из тьмы и мрака, уставших воинов, пировавших в чертогах Хродгара. Она, как всесильный господин, над которым человек не властен, навевает дремоту и валит с ног даже самых доблестных воинов, непобедимых в яростных битвах.
В некоторых древнеанглийских лексических единицах персонификация времени заложена ингерентно. В частности, композит eald-dagas (ancient days) (Bosworth, р. 227) состоит из двух частей: «старый» и «дни». Таким образом, дни, как и люди, в представлениях архаичного человека могут со временем становиться старше и мудрее.
Анализ языкового материала позволяет сделать вывод о том, что механизмы семантической деривации, а именно метафорические и метонимические сдвиги значения в рамках семантической структуры слов, репрезентирующих концепт «время» в древнеанглийском языке, сыграли важную роль в развитии способов выражения рассматриваемого концепта. Результаты исследования основных когнитивных метафор, входящих в структуру концепта в этот период, а также способов его языкового выражения дают основание полагать, что специфика архаичного мышления проявлялась в восприятии времени прежде всего как вместилища важных для человека действий и событий, таких как религиозные обряды, военные походы и сражения, радостные или печальные события и т. п. Значимыми для выражения рассматриваемого концепта были такие модели метафоризации, как «время – пространство» и «время – движение», поскольку человек зачастую измерял пространство в терминах времени и наоборот. В произведениях исследуемого периода встречается персонификация времени, его олицетворение как грозного господина, имеющего власть над людьми и неподвластного их воле. Эти образные переосмысления позволяют приблизиться к по- ниманию особенностей восприятия окружающего мира носителями древнеанглийского языка, а следовательно, к пониманию особенностей менталитета представителей той эпохи и осмыслению ее культурного своеобразия.
Список литературы Роль механизмов семантической деривации в экспликации концепта «время» в древнеанглийском языке
- Арутюнова, Н. Д. Время: модели и метафоры/Н. Д. Арутюнова//Логический анализ языка: Язык и время: Посвящается светлой памятиН. И. Толстого/РАН. Ин-т языкознания; отв. ред.:Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. -М.: Индрик, 1997. -С. 51-61.
- Бочкарева, Т. В. Картина времени в «Беовульфе»: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04/Бочкарева Татьяна Валентиновна. -М., 1999. -22 с.
- Горский, Д. П. Вопросы абстракции и образования понятий/Д. П. Горский. -М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. -351с.
- Жабицкая, Н. Л. Историко-семасиологи-ческое исследование существительных, выражающих понятие «время» в древнеанглийском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04/Жа-бицкая Наталья Львовна. -Киев, 1974. -18 с.
- Красавский, Н. А. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах: автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.20/Красавский Николай Алексеевич. -Волгоград, 2001. -40 с.
- Красухин, К. Г. Три модели иноевропейс-кого времени на материале лексики и грамматики/К. Г. Красухин//Логический анализ языка: Язык и время: Посвящается светлой памяти Н.И. Толстого/РАН. Ин-т языкознания; отв. ред.: Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко. -М.: Индрик, 1997. -С. 62-77.
- Лапшина, М. Н. Семантическая эволюция английского слова/М. Н. Лапшина. -СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. -159 с.
- Лурия, А. Р. Психология как историческая наука/А. Р. Лурия//История и психология. -М.: Наука, 1971. -381 с.
- Нильсен, Е. А. Лексико-семантическое поле звукообозначений в английском языке (синхронный и диахронический аспекты): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04/Нильсен Евгения Александровна. -СПб., 2001. -233 с.
- Плахотнюк, Л. А. Мифопоэтическая символика слов со значением времени на материале древнеанглийского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04/Плахотнюк Людмила Алексеевна. -М., 1996. -14 с.
- Постовалова, В. И. Картина мира в жизне-деятельности человека/В. И. Постовалова//Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. -М.: Наука, 1988. -С. 8-69.
- Телия, В. Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира/В. Н. Телия//Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. -М.: Наука, 1988. -С. 173-205.
- Телия, В. Н. Предисловие//Метафора в языке и тексте. -М.: Наука, 1988. -С. 3-10.
- Феоктистова, Н. В. Формирование семантической структуры отвлеченного имени (на материале древнеанглийского языка)/Н. В. Феоктисто-ва. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. -188 с.
- Фрейденберг, О. М. Миф и литература древности/О. М. Фрейденберг. -М.: Наука, 1978. -605 с.
- Чупрына, О. Г. Представления о времени в древнем языке и сознании (на материале древне-английского языка): монография/О. Г. Чупрына. -М.: Изд-во «Прометей» МПГУ, 2000. -150 с.
- Lakoff, G. Metaphors we live by/G. Lakoff,M. Johnson. -Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. -242 p.
- Lakoff, G. More than Cool Reason: a Field Guide to Poetic Metaphor/G. Lakoff, M. Turner. -Chicago: Univ. of Chicago Press, 1989. -230 p.
- Беовульф -Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. -М.: Худож. лит., 1975. -751 с.
- Beo -Beowulf/ed. with Introduction, Bibliography, Notes and Glossary and Appendicesby W. I. Sedgefield. -Manchester: Univ. Press, 1910. -300 p.
- Bosworth -An Anglo-Saxon Dictionary Based on the Manuscript Collections of the Late Joseph Bosworth, D.D../ed. and enlarged by T. Northcote Toller, M.A. -Vol. 1-5. -Oxford: Oxford Univ. Press, 1882-1892.
- Historia -Historia Ecclesiastica gentis Anglorum//Смирницкий, А. И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. с грамматическими таблицами и историко-этимологичес-ким словарем: учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. вузов/А. И. Смирницкий. -4-е изд., испр. и доп. -М.: Академия ИЦ, 2008. -304 с.
- Old Testament -Ælfric's Old Testament Translations//Смирницкий, А. И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. с грамматическими таблицами и историко-этимологичес-ким словарем: учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. вузов/А. И. Смирницкий. -4-е изд., испр. и доп. -М.: Академия ИЦ, 2008. -304 с.