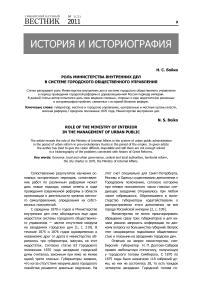Роль министерства внутренних дел в системе городского общественного управления
Автор: Бойко Наталья Семеновна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (3), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья раскрывает роль Министерства внутренних дел в системе городского общественного управления в период проведения городской реформы в дореволюционной России периода империи. В данной статье автор попытался дать свое видение сложных, спорных и еще недостаточно решенных в историографии проблем, связанных с историей Великих реформ.
Губернатор, местное и городское управление, центральные и местные органы власти, земская реформа, городское положение 1870 года, министерство внутренних дел
Короткий адрес: https://sciup.org/14113589
IDR: 14113589
Текст научной статьи Роль министерства внутренних дел в системе городского общественного управления
Сопоставление результатов изучения основных исторических периодов, сопоставление работ по различным реформам может дать новые подходы, новые ответы в ходе проведения современной реформы в области организации и деятельности органов местного самоуправления, определения их собственных полномочий.
С середины 1870-х годов в Министерстве внутренних дел стал обсуждаться еще один недостаток системы городского общественного управления — частое отсутствие кворума на заседаниях городских дум [1, с. 219]. В течение 1875 и 1876 годов одновременно и независимо друг от друга в министерство обратились три губернатора, жалуясь на этот недостаток. Согласно статье 63 Городового положения 1870 года заседание городской думы считалось законным при явке не менее одной трети гласных. Губернаторы заявили, что из-за отсутствия кворума дела городского хозяйства решаются довольно медленно. На этот счет специально для Санкт-Петербурга, Москвы и Одессы существовало дополнение к Городовому положению, согласно которому при неявке положенного числа гласных следующее заседание открывалось при любом числе собравшихся. Обратившиеся в министерство губернаторы ходатайствовали о распространении этого дополнения на все города Российской империи [2, с. 109].
Министерство не могло проигнорировать обращение сразу трех губернаторов и для начала решило запросить информацию по данному вопросу из большинства губерний. Вопрос этот неоднократно поднимался общественностью и гласными на заседаниях городских дум .
Отвечая на запрос министерства, симбирский губернатор Н. П. Долгово-Сабуров привел любопытную статистику, полученную у городского головы Симбирска. С 1870 по 1875 годы было назначено 118 собраний думы, из них не состоялось 28, то есть каждое четвертое заседание. Городской голова со- общил, что согласно статье 101 Городового положения гласные должны сообщать о причине своих отлучек, но это требование практически не соблюдалось.
Кроме того, по сведениям, полученным симбирским губернатором, и в остальных городских думах губернии наблюдалась похожая ситуация. Статистика посещений в уездных городах Симбирской губернии была следующая: в Сызрани из 56 заседаний думы не состоялось 6, в Алатыре из 68 — 7, в Сенги-лее из 28 — 3 заседания, в Буинске из 29 заседаний — 3 [3]. Подобная статистика показывает, что в уездных городах гласные более «прилежно» посещали заседания, хотя и здесь ситуация кардинально не отличалась от губернских городов. Симбирский губернатор Долгово-Сабуров высказался в пользу введения штрафов за непосещение, так как при малом числе гласных увеличивается возможность принятия неверных решений. Однако серьезно менять Городовое положение в этом вопросе губернатор не считал нужным [4].
В начале 1880-х годов этот недостаток Городового положения был устранен, городские думы получили возможность при отсутствии кворума в течение семи дней назначить новое заседание думы, которое считалось состоявшимся при любом количестве собравшихся. Но и в дальнейшем вопрос о малом посещении заседаний городских дум обсуждался в министерстве.
Например, в январе 1887 года симбирскому губернатору М. Н. Теренину пришел официальный запрос вследствие анонимной записки, поступившей в Министерство внутренних дел. В этой записке сообщалось, что в Симбирской городской думе допускаются решения дел очень малым числом гласных (8—12 человек). Запрос был подписан товарищем министра, сенатором В. К. Плеве. Городской голова Симбирска объяснил заместителю министра, что дума довольно часто пользуется законной возможностью созывать повторное заседание при любом количестве собравшихся. Но по возможности на нем решаются дела несложные и неважные [5].
Важной особенностью Городового положения 1870 года было совмещение в одном лице должностей председателя городской думы и городской управы. Для либерально настроенной общественности это являлось серьезным недостатком.
Как один из примеров можно привести Всеподданнейший отчет за 1881 год Самарского губернатора А. Д. Свербеева. Губернатор писал: «Будучи председателем как распорядительного, так и подчиненного ему исполнительного учреждения одно и то же лицо может устранить себя от вредного влияния на ход и решение дел только при полной беспристрастности и забвении личных интересов, что в действительности бывает редко» [6]. Фраза во Всеподданнейшем отчете вызвала интерес самого императора Александра III, который собственноручно сделал пометку на полях — «совершенно справедливо» [6].
Это послужило прямым указанием к действию для высших чинов власти. 25 октября 1882 года на заседании Комитета министров обсуждался заинтересовавший императора Всеподданнейший отчет. В итоге Министерству внутренних дел было поручено всесторонне исследовать вопрос совмещения должностей.
В декабре 1882 года в Гатчине министр внутренних дел сделал доклад императору Александру III о совмещении должностей председателя думы и управы. Он отметил, что теоретически разделение обязанностей необходимо, так как исполнительная и контролирующая власть должны быть отделены друг от друга. Однако при практическом воплощении разделения властей могут возникнуть следующие серьезные трудности, которые превысят ожидаемые положительные результаты:
-
1) исторически в российских городах обсуждаемые должности были соединены и ломать сложившийся порядок затруднительно;
-
2) раздвоение власти председателя городской управы и председателя городской думы породит столкновения и пререкания между двумя этими учреждениями, причем каждое из них может совершенно парализовать деятельность другого;
-
3) контролировать деятельность одного руководителя легче, чем двух. В докладе высказывалась мысль, что «дела могут идти успешно лишь при условии, что оба учреждения будут одушевлены одной мыслью и стремлением к одной цели» [7].
Министр внутренних дел Д. А. Толстой выразил мнение, что большинство городской думы всегда так или иначе может положительно влиять и контролировать деятель- ность городской управы. И только когда дума обсуждает действия городского головы или работу городской управы, желательно на это время отстранить голову от председательствования в думе.
Министр отметил, что самарский губернатор не привел никаких фактических данных, подтверждающих его вывод, а в министерстве не имеется подобных сообщений из других губерний [8]. Иными словами, министерство не решилось изменить что-то в этом вопросе из опасения возможных затруднений. В этом министру удалось убедить императора. Подобное решение вопроса полностью соответствовало консервативному направлению внутренней политики Александра III.
А. Д. Свербеев первым из губернаторов указал на недостаток совмещения должностей. В городских думах этот вопрос обсуждался довольно часто. В октябре 1884 года в Министерство внутренних дел поступило ходатайство Псковской городской думы о желательности разделения должностей председателя управы и думы «для пользы дела». Псковский губернатор лично считал, что ходатайство необходимо отклонить, так как в тот момент работала комиссия М. С. Каханова, рассматривающая в том числе и этот вопрос. Товарищ министра внутренних дел сенатор И. Н. Дурново вполне согласился с мнением губернатора и отклонил ходатайство [9]. Московская городская дума в 1886 году создала специальную комиссию для рассмотрения «выгод и преимуществ» разделения должностей. Данный вопрос обсуждался и на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» в 1884 году, где, в частности, приводился следующий юридический казус, происходящий из-за совмещения должностей: как председатель управы городской голова разрешение на свой отпуск получал от самого же себя как председателя думы. Данный вопрос требовал решения, но Министерство внутренних дел, возглавляемое консерватором Д. А. Толстым, прилагало все усилия для того, чтобы не допустить серьезных изменений в городской жизни.
Д. А. Толстой сменил на посту министра внутренних дел Н. П. Игнатьева в мае 1882 года. Свои консервативные взгляды он продемонстрировал еще на посту министра народного просвещения. По воспоминаниям государственного секретаря А. А. Половцова, Тол- стой сразу же поставил задачу свернуть деятельность Кахановской комиссии [10, с. 148]. Комиссия была распущена в апреле 1885 года Александром III, формально по причине внутренних разногласий. Многие ее предложения так и не были воплощены в жизнь. С другой стороны, в середине 1880-х годов недостатки системы городского управления продолжали ощущаться правительством. Толстой не отрицал необходимости реформы, но видел ее иначе. В 1885 году последовал доклад министра внутренних дел Д. А. Толстого царю. В нем утверждалось, что земские и городские учреждения «представляют собой как бы стену, разделяющую народ от правительства» [11, с. 17]. Главный недостаток он видел в слабом влиянии правительства на ход местных дел. Кроме того, по мнению Д. А. Толстого, местное управление парализует право Сената регулировать пререкания между думами и губернатором. В докладе ставился вопрос о необходимости замены начал самоуправления началами государственного управления. В итоге решено было перейти от комплексного преобразования к отдельным реформам. Так, в 1889 году была учреждена должность земского участкового начальника, в 1890 году — реформировано земское самоуправление [12, с. 151].
Новая попытка изменить функционирование городского самоуправления была предпринята в 1890 году министром внутренних дел И. Н. Дурново. В июле 1890 года российским губернаторам был разослан циркуляр министерства о готовящейся городской реформе, в нем подробно обозначались недостатки существующей системы городского управления. Губернаторам было предложено в очередной раз выразить свое мнение о недостатках Городового положения 1870 года [13].
В целом, губернаторы указали на те же недостатки, что и в анкетах 1883 года. Они отмечали необходимость изменить избирательную систему, для того чтобы «исключить малоимущие слои городского населения, которые малоразвиты и в силу этого являются слепым орудием в борьбе партий на выборах» [14] и предоставить избирательное право квартиронанимателям.
Губернаторы высказывались за усиление административного надзора за деятельностью городских дум, за предоставление губернским властям права оценивать не только законность, но и целесообразность распоряжений городского самоуправления. Министерство внутренних дел в целом придерживалось такого же мнения. При подготовке нового Городового положения были учтены материалы Кахановской комиссии, но представители городских дум так и не приняли участия в этой работе [15]. В итоге начатая в 1890 году министром внутренних дел И. Н. Дурново реформа городского самоуправления была реализована в Городовом положении 1892 года.
Введение Городового положения 1892 года в уездных городах происходило так: в конце 1893 года пензенский губернатор собрал сведения о количестве недвижимости стоимостью не менее 300 рублей и не менее 100 рублей, о количестве купцов I и II гильдий и о числе торговых предприятий в уездных и заштатных городах Пензенской губернии. Затем на заседании присутствия по городским делам было решено, в каких городах губернии ввести упрощенное городское устройство, в каких — полное. На основе этих решений Министерство внутренних дел окончательно распределило все российские города по двум типам управления. В губернских городах новое городское общественное управление начало действовать в декабре 1892 года, в остальных — год спустя, в декабре 1893 года [16].
Небольшие злоупотребления во время выборов происходили и после городской реформы 1892 года. Все также явно на ход выборов влияли «партии» (то есть сторонники того или иного кандидата), особенно в уездных городах. Например, в 1895 году на выборах городского головы города Мокшан Пензенской губернии «партии» не смогли договориться о компромиссной фигуре. В шутку была предложена кандидатура слабоумного купца И. Кузьмина, состоялось голосование и голосов «за» оказалось больше, чем «против». Здесь депутаты поняли, что шутка зашла слишком далеко, и назначили голосование по кандидатуре другого гласного, который и стал городским головой.
Безусловно, присутствие по городским делам назначило перевыборы после столь нелицеприятной процедуры выборов. В целом, городские выборы по Городовому положению 1892 года демонстрируют непререкаемый авторитет губернатора, его возможность влиять на выборы, не одобряя те или иные определения городской думы, однако на деле это происходило только при явном нарушении закона. Чаще наблюдалось четкое взаимодействие общественных структур и губернатора, без трений и конфликтов.
Механизм избрания городских дум, предписанный Городовым положением 1892 года, претерпел значительные изменения. Этим шагом правительство добивалось главной цели — провести в городские думы инициативных и образованных гласных, в то же время лояльных существующему режиму. Для этого был введен высокий имущественный ценз, который ограничил корпус городских избирателей наиболее состоятельной частью городского населения, при этом ценз рассчитывался исходя из стоимости имеющейся недвижимости и составлял для губернских городов не менее 1 000 рублей.
Как уже упоминалось, Городовое положение 1870 года предоставило избирательное право ничтожной части городского населения (в среднем от 4 до 6 %). Избирательный ценз, предложенный городской реформой 1892 года, резко понизил число городских избирателей. Средний процент избирателей понизился до 1 % от всего населения. Были известны факты, когда многие бывшие гласные городских дум срочно увеличили стоимость своей недвижимости, желая приобрести нужный ценз. Отметим, что Сызрань была единственным городом в Среднем Поволжье, в котором избирательный ценз равнялся губернскому (1 000 рублей) [17, с. 64].
Социальный состав городских дум после реформы 1892 года изменился незначительно. В среднем по губернским городам России дворянство и разночинцы (чиновники и интеллигенция) приобрели 34 % в городских думах, купечество и почетные граждане — 55,8 %, мещанство, ремесленники, крестьяне — 9,8 %. В губернских городах Поволжья картина складывалась иначе: в торговой Самаре большинство в городской думе составило купечество, в Симбирске и Пензе большинство сформировали гласные от дворянства. В Самаре 22,6 % гласных составило дворянство и 60 % — купечество, в Симбирске 28,6 % — дворянство, 60 % — купечество. В Пензе неожиданную активность продемонстрировало дворянство — 57,1 %, купечество составило 42,9 % (всего в 8 губернских городах России дворянская группа превосходила купеческую).
В целом, если сравнивать социальный состав губернских дум в конце 1880-х годов и после реформы 1892 года, видно, что новая городская реформа практически не привела к изменениям в социальном составе гласных. Купечество несколько расширило свое представительство за счет бывшей III группы избирателей. Примечательно, что в 1890-е годы купеческая составляющая городских дум продолжала увеличиваться [17, с. 37]. Например, в Пензе участие дворянства сократилось с 57 до 34 % за счет увеличения доли купечества в составе думы. В целом, разительных изменений в составах городских дум по Городовым положениям 1870 и 1892 годов не произошло, в среднем 30 % голосов в составах дум принадлежало дворянству, от 40 до 60 % — купечеству.
Организация городского общественного управления на основе Городового положения 1892 года оказала благоприятное влияние на экономическое положение российских городов. За десятилетие, с 1892 по 1901 годы, их доходы увеличились почти на 30 %. Например, к 1901 году бюджет Самары достиг 1,5 млн рублей, бюджет Саратова — 2,5 млн рублей, эти два города входили в число девяти наиболее финансово успешных населенных пунктов России, на которые приходилось 55 % суммы доходов всех 654 городских поселений России [17, с. 53]. Увеличение доходов российских городов на 1/3 привело и к увеличению расходов бюджета в той же пропорции. По данным на 1901 год, около 16 % расходов составляло содержание полиции, войск, правительственных учреждений. Стоимость содержания общественного управления выросла на 30 %. В среднем в 2,6 раза больше средств стало выделяться на городское благоустройство (до 13 % бюджета). Значительно возросли расходы на дорогостоящие улучшения — трамваи, водопровод, скотобойни, канализацию. В 2 раза увеличились расходы на санитарную безопасность, больничное дело и народное образование (15 и 10 % бюджета городов соответственно) [18, с. 56].
Несмотря на возрастание городских доходов, абсолютному большинству российских городов недоставало свободных финансовых средств. В таких случаях городские думы прибегали к различным кредитам. С 1892 по 1901 годы общая задолженность городов выросла с 48,7 млн рублей до 124,8 млн рублей, три четверти этой суммы приходилось на наиболее «богатые» города России [19, с. 56—57]. С другой стороны, для большинства российских городов кредит был недоступен, всего 52 города имели возможность выпускать внутренние облигационные займы.
Правительственные кредиты города получали с громадным трудом, в основном на потребности, связанные с размещением войск, и лишь изредка на городское благоустройство. Сложности с получением кредитов многими общественными деятелями и политиками конца XIX — начала XX века расценивались как серьезное препятствие для развития городского хозяйства. В отличие от двух десятков крупных городов России, большинство малых и средних городских поселений практически не обустраивалось.
Таким образом, города России конца XIX — начала XX века развивались достаточно интенсивно, но этому процессу препятствовала нехватка средств. В этот период городские думы неоднократно ходатайствовали о сокращении расходов на содержание полиции и другие общественные нужды, о дешевом и доступном кредите — все это выдвинуло перед правительством вопрос о частичной корректировке статей Городового положения 1892 года.
Несомненно, следует согласиться с мнением Л. Г. Захаровой о том, что при изучении Великих реформ, так же как и контрреформ, возникает задача дифференцированного подхода к различным этапам и «уровням» преобразовательного процесса: идеологии, лежавшей в основе намеченных преобразований, первоначальным проектам законов, принятым законам (существенно от них отличавшимся) и, наконец, характеру их реализации, проверке жизнью [20].
-
1. Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762—1914. М., 1995.
-
2. Шрейдер Г. И. Наше государственное общественное управление. Этюды, очерки. СПб., 1902.
-
3. ГАУО. Ф. 137. Оп. 34. Д. 159. Л. 3 об.
-
4. Там же. Л. 17.
-
5. ГАУО. Ф. 76. Оп. 4. Д. 294. Л. 28 об.
-
6. РГИА. Ф. 1287. Ф. 38. Оп. 2145. Л. 3 об.
-
7. Там же. Л. 11 об.
-
8. Там же. Л. 1—15.
-
9. Там же. Л. 13.
16. ГАПО. Ф. 1. Оп. 11. Д. 2140. Л. 19.
14 № 1(3) СИМБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ 2011 ВЕСТНИК 10. Половцов А. А. Дневник государственного секретаря: в 2 т. Т. 1. М., 1966. 11. Нардова В. А. Городское самоуправление в России в 60-х — начале 90-х гг. XIX в.: правительственная политика. Л., 1984. 12. Власть и реформы / под ред. Б. И. Ананьича. СПб., 1996. 13. РГИА. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 2496. Л. 80. 14. РГИА. Ф. 1287. Оп. 38. Д. 2497. Л. 144—144 об. 15. Там же. Л. 314. 17. Нардова В. А. Самодержавие и городские думы в России в конце XIX — начале XX в. СПб., 1994. 18. Озеров И. Общие принципы организации городских финансов. СПб., 1907. 19. См.: Городское дело. 1909. № 1. 20. Захарова Л. Великие реформы 1860—1870-х годов: поворотный пункт российской истории? Перспективы. Режим доступа: