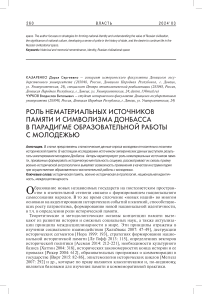Роль нематериальных источников памяти и символизма Донбасса в парадигме образовательной работы с молодежью
Автор: Казаренко Дарья Сергеевна, Чурков Владислав Витальевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 3, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье представлены статистические данные опроса молодежи относительно политики исторической памяти. В настоящем исследовании источником эмпирических данных выступили результаты анкетирования молодежи Донбасса. Авторы характеризуют роль нематериальных источников памяти, призванных формировать историческую ментальность социума, рассматривают их сквозь призму военно-исторической антропологии и выявляют возможность применения в качестве инструментария при осуществлении образовательно-воспитательной работы с молодежью.
Историческая память, военно-историческая антропология, национальная идентичность, междисциплинарность
Короткий адрес: https://sciup.org/170204483
IDR: 170204483 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-3-260-264
Текст научной статьи Роль нематериальных источников памяти и символизма Донбасса в парадигме образовательной работы с молодежью
О бразование новых независимых государств на постсоветском пространстве в значительной степени связано с формированием национального самосознания народов. В то же время сплочение «новых наций» во многом основано на акцентировании исторических событий и явлений, способствующих росту патриотизма, формированию новой национальной идентичности, в т.ч. в определении роли исторической памяти.
Теоретические и методологические основы концепции памяти вытекают из развития истории и смежных социальных наук, а также актуализации принципа междисциплинарности в мире. Эти принципы отражены в изучении социального взаимодействия [Хальбвакс 2007: 47-49], деструкции исторических сегментов [Нора 1999: 193], стратегиях формирования национальной исторической памяти [Ле Гофф 2013: 115], определениях векторов исторической политики [Ассман 2014: 212-221], необходимости культурного базиса [Хаттон 2004: 318], исторических закономерностях конца истории и ее провалах [Рикер 2004: 612], образовательных программах о коммеморации в государстве [Вирт 2015: 82-86], эпистемологии исторических циклов [Мегилл 2007: 292] и др., которые по праву являются классическими и, по-видимому, являются базовыми для изучения памяти и коммеморативной практики.
Анализ исследований, посвященных содержанию понятий «культурноисторическая память» и «гражданская идентичность», позволил авторам В.В. Николиной, А.А. Лощиловой, С.В. Фроловой, С.И. Аксенову из Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина в сотрудничестве с политологами и социологами Донецкого государственного университета разработать анкету «Гражданская идентичность и культурно-историческая память молодежи». На основе анализа и обобщения результатов анкетирования получены первичные данные об исходном состоянии гражданской идентичности и культурно-исторической памяти молодежи Донецкой и Луганской Народных Республик.
В эмпирическом исследовании принимали участие 185 обучающихся в возрасте от 14 до 20 лет, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Из них 60,5% респондентов женского пола, 39,5% – мужского.
Важным показателем гражданской идентичности является национальность, с которой идентифицируют себя респонденты. 51,4% назвали себя русскими, из них 12,9% – россиянами; 24,86% – украинцами, из которых 2,16% указали Украину в качестве страны своего проживания. Знание государственных границ России продемонстрировали 49,07% молодежи Донецкой и Луганской Народных Республик. Анализируя ценностное отношение молодежи к традициям, было определено, что 54% знают и положительно относятся к русским традициям, особенно выделяя памятные даты и праздники. 44,5% молодых людей выражают свою гражданскую позицию, обсуждая проблемы и ситуации с семьей, друзьями и в школе; 24,7% – скорее да, чем нет. Это свидетельствует об их неравнодушии к судьбе своей Родины, стремлении открыто высказывать свое мнение и оказывать помощь в решении посильных для них проблем. Так, 53% опрошенных стараются помогать старшим и окружающим их людям. 16,5% участвуют в волонтерской деятельности, 20,5% скорее делают это, чем нет. Значительный процент молодых людей (44,9%) не считают себя волонтерами, 18,2% – скорее нет, чем да. В то же время большинство молодых людей в Донецкой и Луганской Народных Республиках убеждены в положительном влиянии их собственной деятельности на общество и меняющуюся социокультурную ситуацию в их регионе. Следует отметить, что 44,2% участников опроса выражают готовность жить и работать в своей стране, развивать ее экономику и культуру, 32% – скорее да, чем нет. В то же время 32,8% молодых людей считают, что они смогут чувствовать себя комфортно практически в любой стране мира, 29,4% – скорее да, чем нет; 27,2% – скорее нет, чем да; 10,6% – нет.
48,9% респондентов интересуются культурой и традициями России и ценят ее, 38,5% – скорее да, чем нет, 9,9% – скорее нет, чем да. Им близки такие традиционные ценности, как историческая память и преемственность поколений, семья. 53,8% придерживаются традиционных взглядов на семейную модель, 28% – скорее да, чем нет, и только 9,9% – нет. Семейное счастье превыше всего для 75,8% участников опроса, 18,1% – скорее да, чем нет, 6,1% – скорее нет, чем да. 67% респондентов проявляют уважение к старшему поколению, 26,4% – скорее да, чем нет; 6% – скорее нет, чем да. Они стараются помогать старшим и прислушиваться к их мнению – 53%, скорее да, чем нет – 38,1%, скорее нет, чем да – 8,9%.
Обращают на себя внимание ответы на вопрос о наиболее значимых исторических событиях. 73,51% молодежи Донецкой и Луганской Народных Республик назвали события, связанные с военными действиями. Чаще всего упоминается Вторая мировая война – 18,38%, Великая Отечественная война –
44,85%, СВО – 13,24%, война 2014 г. – 17,65%. Среди положительных –вклю-чение в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик – 8,09%, крещение Руси – 10,29%, признание ДНР и ЛНР – 2,21%.
При определении знаний респондентов об известных российских писателях, художниках и ученых выяснилось, что только 55,88% участников опроса смогли назвать имена выдающихся ученых. Чаще всего упоминаются Д.М. Менделеев (37,5%), М.В. Ломоносов (43,38%), Н.И. Лобачевский (6,62%). Этот вопрос вызвал затруднения у 44,12% респондентов. Среди писателей классиками русской литературы являются А.С. Пушкин (34,57%), Н.В. Гоголь (9,26%), Л.Н. Толстой (6,79%), С. Есенин (6,79%).
Приведенные выше статистические данные демонстрируют, что в обществе еще не утрачен запрос на связь между историей и исторической памятью. Поскольку историческая память представляет собой симбиотическую связь между коллективной, национальной и индивидуальной памятью и призвана формировать историческую ментальность социума, классическая история благодаря своей метапредметной сути способна оказывать влияние и объединить не только разновозрастные, но и мультисоциальные группы. Совершенно очевидно, что восстановление связи между академической историей и исторической памятью является важной задачей нашего государства. Об этом говорит тот факт, что в феврале 2023 г. была утверждена Концепция преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки, реализуемых в образовательных организациях высшего образования1. В данной концепции основной акцент сделан на формирование исторического сознания как составляющую гражданской идентичности посредством применения принципа историзма, в качестве основополагающего инструмента для воспитания критического мышления и отстаивания патриотических взглядов, сформировавшихся и закрепившихся под влиянием изучения исторических процессов в их ретроспективе.
Поскольку известно, что потеря связи прошлого и настоящего в будущем, как правило, порождает манкуртов, легко поддающихся манипуляциям извне, при проведении образовательно-воспитательной работы с молодежью необходимо учитывать особенности формирования психики молодежи, а также принимать во внимание сравнительно небольшой объем знаний и отсутствие четко сформированных навыков применения приемов и методов критического мышления, низкий уровень аналитических способностей, находящихся в стадии развития. Ситуацию усугубляет тот факт, что современная молодежь мало читает, предпочитая получать сведения через социальные сети, а для изменения мировосприятия достаточно чуть иначе расставить акценты или пропустить несколько дат, и это существенно скажется на восприятии преподносимого блока информации.
Отсюда следует, что в комплексе задач, стоящих перед специалистами в области формирования исторической грамотности, особое место занимают такие аспекты, как воспитание гражданственности и патриотизма и способности анализировать основные этапы и закономерности исторического процесса развития общества; понимание движущих сил исторических и социальных процессов; воспитание уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям нашей полиэтнической и мультиконфессиональной Родины.
Возвращаясь к вопросу исторической памяти, следует отметить, что история России проходит под знаком больших и малых войн. В результате сформировался особый социально-психологический и социокультурный феномен «человека воюющего». Именно поэтому преподнесение истории как длящегося во времени процесса сквозь призму «человека на войне» в рамках военной антропологии не только может стать связующим звеном между историей и молодежью, но также способствовать повышению престижа истории как научной отрасли и учебной дисциплины, в т.ч. и в непрофильных вузах [Сенявская 2005: 73].
Одним из инструментов повышения уровня заинтересованности молодежи в изучении истории как науки может стать военно-антропологический метод преподнесения учебного материала в процессе преподавания отечественной истории – как истории Великой Отечественной войны, так и современной истории, касающейся проведения специальной военной операции на территории Донбасса. Это позволит не просто изложить сухой материал, но сделать его как можно более «живым» и запоминающимся, продемонстрировав исторические параллели наглядным образом. Именно интенциональный подход к творческому воплощению впечатлений и переживаний, вызванных военными действиями, является одной из составляющих предметного поля военно-исторической антропологии и может способствовать укреплению чувства общности и сопричастности к истории родной страны, воспитанию настоящего, а не показного патриотизма, формированию ценностных ориентиров молодежи, личностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого.
Ценностные ориентации, раскрываемые с помощью компаративного символизма нематериальных источников памяти, выступают в качестве важнейших элементов внутренней структуры личности, закрепленных жизненным опытом, всей совокупностью переживаний. Примечательно, что межпредметная связь между историей и литературой, в частности исторической и современной военной литературой, посвященной теме специальной военной операции, способна значительно углубить образовательные и интеллектуальные способности обучающихся. Подобное соприкосновение с историко-литературным материалом способствует активизации мыслительной деятельности молодежи, решению образовательных и воспитательных задач, установлению ассоциативных связей, что позволит обучающимся более широко и объемно представлять изучаемый материал и в полной мере осознать особую диалектику истории как точки соприкосновения прошлого, настоящего и будущего.
Именно поэтому особенно важным для развития современной молодежи, для полноценного формирования активной гражданской и жизненной позиции, а также понимания сути современных событий и их истоков является изучение применения военно-антропологического подхода при формировании ценностной картины мира в парадигме российской цивилизации.
Список литературы Роль нематериальных источников памяти и символизма Донбасса в парадигме образовательной работы с молодежью
- Ассман Я. 2014. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение. 328 с.
- Вирт Л. 2015. История и память. М.: Полиграф-ЮГ. 160 с.
- Ле Гофф Ж. 2013. Историческая память. М.: РОССПЭН. 303 c.
- Мегилл А. 2007. Историческая эпистемология. М.: Канон. 480 с.
- Нора П. 1999. Франция - память. СПб: Изд-во СПбГУ. 328 c.
- Рикер П. 2004. Память, история, забвение. М.: Изд-во гуманитарной литературы. 728 с.
- Сенявская Е.С. 2005. Военно-историческая антропология как новая отрасль исторической науки: проблемы изучения и преподавания в курсах отечественной истории. М.: ИЦ РГГУ. С. 73-81.
- Хальбвакс М. 2007. Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство. 348 c.
- Хаттон П. Х. 2004. История как искусство памяти. СПб: Владимир Даль. 422 с.