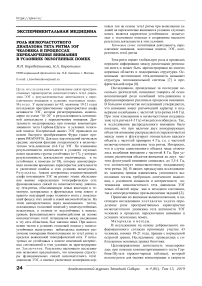Роль низкочастотного диапазона тета ритма ЭЭГ человека в процессах переключения внимания в условиях экзогенных помех
Автор: Коробейникова Ирина Ивановна, Каратыгин Николай Алексеевич
Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws
Рубрика: Эксперимент
Статья в выпуске: 4 (81) т.15, 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - установление связи пространственных характеристик низкочастотного тета1 диапазона ЭЭГ с результативностью деятельности с переключением внимания в условиях экзогенных помех. Методы. У испытуемых (n=43; мужчины 19-21 года) исследовали пространственные характеристики альфа активности ЭЭГ, которая регистрировалась монополярно по схеме “10-20” и результативность когнитивной деятельности с переключением внимания. Деятельность моделировалась при помощи компьютеризованного теста Горбова-Шульте в условиях голосовой помехи. Когерентный анализ ЭЭГ проводили на основе быстрого преобразования Фурье (пакет программ BRAINSYS). Для всех пар отведений вычисляли средние значения функции когерентности в низкочастотном тета-диапазоне (4-6 Гц) ЭЭГ. По изменению результативности деятельности в условиях слуховых помех выделены группы устойчивых (n=17), у которых результативность деятельности увеличивалась и не устойчивых к помехам (n=18), которые демонстрировали снижение временных характеристик деятельности и увеличение ошибок в этих условиях испытуемых...
Когнитивная деятельность, переключение внимания, экзогенные помехи, ээг, когерентность тета1-ритма
Короткий адрес: https://sciup.org/140248166
IDR: 140248166
Текст научной статьи Роль низкочастотного диапазона тета ритма ЭЭГ человека в процессах переключения внимания в условиях экзогенных помех
Тета-ритм играет глобальную роль в процессах передачи информации между различными регионами мозга и может быть зарегистрирован во многих корковых областях и подкорковых структурах. Основными источниками тета-активности называют структуры гиппокампальной системы [7] и префронтальной коры [8].
Исследования, проведенные за последние несколько десятилетий, позволяют говорить об основополагающей роли колебаний тета-диапазона в функционировании различных процессов внимания. В большом количестве исследований утверждается, что внимание имеет ритмический характер и подвержено колебаниям с частотой тета-ритма (4-8 Гц). При этом изменениям в низкочастотном поддиапазоне тета ритма (4-5 Гц) отводится особая роль. Так, в исследовании распределенного внимания было показано, что при наличии двух конкурирующих объектов внимание распределяется (переключается) между ними и флуктуирует относительно каждого объекта с частотой примерно 4 Гц, т.е. с частотой низкочастотного диапазона тета ритма. Интересно, что в случае единственного объекта чаще отмечались колебания внимания с частотой 8 Гц. При условии увеличения объектов внимания до двух частота флуктуаций внимания снижалась до 3,5-4 Гц, что соответствует низкочастотному поддиапазону тета ритма. [6]. В наших предыдущих исследованиях показана прямая взаимосвязь успешности выполнения тестов, требующих логического мышления, с усилением мощности и когерентности потенциалов низкочастотного тета диапазона ЭЭГ левых областей коры как в исходном состоянии, так и непосредственно при выполнении заданий [2].
Принимая во внимание вышеизложенное, в настоящем исследовании поставлена задача определение роли пространственных характеристик низкочастотного диапазона тета активности ЭЭГ человека в процессах переключения внимания в условиях экзогенных помех.
Материалы и методы.
В исследовании на основе добровольного информационного согласия принимали участие 43 человека, юноши 19-21 года, правши с нормальной остротой зрения. Исследование проводились с соблюдением основных правил биоэтики.
Целенаправленная деятельность моделировалась при помощи компьютеризованного теста Горбова-Шульте (красно-черные таблицы), который используется для оценки концентрации и скорости переключения внимания [4]. Во время обследования испытуемый находился в удобном кресле перед экраном монитора (17 дюймов). На мониторе отображалась квадратная таблица, состоящая из 24 красных и 25 черных квадратных ячеек с собственными номерами. Паттерны расположения пронумерованных квадратов для каждой серии были изначально заданы методом случайной генерации. Для всех испытуемых использовался одинаковый набор паттернов. Проведено две серии обследований, каждая из которых включала два задания. В первой серии на основе предварительной инструкции испытуемый должен был в первом задании (ЧК1) выбрать (указать курсором мыши) черные квадраты в порядке возрастания их номерных обозначений от (1 до 25), а затем красные квадраты в порядке убывания их номеров (от 24 до 1). Во втором задании (ЧК2) испытуемый должен был выбрать по очереди черные квадраты в порядке возрастания, а красные в порядке убывания: 1 черный, 24 красный, 2 черный, 23 красный и т.д. Во второй серии обследования испытуемому предлагали выполнить те же задания в сопровождении голосовой помехи: чтение диктором цифр от 1 до 25 в случайном порядке, не совпадающим с порядком указания испытуемым номеров квадратов и частотой одна цифра в две секунды.
По результатам выполнения компьютерной задачи для каждого испытуемого вычисляли следующие показатели: время между последовательными кликами по квадратам, величина которого усреднялась по каждому заданию (среднее время клика, мс); общее время выполнения каждого задания (с); число ошибок в каждом задании – включая ошибки последовательности и неверное указание цвета квадрата. Если испытуемый сбивался и отказывался от дальнейшего выполнения задания, оставшееся количество квадратов расценивалось как ошибки.
По временным параметрам выполнения заданий в двух сериях обследования рассчитывалось время переключения внимания (ВПВ1 и ВПВ2), как разница между временем выполнения заданий ЧК2 и ЧК1. Разницу между ВПВ2 и ВПВ1 расценивали как характеристику помехоустойчивости испытуемого (показатель помехоустойчивости ППУ). Помехоустойчивыми считались испытуемые, которые в условиях ГП показывали меньшее ВПВ, т.е. ППУ имел отрицательные значения. Испытуемые, которые в условиях ГП демонстрировали большее время поиска цифр, и ППУ соответственно имел положительные значения, характеризовались как неустойчивые к помехе.
ЭЭГ регистрировали в состоянии спокойного бодрствования при открытых глазах (ФОН ОГ), перед каждой серией обследования (ФОН1 ог и ФОН2 ог) и при выполнении заданий без голосовой помехи (ЧК1 и ЧК2) и при ее наличии (ЧК1+ГП и ЧК2+ГП) с помощью электроэнцефалографа
«Нейрон-спектр» (г. Иваново) монополярно по схеме “10 – 20” в (О2, О1), теменных (Р4, Р3), центральных (С4, С3), лобных (F4, F3) и височных (Т4, Т3) отведениях. Объединенные референтные электроды располагались на мочках ушей. Полоса фильтрации составляла 0,5 – 35,0 Гц, постоянная времени – 0.32 с, режективный фильтр – 50 Гц. После регистрации все записи ЭЭГ были переведены в компьютерную систему анализа и топографического картирования электрической активности мозга «BRAINSYS» для Windows и обработаны с помощью аппаратно-программного комплекса «НЕЙРО-КМ» (ООО «Статокин», г. Москва). Артефакты исключали из анализируемой записи с использованием возможностей программного комплекса «BRAINSYS». Когерентный анализ ЭЭГ проводили на основе быстрого преобразования Фурье (пакет программ BRAINSYS). Эпоха анализа составляла 4 сек при длительности каждого фрагмента в 1 мин, частота оцифровки – 200 Гц. Для всех пар отведений вычисляли средние значения функции когерентности (Кког) в тета1-диапазоне (4-6 Гц) ЭЭГ.
Для статистической обработки и представления результатов использовали пакет STATISTICA v.6. При нормальном распределении анализируемых показателей вычисляли среднее значение ( M ) и стандартную ошибку среднего ( m ). Достоверность различий анализируемых показателей у студентов выделенных групп оценивали с помощью дисперсионного анализа «Breakdown and one-way ANOVA». Достоверность изменения значений показателей в разных ситуациях у одной группы испытуемых оценивали с использованием t -критерия для связанных выборок.
Результаты и обсуждение.
Анализ ВПВ показал, что в среднем по группе испытуемых оно составило в первой серии обследования 101,1±5,3 с при минимальных и максимальных значениях 35,2 с и 176,7 с и во второй серии при наличии ГП 100,6±5,2 с при минимальных и максимальных значениях 48,3 с и 179,9 с соответственно. Значения ППУ изменялись от (–71,3) до 65,6. На основании этого были выделены две группы испытуемых. В 1-ю группу помехоустойчивых (17 человек) вошли испытуемые, ВПВ которых снижалось в условиях ГП на 10 и более сек. 2-ю группу помехонеустойчивых (18 человек) составили испытуемые, у которых ВПВ в условиях помехи увеличивалось на 10 сек и более.
Параметры результатов выполнения заданий представлены в таблице 1. Из представленных данных следует, что ВПВ в условиях ГП (ВПВ2) у испытуемых 1-й группы достоверно ( р =0,0007) снижался, у испытуемых 2-й группы достоверно ( р =0,0012) увеличивался. По результативности задания ЧК1 в условиях ГП, так и без нее, испытуемые выделенных групп достоверно не различались.
|
Таблица 1 Параметры результата выполнения теста «Красночерные таблицы» у испытуемых 1-й и 2-й групп |
|||
|
Параметры результата |
1 группа |
2 группа |
р= |
|
ВПВ 1, с |
125,7±6,6 |
85,7±7,1 |
0,0003 |
|
ВПВ 2, с |
87,0±7,9 |
119,1±6.3 |
0,003 |
|
ВПВ2-ВПВ1 (ППУ), с |
-38,6±4,9 |
33,4±4,7 |
0,000 |
|
ЧК1, t клика, мс |
1968±61,4 |
2081±106,2 |
- |
|
ЧК1, t выполнения, с |
98,5±3,1 |
105,4±5,5 |
- |
|
ЧК1 ошибки |
0,25±0,1 |
0,68±0,4 |
- |
|
ЧК1+ ГП, t клика, мс |
2005±59,1 |
1963±112,2 |
- |
|
ЧК1+ГП, t выполнения, с |
100,9±2,9 |
97,7±5,5 |
- |
|
ЧК1+ ГП, ошибки |
0,19±0,1 |
0,16±0,1 |
- |
|
ЧК2, t клика, мс |
4385±189,9 |
3868+193,3 |
0,049 |
|
ЧК2, t выполнения, с |
224,1±8,5 |
191,1±9,7 |
0,017 |
|
ЧК2 ошибки |
4,62±0,9 |
2,26±0,6 |
0,039 |
|
ЧК2+ГП, t клика, мс |
3835±185,3 |
4321±217,6 |
- |
|
ЧК2+ГП, t выполнения, с |
187,2±9,1 |
216,8±10,4 |
0,043 |
|
ЧК2+ ГП, ошибки |
2,68±0,8 |
3,0±0,7 |
- |
По параметрам результата выполнения более сложного задания ЧК2 испытуемые 1-й группы отличались от испытуемых 2-й достоверно большим временем клика, временем выполнения и большим количеством допущенных ошибок. Наличие ГП приводило к противоположным результатам. Анализ параметров результата в пределах каждой группы показал, что при выполнении ЧК2 + ГП, по сравнению с ЧК2 у испытуемых 1-й группы достоверно снижалось время клика ( р =0,046) и время выполнения ( р =0,0057), у испытуемых 2-й группы наблюдалось достоверное (р=0,049) увеличение времени выполнения ЧК2 + ГП. Это приводило к тому, что в этой ситуации у испытуемых 1-й группы по сравнению с испытуемыми 2-й, имело место меньшее время выполнения задания (табл. 1).
Таким образом при выполнении ЧК2 в условиях ГП у испытуемых 1-й группы в отличие от испытуемых 2-й наблюдалось снижение исходно высокого времени его выполнения и уменьшение количества допущенных ошибок.
Значения Кког тета1 потенциалов у испытуемых 1-й и 2-й групп на разных этапах обследования представлены в таблице 2. В исходном состоянии (ФОН ог) по уровню когерентности тета1 испытуемые выделенных групп не различались. Анализ
Кког тета1 потенциалов ЭЭГ на других этапах обследования установил, что значимые различия между испытуемыми выделенных групп проявлялись только на этапе, предшествующем выполнению тестов (ФОН2 ог) с голосовыми помехами, были достоверно выше у испытуемых 2-й группы и имели место только в пяти парах отведений Т3-Р3, Т3-С4 Т3-С3, Т3-F4 и Т3-F3. Можно предположить, что на этапе, предшествующим выполнению заданий в условиях ГП формируется определенное топографическое распределение когерентных связей (сеть) с фокусом активности в левой височной области коры, согласно которому у помехоустойчивых испытуемых уровень функционального взаимодействия корковых зон в пределах этой сети значимо ниже. В литературе приводятся сведения о том, что в процессе выработки стратегии когнитивной деятельности регионарное распределение функциональных связей по тета-ритму (4-7 Гц) характеризовалось преимущественным вовлечением структур левого полушария [3]. По мнению авторов частотные и топографические особенности обнаруженных функциональных корковых связей позволяют рассматривать их как отражение функционирования распределенной нейронной сети, осуществляющей взаимодействие лимбической системы мозга и управляющих структур лобной коры в процессе выработки стратегии когнитивной деятельности.
У испытуемых 1-й группы на этапе выполнения ЧК1+ГП Кког тета1 достоверно увеличивался относительно ФОН2 ог в парах Т3-Р3 (р=0,0015); Т3-С4 (р=0,024). Т3-С3 (р=0,0076); Т3-F4 (р=0,0410); Т3-F3 (р=0,0311). На этапе выполнения ЧК2 +ГП Кког тета1 достоверно увеличивался относительно ФОН2 ог в парах Т3-Р3 (р=0,019); Т3-С4 (р=0,0205). Т3-С3 (р=0,023); Т3-F4 (р=0,021); Т3-F3 (р=0,033). Кроме этого у испытуемых 1-й группы на этом этапе имело место увеличение Кког тета1 потенциалов в О1-О2 с 0,525 + 0,02 до 0,610 + 0,03 (р=0,047), С3-F3 с 0,866 + 0,007 до 0,888 + 0,006 (р=0,03), и С3-F4 c
0,651 + 0,02 lj 0,727 + 0,02 (р=0,020).
У испытуемых 2-й группы достоверных изменений Кког при выполнении тестов в условиях ГП по сравнению с предшествующим этапом не обна- ружено.
Таблица 2
Значения Кког тета1 диапазона ЭЭГ ( M±m ) у испытуемых 1-й и 2-й групп на этапе перед выполнением тестов с помехой (ФОН пп) и при выполнении тестов на ее фоне
|
Ситуации обследования |
Группы |
Пары отведений ЭЭГ |
||||
|
Т3-Р3 |
Т3-С4 |
Т3-С3 |
Т3-F4 |
Т3-F3 |
||
|
ФОН2 ог |
1 гр. |
0,508±0,02 |
0,282±0,03 |
0,440±0,04 |
0,243±0,02 |
0,343±0,04 |
|
2 гр. |
0,588±0,03 |
0,370±0,02 |
0,543±0,03 |
0,334±0,02 |
0,470±0,03 |
|
|
р = |
0,037 |
0,015 |
0,034 |
0,015 |
0,018 |
|
|
Тест ЧК1+ ГП |
1 гр. |
0,621±0,02* |
0,382±0,03* |
0,571±0,03* |
0,337±0,03* |
0,459±0,03* |
|
2 гр. |
0,652±0,03 |
0,402±0,03 |
0,600±0,03 |
0,365±0,03 |
0,523±0,03 |
|
|
Тест ЧК2+ГП |
1 гр. |
0,523±0,02* |
0,383±0,03* |
0,550±0,03* |
0,350±0,03* |
0,454±0,03* |
|
2 гр. |
0,639±0,03 |
0,403±0,03 |
0,584±0,03 |
0,354±0,03 |
0,501±0,03 |
|
Список литературы Роль низкочастотного диапазона тета ритма ЭЭГ человека в процессах переключения внимания в условиях экзогенных помех
- Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., Дудник Е.Н. Динамика параметров альфа активности ЭЭГ и вариабельности сердечного ритма при интеллектуальной деятельности человека // Физиология человека. 2015. Т. 41, № 6. С. 36-48.
- Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А., Дудник Е.Н. Спектрально-когерентные характеристики тета1 и тета2 активности ЭЭГ при когнитивной деятельности человека // Журн. Высш. нерв. деят. 2018. Т. 68, № 3. С. 327-339.
- Кошельков Д.А., Мачинская Р.И. Функциональное взаимодействие корковых зон в процессе выработки стратегии когнитивной деятельности. Анализ когерентности 0-ритма ЭЭГ // Физиология человека. 2010. Т. 36. № 6. С. 55-60.
- Методика Горбова «Красно-черная таблица». Альманах психологических тестов. М. 1995. С. 117-118.
- Судаков К.В., Джебраилова Т.Д., Коробейникова И.И., Каратыгин Н.А. Геометрические образы когерентных взаимоотношений биопотенциалов различных частотных диапазонов ЭЭГ в динамике целенаправленной деятельности человека // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2013. Т. 99. № 6. С. 706-718.
- Davidson M.J., Alais D., van Boxtel J.J., Tsuchiya N. Attention periodically samples competing stimuli during binocular rivalry // Elife. 2018. V. 7. P. 408-468.
- Korotkova T., Ponomarenko A., Monaghan C.K., et al. Reconciling the different faces of hippocampal theta: The role of theta oscillations in cognitive, emotional and innate behaviors // Neuroscience
- Tollner T., Wang Y., Makeig S., et al. Two independent frontal midline theta oscillations during conflict detection and adaptation in a Simon-type manual reaching task // Journal of Neuroscience. 2017. V. 37, № 9. P. 2504-2515.