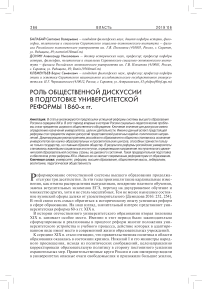Роль общественной дискуссии в подготовке университетской реформы 1860-х гг
Автор: Балабай Светлана Валерьевна, Донин Александр Николаевич, Клементьев Борис Семенович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются предпосылки успешной реформы системы высшего образования России в середине ХIХ в. В этот период впервые в истории России социально-педагогические проблемы стали предметом широкого общественного обсуждения. Ключевое значение для дискуссии имело определение назначения университетов, цели их деятельности. Именно данный аспект предстоящей реформы стал предметом жарких дискуссий представителей различных идейно-политических направлений. Доминирующим умонастроением российского образованного общества становилось осознание университетов как научно-образовательных и просветительских центров, способных принести пользу не только государству, но главным образом обществу. В результате реформы российские университеты становились важнейшим социальным институтом, определявшим направление поступательного движения всей образовательной системы страны, ее духовного состояния. Такая предварительная подготовка и обеспечила успех реформы XIX в. Именно ее не хватает современным реформаторам от образования.
Университет, реформа, высшее образование, общественная мысль, либерализм, воспитание, педагогическая общественность
Короткий адрес: https://sciup.org/170171056
IDR: 170171056 | DOI: 10.31171/vlast.v27i6.6862
Текст научной статьи Роль общественной дискуссии в подготовке университетской реформы 1860-х гг
Р еформирование отечественной системы высшего образования продолжается уже три десятилетия. За эти годы произошли такие кардинальные изменения, как отмена распределения выпускников, внедрение платного обучения, замена вступительных экзаменов ЕГЭ, переход на двухуровневое обучение и множество других, хотя и не столь масштабных. Тем не менее нынешнее состояние вузовской сферы далеко от удовлетворительного [Демидова 2016: 252, 254]. В этой связи есть смысл обратиться к историческому опыту успешных реформ в сфере образования. На наш взгляд, значительный интерес представляет университетская реформа 60-х гг. ХІХ в.
В истории отечественного университетского образования вторая половина ХІХ в. занимает особое место. Именно в этот период были законодательно сформулированы и реализованы в процессе реформ многие положения университетского устройства и учебного процесса, действие которых в адаптированном виде имеет место в современной жизни образовательных учреждений.
К середине ХІХ в. стало очевидно, что правительственная политика в области образования оказалась в состоянии кризиса. Николай І и его министры народного просвещения, исходя из политических соображений, целенаправленно корректировали образовательную политику в сторону постоянного усиления охранительных мер. Правительственные круги России и сам император видели в университетах опасные очаги свободомыслия и приложили большие усилия, чтобы ограничить их деятельность. Наблюдалось неприкрытое стремление превратить университеты в орудия поддержки бюрократического строя. Это выражалось в насаждении застойных принципов устройства академической жизни, заорганизованности учебного процесса, запрете преподавания многих прогрессивных научных идей. Бюрократизация образования сопровождалась искусственным торможением количественного роста его системы: сокращением приема и выпуска, замораживанием открытия новых высших учебных заведений. В результате прекратилось поступательное развитие образовательной системы, наметилось ее отставание, неадекватное реагирование на потребности общества.
Бурное время середины ХІХ в. после поражения России в Крымской войне заставило и правительство, и общество серьезно задуматься над путями развития страны. В это время многие в правительственных кругах осознавали значимость образования для успешного развития России. Реформа системы образования во второй половине 1850-х гг. выдвинулась в число первоочередных задач. Министерство народного просвещения взяло на себя инициативу подготовки и осуществления преобразований в подведомственной сфере.
Принципиально важно, что реформа не превратилась в бюрократическое детище. Впервые в истории России социально-педагогические проблемы, как и многие другие проблемы того времени, стали предметом широкого общественного обсуждения. На стадии подготовки образовательных реформ мыслящая часть общества активно включилась в выработку их стратегии. Исключительную роль в этом сыграла знаменитая статья Н.И. Пирогова «Вопросы жизни», впервые увидевшая свет в «Морском сборнике» летом 1856 г. Она вызвала живой интерес у самых разных людей и положила начало широкой дискуссии по вопросам образования, вышедшей далеко за пределы педагогических кругов.
Ученый комитет Главного правления училищ, которому была поручена разработка юридической основы реформ – уставов гимназий и университетов, – состоял из ведущих ученых и педагогов и опирался в своей работе не только на установки верховной власти, но и на передовые идеи, взгляды, теории и концепции, выработанные отечественной и зарубежной общественной мыслью.
В ходе дискуссий по проблемам образования, в организации которых важную роль сыграла периодическая печать различных направлений, и при обсуждении проектов уставов были сформулированы принципиальные положения будущего устройства средней общеобразовательной школы и университетов.
Дискуссии касались вопросов устройства университетского образования: назначения, места и их роли в обществе, управления университетом, положения преподавателей и студентов. Идеи автономии, самоуправления, академической свободы, устранения бюрократической опеки, повышения социального статуса преподавателей, корпоративного объединения студентов, совершенствования методов преподавания и т.п., высказанные на страницах печатных изданий, в подготовленных замечаниях на проект университетского устава, формировали стратегию и тактику образовательной реформы высшей школы, влияли на разработку положений законопроекта.
Исторически сложилось, что университеты России создавались властью и предназначались, главным образом, для удовлетворения потребностей в формировании бюрократии. Направленность университетов именно на подготовку государственных служащих неоднократно акцентировалась в многочисленных законодательных и нормативных документах первой половины XІX в. В период правления Николая І утилитарно-служебное направление деятельности университетов только усилилось. Следует отметить, что негативные последствия такого положения хорошо осознавались многими российскими мыслящими людьми.
«Университеты были учреждены для потребностей отчасти правительства, – писал Л.Н. Толстой, – отчасти высшего общества, и для университетов уже учреждена вся подготавливающая к ним лестница учебных заведений, не имеющая ничего общего с потребностью народа» [Толстой 1989: 221]. Аналогичные мысли высказывали и другие авторы. Так, в одном из номеров еженедельника «Современная летопись» за 1861 г. отмечалось, что «наши университеты возникали не сами собой, не вследствие потребностей общества… а благодаря воле правительства, нуждавшегося в людях, годных для государственной службы»1.
Еще один, хотя и менее значимый, аспект предназначения российских университетов подметил профессор Харьковского университета Д.И. Каченовский, писавший о детях состоятельных родителей, которые, по его словам, попадают в студенты «как баричи, для того чтобы просветиться слегка; смиренно получить диплом и потом гордо носить титул образованного человека в кругу невежд» [Донин 2003: 81].
Поскольку прежний подход признавался устаревшим, для успеха реформы образования надо было выдвинуть альтернативу. Инициатор общественной дискуссии Н.И. Пирогов в качестве оздоровляющего средства предлагал поставить университеты на «чисто научную почву» и избавить их от служебно-образовательного направления, придав им чисто научный характер, предоставив право готовить к службе специальным учебным заведениям [Пирогов 1953: 327].
Мысль о том, что общественно-полезная значимость университета существенно возрастет по мере усиления его научного направления, высказывали многие участники полемики. Так, ученый-историк Н.И. Костомаров, развивая эти взгляды, утверждал, что цель университетов заключается не в обслуживании правительства, а в установлении «органической связи науки с жизнью общества». А это, по словам ученого, и есть то, что «мы называем просвещением». Н.И. Костомаров неоднократно подчеркивал, что наука «не есть подготовительное пособие, а действующий орган; чем более проникает она в общественную жизнь, чем более руководит ею и делается необходимою для нее, тем прогресс благосостояния идет вернее, правильнее, скорее и полнее» [Костомаров 1861].
Точка зрения на университеты как учреждения научные стала повсеместно господствующей; она звучала лейтмотивом в ходе обсуждения университетского законопроекта в научно-педагогическом сообществе. Наука, по мысли ученых, должна была занять главенствующее положение в университетах. Так считали, например, профессора В.В. Бауер, Н.Х. Бунге, В.П. Васильев, литературный критик и публицист Д.И. Писарев.
Открыто пытались отрицать значение науки в университетском образовании только некоторые религиозные деятели. Так, смоленский епископ Антоний утверждал: «Невозможно допустить, чтобы в учреждениях, основанных, содержимых и покровительствуемых христианским правительством, преподавалось что-либо, несогласное с религиозными и нравственными началами и враждебное государственному порядку, хотя бы это тысячу раз считалось и называлось согласным с современным требованием науки» [Замечания… 1862: 437-438].
Отстаивая научный характер университетского образования, российские мыслители 1860-х увязывали его с идеями широкого общественного просветительства. Не случайно в литературе того времени университет именовался «рассадником просвещения», призванным формировать общественное мнение, раскрывать населению существо процессов, происходящих в общественно- политической и экономической жизни страны. Общественные функции университетов рассматривались как важнейшие сферы деятельности. «Прямое назначение наших университетов, – писал по этому поводу Н.И. Пирогов, – это быть маяками, разливать свет на большие пространства и потому стоять высоко и светить» [Пирогов 1953: 346]. В свою очередь Лев Толстой утверждал, что «цель университетов – распространение образования на наибольшее количество людей» [Толстой 1989: 215].
Настойчиво и последовательно ставили вопросы об общественном назначении университетов демократическая литература и печать. «Сочувствие общественным интересам и живое общение с ними одни только и могут придать науке истинную полезность и сделать ее интересною и нужною для общества, – отмечал Н.А. Добролюбов. – Пока она плавает в отвлеченностях, погружается в схоластику, растрачивается в бесплодной диалектике, до тех пор она и не имеет права требовать, чтобы общество интересовалось ею» [Добролюбов 1941: 303].
Таким образом, доминирующим умонастроением российского образованного общества становилось осознание университетов как научно-образовательных и просветительских центров, способных принести пользу не только государству, но главным образом обществу.
В связи со студенческими выступлениями начала 1860-х гг. возник вопрос о роли университетов в политической жизни. Втягивание университетов в обсуждение политических вопросов, перерастающее в так называемые беспорядки, вызывало в ученой среде либерального толка серьезную озабоченность, о чем неоднократно заявляли их представители в лице Б.Н. Чичерина, В.Д. Спасовича, А.В. Никитенко и др. По их убеждению, уделом университета должно быть решение научно-образовательных задач. Революционные демократы, наоборот, стремились внести в университеты, и прежде всего в студенческие слои, идеи революционного переустройства жизни и не представляли университеты вне политики. Революционные демократы и их печатные органы – «Современник», «Русское слово», а также «Колокол» – решение образовательных задач связывали с изменением существующего строя, который они беспощадно критиковали. На этапе подготовки социальной революции, с которой связывались радикальные перемены, они ставили перед университетами задачу «приготовления для общества полезных деятелей» и просвещение народа. «Честный» человек «не может быть другом правительства», он должен быть революционером или, по меньшей мере, должен сочувствовать «общему делу» – такова была «новая нравственность», определяющая направления жизни «критически мыслящей личности».
Консервативно-охранительное направление общественной мысли рассматривало университеты как государственные учебно-воспитательные заведения, находящиеся под неусыпным внутренним и внешним чиновничьим контролем в вопросах воспитания студентов и преподавания. Научные вопросы университетского образования ставились его представителями в полное подчинение казенным интересам.
Еще одна важная проблема получила широкое обсуждение в обществе и правительственных кругах с осени 1861 г., когда в столичной печати появились статьи профессора Н.И. Костомарова. Костомаров сделал вывод о том, что существует потребность радикального их преобразования. «Университеты наши представляют собою что-то неопределенное, неустановившееся, какую-то середину между школою и ученою академией, и очень многие не решили себе задачу, чем они должны быть: воспитательно-учебными или образовательноучеными заведениями, – писал Костомаров. – До сих пор они имеют претензию быть тем и другим вместе, и в самом деле – они ни то, ни другое, потому что ни то, ни другое несовместимо, по своей сущности». По мнению ученого, воспитательно-учебные задачи должна решать школа, а научно-образовательные – университеты. Тем самым профессор возлагал на университеты лишь научно-образовательные цели. Это был проект открытого для всех желающих типа университета, где должны существовать «свобода преподавания и свобода слушания». Он даже предложил отменить звание студента, приемные экзамены [Костомаров 1861: 26].
Сходные идеи вскоре высказал Л.Н. Толстой в статье «Образование и воспитание», наделавшей много шума в образовательном ведомстве. В ней известный писатель, опираясь на свой яснополянский педагогический опыт, попытался в духе идей Костомарова критически рассмотреть постановку образовательных и воспитательных задач в отечественной образовательной системе, в т.ч. и в университетах. Л.Н. Толстой находил, что право на законное существование в педагогике имеет только образование, основанное на свободе и представляющее собой, по его убеждению, «совокупность всех тех влияний, которые развивают человека», а воспитание есть «принудительное, насильственное воздействие одного лица на другое с целью образовать такого человека, который нам кажется хорошим». Без «свободы образования», подчеркивал он, «все университетское устройство стоит на ложных основаниях» [Толстой 1989: 208-209, 230].
Идеи Костомарова и Толстого были восприняты в обществе неоднозначно. В научно-педагогических и литературных кругах, где мысли о демократизации науки и самих университетов имели многочисленных приверженцев, проект Костомарова вызвал одобрение и поддержку. Вместе с тем проект Костомарова имел и немало противников. Те из них, кто придерживался консервативных взглядов, были недовольны демократическими предложениями автора, другие, стоящие на позициях эволюционной модернизации университетского строя, видели в них в случае осуществления предпосылку разрушения университетов как учебных заведений со сложившимися принципами внутреннего устройства.
Особенно сильную оппозицию костомаровскому проекту открытых университетов составили Б.Н. Чичерин и М.Н. Катков. Б.Н. Чичерин в ряде номеров «Московских ведомостей» поместил в конце 1861 г. несколько статей под общим названием «Что нужно для русских университетов?». Выступал он и против противопоставления образования воспитанию, утверждая, что университет должен и может иметь не одно только образовательное, но и великое воспитательное значение для юношества. Теоретик либерализма, ученый-педагог Чичерин придавал большое значение существованию в университете особой умственной атмосферы, научных традиций, студенческого товарищества в научных занятиях и т.п. По мнению Чичерина, университеты – это то место, где «русское юношество совлекает с себя первобытную закоснелую пошлость гоголевских героев и начинает приобретать духовные интересы и идеальные влечения» [Чичерин 1862: 55].
Ему вторил Катков в «Современной летописи»: «Университет без студентов перестанет быть университетом: уничтожая студенчество, вы убиваете университет. Университетское корпоративное устройство должно обнимать собой не только профессоров, но и студентов. Студенческий быт есть один из воспитательных элементов этого устройства. Если он дурен в том или другом университете, то надобно заботиться об его улучшении, но уничтожать его не следует»1.
Следует отметить, что представители консервативного направления, отстаивая воспитательное значение университетов, имели в виду прежде всего воспитание лояльности к существующим порядкам. За усиление воспитательных функций университетов последовательно выступала редакция «Русского вестника». В статьях по университетскому вопросу, публиковавшихся в изданиях Каткова, все больше подчеркивалась роль охранительных тенденций, отражающих мнение консервативно настроенных правительственных кругов, настойчиво делался упор на воспитательном значении университетов.
На страницах «Русского вестника» был поднят вопрос о создании элитарных по своей сути учебных заведений, дающих высшее образование. От бедных студентов, по мнению авторов-консерваторов, исходит много опасностей в последующем. В «Современной летописи» писали о синдроме выпускника-разночинца, указав на социально-психологические истоки радикализма русской интеллигенции: «С тем образованием, какое по большей части выносится из наших университетов, далеко уйти невозможно, а трудиться в какой-нибудь более низменной сфере кажется уже неприличным, и вот те из них, которым не удалось попасть в число чиновников с порядочным доходом, начинают тяготиться своим положением и становятся в ряды людей недовольных всем общественным и государственным строем. При нашей системе дарового и поверхностного обучения, соединяемого еще с внешними к нему приманками, наши университеты и вообще казенные заведения развивают у нас мало-помалу класс умственных пролетариев, от которого нельзя ждать ничего, кроме вреда для страны» [Донин 2003: 96].
Таким образом, назначение университетов, их место и роль в обществе представителями различных направлений общественной мысли трактовались неоднозначно. Либеральная часть профессоров и общественности видела в них высшие учебные заведения с корпоративным устройством, основанном на принципах академической свободы и университетской автономии, заведения, предназначенные для того, чтобы давать своим питомцам научные знания. Леворадикальные публицисты, отстаивавшие идеи демократии, рассматривали университеты главным образом в контексте предстоящей социальной революции – как базу формирования «мыслящего пролетариата», «новых людей». Консерваторы в своем желании обезопасить самодержавный строй в условиях студенческих волнений предлагали меры, направленные на замораживание процесса демократизации университетов, сознательно преувеличивая их воспитательную направленность в ущерб научному содержанию преподавания.
В начале 1860-х гг. либеральное направление возобладало. Министром народного просвещения был назначен А.В. Головнин, который по своим убеждениям был западником, и это обстоятельство имело свое преломление в подготовленных уставах и первых шагах по их внедрению в образовательную практику. Принятый в 1863 г. новый устав университетов провозглашал академические свободы и университетскую автономию, профессорскую корпорацию. Все научные, учебные и многие административно-хозяйственные дела передавались коллегиальным органам – университетскому совету и факультетским собраниям.
Начавшаяся по уставу 1863 г. реформа позитивно отразилась на многих сторонах жизни университетов, в частности на подготовке профессорско-преподавательских кадров; качественные изменения произошли в учебном процессе, чему в немалой степени способствовало усиление материальной базы университетов, внедрение новых форм и методов обучения, дифференциация и специализация образования; усилилось научное значение университетов. В результате реформы российские университеты становились важнейшим социальным институтом, определявшим направление поступательного движения всей образовательной системы страны, ее культурный облик в сфере материального производства и духовного состояния. И хотя в 1870–80-х гг. некоторые либеральные новшества были отменены, отечественная система высшего образования продолжала успешно развиваться, обеспечивая страну высококвалифицированными кадрами.
Разумеется, было бы неправильным проводить прямые аналогии с современными реформами системы высшего образования, но некоторые уроки извлечь можно. На наш взгляд, успех реформы середины XІX в. в значительной мере был обеспечен предварительной широкой общественной дискуссией, в которой приняли представители всех идейно-политических направлений и заинтересованные лица – от крупных государственных сановников до провинциальных учителей. Причем дело не ограничилось просто разговорами. После нескольких лет общественной дискуссии был опубликован проект университетского устава. Министерство народного просвещения несколько месяцев собирало отзывы специалистов о нем, а затем опубликовало двухтомник замечаний от отечественных организаций и отдельных лиц и отдельный том замечаний от иностранных педагогов. Только после этого началась подготовка окончательного варианта нового устава. При этом в ходе общественной дискуссии определялись не только отдельные конкретные параметры реформы. Самое главное, были публично определены ее стратегические цели: какими должны быть российские университеты, и для чего они нужны стране. Именно предварительная подготовка в значительной мере обеспечила успех реформы XІX в. Такой подготовки не хватает современным реформаторам от образования. В результате «реформаторский зуд» приводит только к снижению уровня отечественного высшего образования и обесцениванию статуса университета как подлинного научно-образовательного центра.
Список литературы Роль общественной дискуссии в подготовке университетской реформы 1860-х гг
- Демидова Е.И. 2016. Рецензия на книгу "Грани российского образования". - Власть. Т. 24. № 12. С. 252-255
- Добролюбов Н.А. 1941. Полное собрание сочинений. В 6 т. М.: Художественная литература. Т. 5. 651 с
- Донин А.Н. 2003. Университетские реформы в России: общественная мысль и практика. Вторая половина XIX века. Саратов: Изд-во СГСЭУ. 256 с
- Замечания на проект общего устава императорских российских университетов. 1862. Ч. 2. СПб: Императорская Академия наук. 533 с
- Костомаров Н.И. 1861. Замечания о наших университетах. - С.-Петербургские ведомости. 26 октября. № 237
- Пирогов Н.И. 1953. Избранные педагогические сочинения. М.: Изд-во Академии педагогических наук РСФСР. 752 с
- Толстой Л.Н. 1989. Педагогические сочинения. М.: Педагогика. 542 с
- Чичерин Б.Н. 1862. Несколько современных вопросов. М.: Изд-во К. Солдатенкова. 265 с