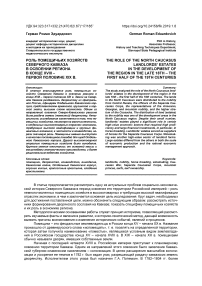Роль помещичьих хозяйств Северного Кавказа в освоении региона в конце XVIII - первой половине XIX в
Автор: Герман Роман Эдуардович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль помещичьих хозяйств Северного Кавказа в освоении региона в конце XVIII - первой половине XIX в. Земли на Северном Кавказе раздавались дворянству из Центральной России, офицерам Отдельного Кавказского корпуса, представителям армянской, грузинской и горской знати, высшим слоям казачества. Одним из направлений освоения Северо-Кавказского региона была раздача земель (поместий) дворянству. Актуальность исследования заключается в том, что помещичьи хозяйства, несмотря на малочисленность, в отдельных высокотоварных отраслях экономики, требующих высокой квалификации и крупных финансовых вложений, в частности в коневодстве, играли значимую роль. Помещичьи имения выступали в качестве поставщиков лошадей для нужд Отдельного Кавказского корпуса. Другой высокотоварной отраслью помещичьих хозяйств было виноделие. Крупные имения отличались от основной массы и масштабами экономического производства, и более рациональным ведением хозяйства.
Помещики, дворянство, коневодство, виноделие, кавказская война, отдельный кавказский корпус, горские князья, крепостные крестьяне, владение крестьянами
Короткий адрес: https://sciup.org/149133835
IDR: 149133835 | УДК: 94:323.317+332.21(470.62/.67)“17/185” | DOI: 10.24158/fik.2019.1.8
Текст научной статьи Роль помещичьих хозяйств Северного Кавказа в освоении региона в конце XVIII - первой половине XIX в
Герман Роман Эдуардович
В статье предполагается рассмотреть одну из актуальных проблем социально-экономической истории Северного Кавказа в период освоения его территории Российской империей – роль немногочисленных помещичьих хозяйств в высокотоварных и требующих высокой квалификации отраслях экономики, в чем и заключается основная цель исследования. Круг задач, необходимых для достижения поставленной цели, можно обозначить следующим образом: рассмотреть источники формирования дворянского сословия на Кавказе; показать специфику помещичьих хозяйств и их роль в экономике региона.
Методологическими основаниями работы служат принцип историзма, позволяющий рассмотреть изучаемые факты и явления в развитии, и историко-генетический метод, дающий возможность выявить причины возникновения и изменения исторических событий, явлений и процессов.
Помещики – это феодальные землевладельцы в России конца ХV – начала ХХ в. Название произошло от древнерусского слова «испомещать», т. е. поселять на определенной территории, которая затем получила наименование «поместье», являвшееся условным видом землевладения в Российском государстве конца XV - начала XVIII в . В XIX - начале XX в. помещиками обычно называли дворян , имевших собственные земли.
Начиная с последней четверти XVIII в. Российская империя приступает к планомерному освоению территории Кавказа. Одним из направлений этого освоения было заселение Кавказской губернии славянским населением – колонизация. В целях расширения масштабов колонизации и ускорения ее темпов в 1782 г. был издан указ, разрешающий раздачу кавказских земель дворянству. Исполнителем этого указа был назначен Г.А. Потемкин. В 1782–1804 гг. более
400 тыс. десятин земель раздали помещикам. Так, в 1783 г. обер-прокурор князь Вяземский получил земли по левой стороне реки Кумы и на побережье Каспийского моря, всего 125 тыс. десятин. В 1786 г. в Георгиевском уезде Кавказской губернии 12 тыс. десятин получил граф Чернышов, более 16 тыс. десятин – Воронцов, несколько тысяч десятин – Безбородько. Надо отметить, что земли раздавались при условии их заселения крестьянами в течение 6 лет [1, с. 53].
Однако правительство Екатерины II вскоре убедилось, что такого рода политика не может обеспечить быстрого и прочного заселения края. Раздача пустых земель производилась в широких масштабах, но заселение шло медленно, так как требовало больших средств. Даже крупные владельцы не спешили переселять своих крестьян из владений в центральных губерниях на Кавказ и переселяться сами, поскольку на территории Кавказской губернии был еще очень слаб административный контроль. Помещики не хотели отправлять своих крестьян на неспокойный Кавказ, так как никто не мог дать гарантий того, что крестьяне, будучи поселены в малоосвоенных предкавказских степях, не попытаются сбежать. В силу вышеуказанных причин помещичья колонизация на Ставрополье не получила широкого распространения.
Вместе с тем формирование слоя помещиков происходило не только за счет переселения землевладельцев из центральных губерний, но и иными путями. С конца XVIII в. масса чиновников, офицеров, а также выходцы из Грузии, получившие грамоты на дворянство от царя Ираклия II, спешили записаться в родословные книги Кавказской губернии в надежде сделать карьеру, получить земли, ордена. В 1802 г. кизлярские дворяне жаловались, что до сих пор не утверждены в дворянском достоинстве, а поэтому лишены возможности занимать официальные должности и получать земли. Это при том, что на рубеже XVIII–XIX вв. большинство дворян Кизлярского и Моздокского уездов плохо владели русским языком. В 1795 г. дворяне Кавказской губернии подписали протокол о выборах по-грузински и по-армянски. В 1818 г. кизлярский уездный предводитель дворянства Калантаров подписывался только по-армянски.
Значительное количество кавказских дворян-помещиков были выходцами из Германии и Польши, офицеры приезжали на Кавказ в действующий Кавказский корпус в первой половине ХIХ в. делать карьеру и получать поместья. Не умевшие ни читать, ни писать по-русски (Зервальд с 1795 г. – городничий Ставрополя), они, однако, были приняты местной элитой и были записаны в дворянскую родословную книгу Кавказской губернии.
Закрепляя завоеванные на Северном Кавказе позиции, царское правительство щедро раздает плодородные земли не только российскому дворянству, но и горским князьям, перешедшим на русскую службу. Огромные поместья получили в Кизлярском уезде князья Бековичи-Черкас-ские, Горичи и др.
Включения в дворянство и закрепления за ними земель добились на рубеже XVIII–XIX вв. высшие круги казачества. Крепостнические отношения среди казаков Кавказской линии и Черно-мории проявлялись довольно активно. Старшины казачьих полков настойчиво добивались от правительства получения прав на приобретение крестьян. Право на владение землей с крестьянами в обыденном сознании было неотъемлемой составляющей принадлежности к дворянскому сословию [2, с. 19].
И все же помещичье хозяйство в целом не сыграло заметной роли в экономическом развитии Ставрополья из-за малочисленности помещиков как социальной группы. Большинство помещиков были мелкопоместными. Исключение составляли несколько крупных помещичьих хозяйств.
В 1844 г. 9 кизлярских помещиков имели в общей сложности свыше 200 садов (до 2 млн кустов), из которых они получали до 200 тыс. ведер вина, тысячи ведер водки и спирта. В имениях помещиков Пятигорского уезда в 1848 г. насчитывалось 8 крупных виноградников, принадлежащих самим помещикам, и 194 виноградника, принадлежащих их крестьянам.
Как отмечено выше, помещичьи хозяйства не сыграли значительной роли в освоении Кавказской области (губернии), но среди них встречались имения, которые отличались от основной массы и масштабами экономического производства, и более рациональным ведением хозяйства. К такого рода помещикам относились Воронцовы. Имение, расположенное в Георгиевском уезде Кавказской области, было пожаловано А.Р. Воронцову в 1788 г. Эти земли на Кавказе были пожалованы с целью насаждения русского землевладения на окраинах как одна из форм освоения приобретенной территории. В этом имении значилось земель: пашни – 11 053 дес. 1 200 саж., леса – 400 дес. 730 саж., покоса – 3 430 дес. 570 саж. [3, л. 11–11 об.]. С 1783 по 1801 г. в Георгиевском уезде Кавказской губернии Воронцовыми было приобретено 16 791 дес. пахотной земли [4, л. 60].
Земля (кроме розданной крестьянам для пахоты) использовалась владельцами под пастбища. Не заводя в этом имении своей запашки, Воронцовы использовали самое ценное – равнинные луга. Обилие пастбищ обещало выгоды от разведения скота, и в 1792 г. здесь был организован конный завод, который был значительно расширен в 1817 г. (очевидно, это связано с началом планомерного распространения российской власти на Кавказе).
Как отмечает современный исследователь П. Хенце, «в начале XIX в. империя осуществляла полный контроль над Грузией, Арменией и Азербайджаном, однако на протяжении 35 лет ей пришлось вести войну против северокавказских горцев, чтобы получить контроль над всей территорией» [5, p. 389].
В то время в районе Георгиевска проходил левый фланг Кавказской укрепленной линии, и у армии имелся постоянный спрос на лошадей. Воронцовы разводили специальную местную горскую породу, которая была приспособлена к местным условиям и благодаря устойчивому спросу давала стабильный доход.
Несмотря на то что основными производителями сельскохозяйственной продукции в области (губернии) были государственные крестьяне, с коневодством дела обстояли иначе – его центрами являлись крупные помещичьи имения. Эта особенность коневодства, очевидно, была связана с тем, что оно требовало больших материальных затрат, значительного количества рабочих рук, пастбищных угодий. Такие условия можно было создать только в крупном помещичьем хозяйстве. Наличие в регионе действующей армии, постоянно нуждавшейся в лошадях, делало коневодство весьма выгодным занятием и позволяло окупить все затраты.
По свидетельству помещика князя Бековича-Черкасского – владельца конного завода, в 1843 г. у него находилось 1000 лошадей персидской, турецкой, английской, кабардинской и чепи-ловской пород. Наибольшим спросом пользовались лошади «местной», т. е. кабардинской, породы, поскольку они «весьма полезны для кавалерии здешнего края». Лошади эти «продаются ремонтерам» (т. е. тем, кто занимался организацией поставок лошадей в действующие войска) и «прогоняются для продажи в Грузию ценою от 60 до 80 рублей серебром». Главной целью тренировки лошадей было «воспитание» у них качеств, необходимых для военной службы. К таким качествам относились «привычность» к выстрелам из огнестрельного оружия «и дабы во всей прыти всадник мог попасть в цель, сверх сего при пылком с неприятелем сражении по управлению всадником же могла во все стороны делать быстрые и верные извороты, и наконец, в мгновение ока могла лошадь становиться на желаемое место или избегнуть неминуемой опасности» [6, л. 25–27]. Как видно из этой характеристики, коневодство в Кавказской области было связано с обеспечением потребностей Кавказского корпуса.
Достаточно подробно коневодство на Ставрополье рассмотрено в рапорте Кавказского областного предводителя дворянства гражданскому губернатору [7, л. 44–45]. Рапорт этот был написан в связи с тем, что развитие коневодства на Кавказе в начале 1840-х гг. стало одним из направлений правительственной политики, об этом последовали указы императора и сената. Лошадь оставалась практически единственным транспортным средством, и в регионе, где шла война, коневодство становилось жизненно необходимой отраслью. Для того чтобы владеть информацией о состоянии коневодства в области, губернатор приказал предводителю дворянства написать этот рапорт.
Как отмечает предводитель дворянства (который тоже был владельцем конного завода), в конце 1830-х – начале 1840-х гг. на Ставрополье произошло некоторое уменьшение численности лошадей. «Причины сему уменьшению очевидны». Раньше, до активного заселения Предкавказья славянскими переселенцами, на степных просторах паслись многочисленные конские табуны, пастбищ «было в избытке». С началом заселения территории Кавказской области крестьянами и казаками степи стали распахиваться и превращались в поля, а площадь пастбищ сокращалась. Для защиты лошадей от плохой погоды и холодов нужны конюшни, для постройки конюшен – строительные материалы. Кроме того, каждый год конюшни требовали ремонта, для прокорма и содержания лошадей нужны корма. Наконец, для ухода за лошадьми нужны люди, а крепостных крестьян на Ставрополье было немного. При небольшом количестве крепостных трудно выделить специальный персонал, а значит, и обеспечить надлежащий уход. Как пишет конезаводчик, крестьяне в его имении одновременно «…и хлебопашцы, и садоводы, шелководы и огородники; мельники и плотники; каменщики и кирпичники; кузнецы и слесари». Данные характеристики коневодства подтверждают высказанные ранее предположения о его трудоемкости и дороговизне, что делало его доступным далеко не каждому помещику или крестьянину.
Несмотря на эти трудности, предводитель дворянства все равно занимался торговлей лошадьми, поскольку на них в области был устойчивый спрос «для кавалерии, для артиллерии и для разъездов, даже для почтовой гоньбы». Выбор лошадей для разных нужд на ярмарках был весьма широкий, так как их выставляли на продажу крупные и «мелочные» заводы, «кочевые калмыки, трухмяне, ногайцы, горские черкесы».
Лучшими конскими заводами в области предводитель дворянства считает хозяйства помещиков Ростованова, Бековича-Черкасского (Пятигорский округ), Мойвалдова и Рослякова (Ставропольский округ). Небольшие конные заводы были у старшин Кавказского казачьего войска.
Еще одним примером предпринимательского помещичьего хозяйства может служить крупное помещичье имение А.Ф. Реброва в Пятигорском округе Предкавказья. На 599 десятинах плодород- ной пашни Ребров собирал большой урожай пшеницы, которую сбывал не только на местных рынках, но и далеко от имения – на Дону и Черноморском побережье. Большие доходы приносили помещику разведение овощей для ближайших городов, сенокосы и особенно виноградники. Кроме того, в имении были тутовый сад, образцовое шелкомотальное заведение, шесть водяных мельниц, конный завод на 900 лошадей, большое стадо крупного рогатого скота и овец, в том числе тонкорунных. В 1842 г. Ребров получил от своего предпринимательского хозяйства крупный доход – около 12 тыс. р. серебром. Характерно, что самые трудоемкие процессы при обработке садов, виноградников и огородов выполнялись не крепостными крестьянами (у Реброва их было 556 душ обоего пола), а наемными работниками, обладавшими более высокой квалификацией [8, с. 233].
С точки зрения рассмотренных фактов не вполне состоятельными выглядят выводы отдельных зарубежных исследователей о колониальном характере деятельности России на Северном Кавказе [9]. Как известно, колония служит для извлечения прибавочной стоимости, тогда как при рассмотрении хозяйственной деятельности помещичьих имений на Кавказе мы видим множество примеров крупного вложения средств и создания экономической инфраструктуры.
На начальных этапах освоения Российской империей территории Северного Кавказа одним из инструментов этого процесса была раздача земель на Кавказе дворянам. Заселить и освоить при помощи помещиков регион не удалось из-за его удаленности от центра и в силу этого – слабого административного контроля, однако помещичьи имения заняли свою нишу в общей системе экономики региона. Источниками формирования дворянско-помещичьего сословия на Северном Кавказе были: раздача земель на Кавказе помещикам из центральных губерний; получение поместий за службу чиновниками и офицерами, служившими на Кавказе; инкорпорирование в дворянское сословие Российской империи представителей горской, грузинской и армянской аристократии, высших кругов казачества, что также было связано с раздачей земель.
Большинство помещичьих хозяйств были небольшими, однако отдельные имения выделялись не только крупным размером, но и способами и результатами ведения хозяйства. Так, крупные помещичьи имения были центрами высокотоварного коневодства. Потребность в обученных лошадях была высокой, так как шла Кавказская война, одним из постоянных покупателей лошадей были воинские формирования Отдельного Кавказского корпуса. Коневодство требовало крупных пастбищных угодий, высоких финансовых вложений, квалифицированных работников – все эти условия возможно было создать в крупном помещичьем имении.
Успешным в экономическом отношении было помещичье хозяйство Реброва, в котором занимались выращиванием пшеницы, овощеводством, виноградарством, шелководством, коневодством, скотоводством. Стоит обратить внимание на то, что работы, требующие высокой квалификации, в имении выполняли не крепостные крестьяне, а наемные работники.
Таким образом, можно заключить, что помещичьи хозяйства на Северном Кавказе, несмотря на малочисленность, играли значимую роль в отраслях хозяйства, требующих больших денежных вложений, крупных земельных угодий, высокой квалификации работников – прежде всего в коневодстве, шелководстве и виноделии.
Ссылки:
Список литературы Роль помещичьих хозяйств Северного Кавказа в освоении региона в конце XVIII - первой половине XIX в
- Чекменев С.А. Переселенцы: очерки заселения и освоения Предкавказья русским и украинским казачеством и крестьянством в конце XVIII - первой половине XIX в. Пятигорск, 1994. 352 с.
- Базюк Н.А. Самоидентификация дворянства Российской империи. XVIII - первая половина XIX в. // Из истории народов Северного Кавказа. Вып. 3. Ставрополь, 2000. С. 17-21.
- ГАСК (Гос. арх. Ставроп. края). Ф. 444. Оп. 1. Д. 2311. Л. 11-11 об.
- Henze P.B. Russia and the Caucasus // Journal Studies in Conflict & Terrorism. 1996. Vol. 19, iss. 4. P. 389-402. DOI: 10.1080/10576109608436017
- ГАСК. Ф. 444. Оп. 1. Д. 2365. Л. 25-27.
- История СССР с древнейших времен до наших дней: в 12 т. Т. 4. Назревание кризиса крепостного строя в первой половине ХIХ в. / под ред. Б.Н. Пономарева. М., 1963. 465 с.
- King Ch. The Ghost of Freedom. A History of the Caucasus. Oxford, 2008. 292 p. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780195177756.001.0001