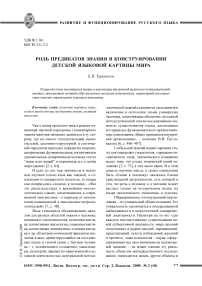Роль предикатов знания в конструировании детской языковой картины мира
Автор: Тарасенко Елена Валентиновна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 2 (10), 2009 года.
Бесплатный доступ
В данной статье поднимается вопрос о реализации внутренней валентности предикативной основы с заполнением позиций, обусловленных моделью сочетаемости, характерной для семантики глаголов знания в речи младшего школьника
Языковая картина мира, модель предложения, предикаты знания, младший школьник
Короткий адрес: https://sciup.org/14969428
IDR: 14969428 | УДК: 811.161
Текст научной статьи Роль предикатов знания в конструировании детской языковой картины мира
Уже с конца прошлого века в рамках изменения научной парадигмы гуманитарного знания маятник начинает двигаться в ту сторону, где на «место господствующей сциентистской, системно-структурной и статической парадигме приходит парадигма антропоцентрическая, функциональная, когнитивная и динамическая, возвратившая человеку статус “меры всех вещей” и вернувшая его в центр мироздания» [2, с. 64].
И если до сих пор лингвисты в основном изучали только язык как таковой, в отвлечении от конкретного носителя, то теперь они повернулись «лицом» к человеку... «Все это свидетельствует о важнейшем методологическом сдвиге, наметившемся в современной лингвистике – о переходе от лингвистики имманентной к лингвистике антропологической» [7, с. 48].
Язык становится объединяющим началом для разных областей знания о человеке: возникают этнопсихология, психолингвистика, когнитивная психология, социолингвистика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика и др. «В антропологической парадигме изучения языка, ориентирующейся на постижение языка в тесной связи с бытием человека – с человеческим сознанием, мышлением, культурой, предметно-практической и духовной деятельностью, центральной методо- логической задачей становится эксплицитное включение в онтологию языка универсума человека, позволяющее объяснить на единой методологической основе все важнейшие моменты существования языка, касающиеся его природы, функционального предназначения, становления, общих принципов внутренней организации», – отмечает В.И. Пустовалова [6, с. 406–407].
Глобальной задачей нашего времени стало, как определяет гносеология, «придание человеческого лица, человеческого измерения всему тому, что создал творческий гений человека» [3, с. 73], в том числе науке. И в этом смысле научная мысль в своем стремлении быть «ближе к человеку» оказалась близка христианской антропологии, суть которой в том, что речь к человеку и о человеке может вестись только на человеческом языке, на языке человеческого мышления и чувства.
Общепризнанно, что внутренний мир человека – это уникальный объект познания. Его уникальность заключается в опосредованной наблюдаемости и недостаточной эмпирической досигаемости. Несмотря на то что «для каждого вполне очевидно существование некой субъективной реальности, мира явлений психических в форме мыслей, переживаний, представлений, чувств, побуждений, желаний и прочего», даже психология – наука, сфокусировавшая все свое внимание на человеческой психике, – не может сделать эту реальность объектом непосредственного исследования: «приходится искать другие объекты и через их изучение – косвенно – делать выводы о собственной психике» [8, с. 585]. Как ни в какой другой концептуальной области, в сфере психического все гипотетично и субъективно. Вненаучная (художественная, религиозномифологическая, народно-поэтическая) и донаучная (житейская) мысль каждая по-своему обобщает и интерпретирует эту субъективную реальность.
Своеобразно репрезентируется внутренний мир человека и в естественном языке, поскольку, как утверждают исследователи, «язык – это не только знаковая система, приспособленная к передаче сообщений, но и компонент сознания человека, и как таковой он участвует в сотворении мира психики и знания» [9, с. 65].
Все более растущий интерес к области формирования, бытования и передачи человеческих знаний обусловливает оперирование «семантическим комплексом», то есть переход от изучения значения в связи с отдельным словом к изучению значения лексико-семантических групп, которыми оперирует человек, строя высказывание и выбирая слова.
Как носители знаний о мире, слова и тексты не равноценны. Однако основным способом существования и накопления семантики являются предложения.
Предложение всегда описывает некий отрезок действительности, и при порождении некого высказывания мы идем от реальной или воображаемой ситуации, осмысливаем ее и закрепляем результатом познания в определенной синтаксической структуре. Моделирование предложения также должно осуществляться именно в этой последовательности. Отражая в модели знаковую природу предложения, мы должны учитывать не только сигнификативный, но и денотативный аспект. Должен быть выход в действительность. Модель в этом случае как бы является воплощением трех сфер: действительность, мышление и язык. Действительность представлена типовыми денотативными ситуациями, на которые ее членит наше сознание. То, как мы мыслим эту действительность, отражается в пропозиции, а в структуре модели – язык, языковые средства. То есть модель, имеющая предикатно-аргументную структуру, основывается на логической семантике и отражает отношения действительности. Таким образом, мы видим, что структура высказывания тесно связана с его смыслом, с обозначаемой им внеязыковой ситуацией и мотивируется этим смыслом. Поэтому важное место в моделировании занимают понятия ситуации и пропозиции.
Смыслом целого высказывания в логике принято считать пропозицию – ментальную сущность, представляющую собой целостный слепок ситуации-референта данного высказывания, изоморфный ей по своей аргументнопредикатной структуре.
Понимание предложения как единицы языка и речи одновременно побуждает к пересмотру ряда позиций, связанных с членением именно предложения-высказывания. Конструирование предложения-высказывания – это динамический процесс. Поэтому анализ предложения-высказывания как продукта речевой деятельности отражает динамическую модель. По логике вещей, все компоненты высказывания ретроспективно могут быть соотносимы с компонентами исходной структуры, то есть предложения любой структурной разновидности и, наоборот, все члены предложения (по Л. Теньеру, участники драмы: предикаты, актанты, сирконстанты) должны рассматриваться как перспективные участники процесса формирования смысла высказывания.
Субъект и предикат выполняют в предложении существенно различные функции: субъект и другие термы конкретного значения замещают в речи предмет действительности, который они призваны идентифицировать для адресата сообщения, то есть выступают в своей денотирующей функции, в то время как предикат, служащий целям сообщения, реализует только свое сигнификативное содержание, смысл.
При представлении означаемого любого высказывания как семантической системы с предикатными отношениями выделяются названия предметов, актантов (субъектных и объектных), образующих данную систему, и отношения между этими предметами. Одно-и многоместные семантические структуры предложений, как уже сказано, выделяются по количеству актантов.
Типология структурно-семантических моделей предложений устанавливается преимущественно при опоре на сочетаемостный потенциал лексемы, функционирующей в позиции предиката предложения.
Предикатно-актантная структура глагольных предложений предполагает семантическую согласованность ее элементов: глаголов-предикатов и существительных, замещающих те или иные актантные позиции. Типы семантических моделей должны строиться с учетом тех и других компонентов.
Определение семного состава глагольных значений позволяет выявить семантическую модель глагола, в которой находят отражение как категориальные признаки глагола, так и категории имен, способных заполнять открываемые глаголом места [1; 5].
Характер предметных сем, имеющихся в семной структуре глаголов-предикатов, может объяснить формальные варианты одной и той же семантической модели предложений, организованных глаголами-предикатами одной лексико-семантической группы.
В.П. Малащенко счел возможным квалифицировать указанную модель как предикативно и номинативно достаточный минимум предложения, как его структурно-семантическую основу. Все характеристики основ предложений свидетельствуют о том, что реализация объектных валентностей (внутренних и внешних) обеспечивает возможность представлять номинативно достаточный минимум предложения, который ему передает минимум необходимой информации о ее аспекте, связанном с актантной структурой – субъектами и объектами.
Итак, реализация внутренней валентности предикативной основы связана с заполнением позиций, обусловленных моделью сочетаемости, характерной для конкретной семантики слова, называющего предикативный признак. Покажем это на примерах формирования предложений, предикатами в которых выступают лексико-семантические варианты глаголов знания.
В нашем исследовании мы опирались на классификацию предикатов психической деятельности Л.М. Васильева, в которой первые семь классов связаны с областью чувств в широком их понимании, а три последних – с областью мысли, мышления.
Основанием для избрания глаголов знания этого семантического поля явилось то обстоятельство, что предикаты, обслуживающие названия элементов психической деятельности, выступают в качестве одной из основных баз для развития у детей младшего школьного возраста всей совокупности познавательных процессов и формирования соответствующих фрагментов детской языковой картины мира.
«Ребенок – это особый тип языковой личности, формирующий свой особый взгляд на мир и на себя в этом мире. Образ мира, запечатленный в языке детей, во многом отличается от “картины мира” взрослых носителей языкового сознания, что объясняется свойствами мышления детей, своеобразием их мироощущения и мировосприятия» [10, с. 316].
Младший школьник – еще маленький человек, но уже очень сложный, со своим внутренним миром, со своими индивидуально-психологическими особенностями.
Начальная школа – наиболее ответственный период в жизни человека. Именно в младшем школьном возрасте начинается целенаправленное обучение и воспитание, главным видом деятельности ребенка становится учебная деятельность, которая играет решающую роль в формировании и развитии всех его психических свойств и качеств.
Основной деятельностью, которая обеспечивает формирование психических свойств и качеств ребенка школьного возраста, является учебная, познавательная деятельность. Причем наиболее интенсивно она осуществляет функцию развития личности тогда, когда только складывается, то есть в младшем школьном возрасте.
Объектом нашего исследования является речь конкретного носителя языка младшего школьного возраста во 2-м и 4-м классах.
При толковании и классификации значений глаголов психической деятельности мы старались учесть и данные словарей, и всевозможные парадигматические и синтагматические связи этих глаголов.
По мнению Ю.Н. Караулова, если «объектом анализа становится языковая личность, интеллектуальные ее характеристики выдвигаются на первый план. Интеллект наиболее интенсивно проявляется в языке и исследуется через язык. Но интеллектуальные свойства отчетливо наблюдаемы не на всяком уровне владения языком и использования языка. На уровне ординарной языковой семантики, на уровне смысловых связей слов, их сочетаний и лексико-семантических отношений еще нет возможностей для проявления индивидуальности» [4, с. 36]. Тем не менее лексико-семантические варианты лексемы (в данном случае глаголов) реализуются в соответствии с языковой картиной мира языковой личности и ее коммуникативными задачами. Покажем это на примере формирования моделей предложения, предикатом в которых выступают лексико-семантические варианты глаголов знания.
Обширную лексико-семантическую группу в речи младшего школьника составляют глаголы знания. Они обозначают результат мыслительной, чувственной и волевой деятельности человека или приобретение знаний в процессе такой деятельности.
Несмотря на то что глаголы знания образуют единую лексико-семантическую группу, наблюдаются некоторые различия в значениях глаголов (в зависимости от характера хранящейся в сознании или приобретаемой информации) этой группы, которые обусловливают и различную валентность. Все это позволяет выделить в лексико-семантической группе глаголов знания следующие подгруппы, которые обозначают в речи младшего школьника следующее:
-
1) обладать какими-н. познаниями, иметь о ком-/чем-н. понятие, представление ( знать );
-
2) заниматься чем-л., делать что-л. с целью приобретения каких-л. знаний, умений, навыков ( заниматься, учиться );
-
3) обладать практическими навыками реализации каких-л. знаний ( читать );
-
4) выучиваться, приобретать знания под чьим-л. руководством, влиянием ( обучить );
-
5) передать, сообщать кому-л. знания, умения или навыки, добиваясь их усвоения кем-л. ( помогать делать ).
В речи ученика 2-го класса с базовыми глаголом « знать » привативно связаны слова (синонимы) обучиться, научиться и др. В значениях этих глаголов кроме архисемы
«усвоение» имеются дифференциальные семы, уточняющие это понятие в том или ином аспекте. А в 4-м классе появляются эквипо-лентные оппозиции (антонимические): Кроме футбола я еще занимаюсь английским//. – Отдыхал я абсолютно от всего/ кроме развлечений и футбола//.
Сходство слов лексико-грамматической группы знания в однотипности их семантических и синтагматических характеристик выразилось в образовании двух моделей предложения на протяжении всего младшего школьного возраста, независимо от формы речи. Что касается их смыслового наполнения, то для каждой модели оно различно.
Лексико-семантический вариант глаголов знания обязательно реализует субъектную валентность: позиция субъекта заполняется во 2-м классе личным местоимением (или же эквивалентом имени) ( я, ты ), а в 4-м классе в роли субъекта появляются одушевленные существительные ( папа, классный руководитель ) и имена собственные ( Стас ). Таким образом, бесподлежащная структура в них отсутствует, за исключением определенноличного предложения, которое появляется в 4-м классе и обусловлено устной формой речи: Я очень люблю футбол// Занимаюсь им больше года/ но в секцию пошел/ четыре месяца назад// Раньше просто с друзьями во дворе// По телевизору люблю смотреть/ все виды спорта/ а занимаюсь только футболом //.
Реализация левой валентности глаголов знания зависит от смыслового наполнения. Так, ЛСВ глагола заниматься в предложении По телевизору люблю смотреть/ все виды спорта/ а занимаюсь только футболом // реализует сему «иметь что-н. предметом своих занятий», а в предложении До школы/ я занимался в центре// – сему «учиться» . В результате образуются две модели: «субъект + предикат + объект» и «субъект + предикат».
Если в вышерассмотренных глаголах объектом высказывания является отвлеченное понятие (футбол, английский, магия), то глаголы, толкуемые как «иметь кого-н. образцом», «сообщать знания», имеют в качестве объекта высказывания значение конкретного предмета: Я хотел бы пойти по стопам сво- его отца//; А папа пытается мне приводить примеры//.
Семантика глаголов отдыхать в значении «не заниматься » и читать – «владеть навыками» предполагает реализацию правой валентности глаголов факультативно.
Необходимо отметить, что во 2-м классе данным носителем языка употребляются те глаголы знания, а точнее их лексико-семантические варианты, которые требуют в роли объекта познания прямого дополнения ( Я даже научился крутить мяч на одном пальце// ), а 4-м классе эксплицитно выраженный объект формами косвенных падежей существительного ( Кроме футбола я еще занимаюсь английским // ), а также придаточным изъяснительным в письменной речи ( Но мы знаем, что нашему богатырю нипочем любая нечисть ).
Во 2-м классе в устной речи младшим школьником использован глагол знать в предложении, которое включается в высказывание в качестве элемента, несущую добавочную информацию пояснительного характера: Брата нашего кота/ не знаю как его зовут / оставили на заводе// , что свидетельствует о его высоком уровне развития.
В устной речи младшего школьника в 4-м классе отмечается тенденция к появлению переносных значений глаголов путем метафорического переноса ( Я хотел бы пойти по стопам своего отца// ) . В данном случае состав компонентов слов предопределен общей семантикой лексико-семантической группы желания, то есть первичными значениями соответствующих лексических единиц. Но переносное значение «быть похожим, иметь навыки» квалифицирует предикат в этом предложении и как глагол знания.
Специфика употребления глаголов знания позволяет выявить такие предикативноактантные модели данных предложений, как, во-первых, модель с двухместным предикатом, позиция субъекта заполнена наименованием познающего лица; позиция объекта – существительное, называющее предмет познания, во-вторых, модель с одноместным предикатом: в позиции субъекта – местоимения со значением познающего лица. Предикативный признак в каждой из них выражен оттен- ками значений разных лексико-семантических вариантов глаголов.
Поскольку глаголы знания обозначают то, что приобретается языковой личностью в процессе отражения действительности, то это обусловливает тесную связь с глаголами мышления ( Если я ее прошу объяснить новую тему/ она читает мне/ то что написано в учебнике/ потом удивляется/ как я этого не понял // ), желания ( В этом году/ надеюсь занять первое место// ) и эмоционального отношения ( В школе мне нравится учиться // ), а также с лексико-грамматической группой семантического поля движения (ср.: Я пошел в школу/ в прошлом году//. – Я хотел бы пойти по стопам своего отца// ).
Подводя итог, следует сказать, что младший школьник владеет способностью представлять себе ситуацию через предикаты знания, с которыми связаны состояния, во-первых, его самого и других, а во-вторых, окружающих и воспринимаемых им предметов действительности. Опираясь на собственный опыт, он может даже объяснить основные, первичные значения подобных слов, а также обозначающих предметы, оказывающиеся в сфере действия предикатов.
Ценность исследования этой лексико-семантической группы состоит в том, что глаголы знания в отличие от глаголов мышления обозначают не то, что создается в процессе мыслительной деятельности, а то, что приобретается ими в процессе отражения действительности. Таким образом, «знания о мире», заключенные в тезаурусе языковой личности и отраженные в лексиконе, основаны, в первую очередь, на валентных свойствах глаголов знания, выступающих в роли предиката.
Список литературы Роль предикатов знания в конструировании детской языковой картины мира
- Васильев, Л. М. Семантика русского глагола/Л. М. Васильев. -М.: Высш. шк., 1981. -184 с.
- Воркачев, С. Г. Лигвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании/С. Г. Воркачев//Филологические науки. -2001. -№ 1. -С. 64-72.
- Деменский, С. Ю. Научность метафоры и метафоричность науки/С. Ю. Деменский. -Омск: Изд-во ОмГУ 2000. -310 с.
- Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность/Ю. Н. Караулов. -М.: КомКнига, 2006. -261 с.
- Малащенко, В. П. Лексико-синтаксическая база модели (структурно-сематической основы) предложения/В. П. Малащенко//Лексико-грамматические взаимодействия в системе синтаксических единиц. -Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1991. -С. 315-323.
- Пустовалова, В. И. Наука о языке в свете идеального цельного знания/В. И. Пустовалова//Язык и наука конца XX века. -М.: ИРЯ РАН, 1995. -С. 406-407.
- Рузин, И. Г. Философские аспекты лингвистического исследования/И. Г. Рузин//Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. -1993. -№ 3. -С. 46-55.
- Словарь психолога-практика/сост. С. Ю. Головин. -2-е изд., перераб. и доп. -Минск: Харвест, 2001. -976 с.
- Телия, В. Н. О специфике отображения мира психики и знания в языке/В. Н. Телия//Сущность, развитие и функции языка. -М.: Наука, 1987. -С. 67-75.
- Тухарели, Н. Л. Имена «вещей» в детской языковой картине мира/Н. Л. Тухарели//Русский язык: исторические судьбы и современность: материалы междунар. конгресса русистов-исследователей. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. -С. 316-317.