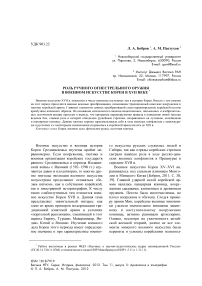Роль ручного огнестрельного оружия в военном искусстве Кореи в XVII веке
Автор: Бобров Леонид Александрович, Пастухов Алексей Михайлович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Этнография народов Евразии
Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Военное искусство XVII в. относится к числу наименее изученных тем в истории Кореи. Вместе с тем именно на этот период приходятся важные военные преобразования, изменившие традиционный комплекс вооружения и тактики корейской армии. Главным элементом данных преобразований стало перевооружение корейской пехоты аркебузами японского образца. На основании комплексного анализа вещественных, письменных и изобразительных источников авторы приходят к выводу, что программа перевооружения привела к появлению новой тактики ведения боя, главная роль в которой отводилась ружейным стрелкам, опиравшимся на лучников, копейщиков и панцирную конницу. Данная тактика хорошо зарекомендовала себя в ходе военных конфликтов с маньчжурами и русскими и с некоторыми изменениями сохранялась в корейской армии вплоть до XIХ в.
Корея, военное дело, фитильное ружье, пехотная тактика
Короткий адрес: https://sciup.org/14737773
IDR: 14737773 | УДК: 903.22
Текст научной статьи Роль ручного огнестрельного оружия в военном искусстве Кореи в XVII веке
Военное искусство и военная история Кореи Средневековья изучены крайне неравномерно. Если вооружение, тактика и военная организация корейских государств раннего Средневековья и периода Имджин-ской войны с Японией (1592–1598 гг.) изучаются давно и плодотворно, то многие другие эпизоды эволюции военного искусства полуострова продолжают оставаться «белым пятном», как в собственно корейской, так и иностранной историографии. К числу таких слабоизученных тем относится военное искусство Кореи XVII в. Данная тема представляет значительный интерес как один из ярких примеров модернизации традиционной азиатской армии в условиях «пороховой революции», охватившей в этот период Европу, Турцию, Мавераннахр, Индию, Китай и Японию. Изучение военного дела Кореи этого периода имеет определенное значение и при характеристике военно- го искусства русских служилых людей в Сибири, так как отряды корейских стрелков сыграли важную роль в ходе русско-цин-ских военных конфликтов в Приамурье в середине XVII в.
Военное искусство Кореи XV–XVI вв. развивалось под сильным влиянием Монголии и Минского Китая [Бобров, 2011. С. 38, 39]. Главной ударной силой корейской армии являлась панцирная конница, вооруженная саадаками, клинковым и древковым оружием. Пехота была многочисленна, но плохо вооружена и обучена. Следуя примеру армии Мин, корейские военные чиновники уделяли значительное внимание защитному и наступательному вооружению конницы, активно развивали артиллерию. Однако, несмотря на увлеченность китайской военной теорией, далеко не все элементы минского военного искусства были переняты и усвоены корейскими полковод- цами. В частности, мимо внимания чиновников «Страны утренней свежести» прошли китайские военные преобразования второй половины XVI в., связанные с перевооружением пехоты ручным огнестрельным оружием и внедрением новой тактики ведения боя. Данный просчет имел трагические последствия. В ходе сражений при Тхангымдэ (26–28 апреля 1592 г.) и Хэджончхан (18–19 июля 1592 г.) великолепная корейская конница была уничтожена огнем японских ар-кебузиров, что привело к поражению корейской армии и оккупации Японией большей части полуострова. Конечную победу Кореи в войне предопределили героические действия корейского флота, партизанских отрядов и военное вмешательство Минского Китая. Действия японских стрелков из фитильных ружей (тэппо асигару) произвели настолько сильное впечатление на корейских полководцев, что перевооружение корейской армии стало одним из государственных приоритетов уже в первые годы Имджинской войны.
В ходе военных преобразований конца XVI – первой половины XVII в. в корейские войска поступили новые виды вооружений, существенные изменения претерпела военная организация и тактика ведения боя. Ключевым элементом военных реформ стало перевооружение пехотных частей ручным огнестрельным оружием.
Основой для развития корейского ручного огнестрельного оружия в XVII в. были японские фитильные аркебузы хинава дзю, скопированные с первых западно-европейских образцов, завезенных в Японию португальцами в 1543 г. [Носов, 2007. С. 195]. Фитильные ружья попали в Корею еще до Имджинской войны – в качестве дара от Тоётоми Хидэёси их преподнес корейскому вану даймё острова Цусима в ходе посольства Хван Юнгиля (1536 – ? гг.) в Японию в 1589–1591 гг. Однако корейцы не придали новому виду вооружения должного значения, за что пришлось расплачиваться тяжелыми поражениями. Уже в ходе боевых действий с японцами корейцы были вынуждены спешно организовывать собственное ружейное производство. Одно из крупнейших было открыто в 1592–1593 гг. известным корейским флотоводцем Ли Сунсином (1545–1598 гг.) на островной базе в провинции Чолладо, остававшейся недоступной для японских оккупантов на протяжении всей Имджинской войны. Образцом для корейских оружейников послужили трофей- ные японские аркебузы [Ванин, 1968. С. 91]. Запись в «Военных дневниках» Ли Сунсина от 14 сентября 1593 г. гласит: «Хотя железные ружья – самое важное оружие на войне, мы, корейцы, не знали, как производить его. Но мы научились успешно изготавливать аркебузы после долгих месяцев усиленных изысканий. На деле, они превосходят те, что произведены в Японии. Многие китайцы, которые опробовали их, хвалят великолепные результаты… Я уже выслал несколько образцов военачальникам в южные провинции для того, чтобы начать массовое производство» [Park Yune-Hee..., 1978. С. 180181].
Несмотря на то что корейские фитильные ружья имели прототипом японское оружие, достаточно быстро наметились некоторые расхождение между ними (рис. 1–8). Так, например, сохраняя общее композиционное решение, корейцы пошли на удлинение ствола, в среднем, до 100–110 см (см. рис. 1–3), что увеличивало вес оружия, но одновременно дало определенные преимущества при ведении оборонительного боя из-за укреплений разного типа – как полевых, так и долговременных. Уже в 1658 г. корейский военачальник Син Ню отмечал, что «Цинские ружья и пушки не такие, как у нас. И на японские не похожи» [Мазуров, Пастухов, 2009. С. 290], что, на наш взгляд, свидетельствует о некоторых различиях, возникших во внешнем виде корейских и японских ружей. Некоторое влияние на расхождение в конструкции ружей могло сыграть голландское оружие – согласно записи от 18 июля 1656 г. в хронике правления государя Хёджона «Хёджон силлок» в этот день корейскому монарху отрапортовали: «Сделали новое ружье (чочхон). Перед этим ветром [к нашим берегам] принесло «южных варваров». От них получили ружья – они очень хитроумные. Приказали Хунгук 1 скопировать их и изготовить» 2.

Рис. 1. «Стрелки» (фрагмент картины Ким Джунгына; конец периода Чосон – XVIII–XIX вв.) (по: [Кисан, 2008])
Корейцами изготавливались ружья разных типов, известных в основном по названиям, встречающимся в документах XVI–XIX вв. – масанчхон (для стрельбы с коня), намманч-хон (европейского типа), хэнъёнчхон (стандартные) и т. д. [Воробьев, 2002. С. 115]. Калибр корейских ружей позднего Средневековья и раннего Нового времени составлял в среднем 12–14 мм, длина – от 1 (чоч-хон) до 1,3 м (тэ чочхон) и более 1,37 м. (чхонбочхон). Главным корейским новшеством по сравнению с бывшей относительно короткоствольной в XVI в. японской арке- бузой был удлиненный ствол. Форма ложа, характерный короткий загнутый приклад «пистолетного типа» (см. рис. 1–5, 8, 1) и фитильный замок (рис. 6) не претерпели существенных изменений. Ствол, как правило, имел примитивные прицельные приспособления, состоявшие из прицельной планки с прорезью и мушки. Иногда в мушку вмонтировали белую бусину для облегчения прицеливания при определенных условиях освещения (например, при прицеливании в затемненную мишень). По некоторым письменным источникам, ствол изго- тавливали при помощи сверлильного станка, очень несовершенного, что занимало много времени для обработки заготовки. Однако дошедшие до наших дней образцы часто демонстрируют граненые стволы, обычно получавшиеся в результате ковки (см. рис. 4, 7). На металлических частях ружей иногда делалась гравировка (см. рис. 7, 8, 4). Сформировавшись в XVII в., корейское фитильное ружье с некоторыми изменениями просуществовало вплоть до конца XIX в. (см. рис. 3).
Известным своеобразием отличалась корейская ружейная амуниция. Каждый стрелок имел пороховницу, как правило, овальной формы, в крышку которой была вделана мерка для пороха. Корейские стрелки держали пули в специальном приспособлении, которое носило название «вороний клюв» (огу) и представляло собой разрезанный до половины и заглушенный с торца кожаным клапаном рог, в котором хранились пули (см. рис. 3, 8, 2). Заряжая оружие после размещения в стволе пороха из пороховницы в виде фляжки с меркой (см. рис. 8, 3), стрелок укладывал при помощи огу пулю в канал ствола, слегка раздвигая концы держателя. Под собственным весом пуля падала в канал ствола, а ее место занимала новая пуля. Шомпол был деревянный или бамбуковый. Фитиль переносился в сумке вместе с запасом пороха и пуль и иными ружейными принадлежностями. Полный боекомплект составлял 50 выстрелов, которые стрелок должен был обеспечить за свой счет [Hamel, 1920. S. 35]. Нарушителей подвергали телесным наказаниям в соответствии с количеством недостающих боеприпасов. Пули изготавливались как из свинца, так и ковались из железа, что было обычной практикой для материковых стран Дальнего Востока [Чжунго…, 2004. С. 347].

Рис. 2. «Празднование кануна Нового Года» (1849 г., фрагмент из альбома Хон Сокмо «Тонгук сеси ги» (Записи о временах года в Восточном Государстве)) (по: [Ким Бёнрюн, 2011])

Рис. 3 (фото). Корейские охотники на тигров – на груди охотников висят держатели пуль огу (конец XIX в.; фото Херберта Дж. Понтинга)

Рис. 4 (фото). Фитильные ружья длиной 139–143 см и калибром 12–14 мм (Корея, XVIII в.; Собрание Музея Армии в г. Сеуле; фото Т. Дювернэ)

Рис. 5 ( фото). Фитильное ружье (Корея, XVIII в.; собрание Музея Армии в г. Сеуле; фото Ко Джука)

Рис. 6 (фото). Замок фитильного ружья (Корея, XVII–XIX вв.; частное собрание; фото Ко Джука)

Рис. 7 (фото). Фитильное ружье длиной 139 см и калибром 14 мм с гравировкой иероглифа му (военное дело) на серпентине (Корея, XVIII–XIX вв.; собрание университета Ёнсе в г. Сеуле; фото Ко Джука)

Рис. 8 (фото). Фитильное ружье длиной 137 см с принадлежностями, гравировкой и таушировкой медной проволокой иероглифа чон (истинный) на казенной части ствола (Корея, XVII–XIX вв.; Музей Армии в г. Сеуле; фото Е. А. Багрина): 1 – ружье; 2 – держатель пуль огу ; 3 – пороховница с меркой; 4 – гравировка и таушировка
Среднее время заряжания ружья составляло около 30 секунд [По Корее…, 1958. С. 206]. При надлежащем уходе за оружием и соответствующей подготовке на расстоянии 60 по (около 108 м) стрелок мог поразить ростовую мишень в виде доски шириной 3 чхи (около 10 см) [Мазуров, Пастухов, 2009. С. 291]. Согласно сведениям, приводимым корейскими военными чиновниками, эффективная дальность стрельбы из корейских ружей составляла менее 200 м. Так, согласно записи в хронике правления государя Ёнджо (1724–1776 гг.) «Ёнджо сил-лок», датированной 26.12.725: «...обычно используемые в войсках ружья сильны в действии, но дальность стрельбы не превышает 100 по (180 м)» 3. Тем не менее убойной силы пули хватало, чтобы при стрельбе с небольшой дистанции насмерть поразить воина, облаченного в пластинчато-нашивные доспехи.
Ружья корейского производства весьма ценились в Китае. Так, например, цинские власти неоднократно обращались к корейскому правительству с требованием прислать фитильные аркебузы. В 1657 г., в период военного конфликта с русскими людьми, цинские военачальники потребовали у корейцев доставить партию из 100 ружей в пограничную крепость Фэнхуанчэн [Ванин, 1968. С. 99], а в 1693 г. корейцы сами поднесли воюющим против ойратского Галдан Бошокту-хана Цинам 3 000 фитильных ружей [Внешняя политика…, 1977].
Перевооружение корейской армии огнестрельным оружием не могло не привести к изменению традиционной тактики ведения боя и военной организации корейских войск. Уже в 1594 г. в Корее была разработана новая тактика ведения общевойскового боя, основанная на сочетании действий стрелков из фитильных ружей (пхосу), луков (сасу) и войск прикрытия, вооруженных клинковым и древковым оружием (сальсу). Ее введение связано с именами корейского премьер-министра Ю Соннёна (1542–1607 гг.), добывшего секретное сочинение по тактике «Цзисяо синьшу» у китайцев и разработавшего план создания армии нового типа, а также корейского военачальника Хан Гё (1556–1627 гг.), осуществившего перевод и адаптацию китайских наработок к корейским реалиям [Пак Чега, И Докму. 1996. С. 48]. Новая тактика базировалась на взаимодействии на поле боя отрядов пеших копейщиков, лучников и стрелков из фитильных ружей, а также активном применении полевых укреплений. Решающая роль в сражении отводилась аркебузирам, которые должны были отбить вражескую атаку и подготовить условия для перехода корейской армии в наступление.
В 1629 г. по приказу государя Инджо военачальниками И Гви (1557–1633 гг.) и И Со (1580–1637 гг.) была организована академия Нынмаачхон , где наиболее перспективных молодых офицеров, набираемых со всей страны, обучали по компилятивному трактату «Пёнхак чинам», являвшемуся переработкой китайских наставлений, составленных прославленным полководцем Ци Цзигуаном (1528–1587 гг.) и его последователями. Обучение солдат проводилось трижды в месяц, при этом отработка ружейных приемов и стрельба в цель были обязательными компонентами учебной программы [Hamel, 1920. S. 23]. Согласно источникам периода правления государя Хёджона (1649–1659 гг.) корейские войска уделяли особое внимание стрелковой подготовке – как коллективной, так и индивидуальной. По традиции, идущей со времен Ци Цзигуа-на, для лучшего запоминания последовательности заряжания ружья солдат заставляли заучивать специальный речитатив «Чхонга», в котором в стихотворной форме описывался порядок действий при стрельбе. Стрелки, размещенные в таежных гарнизонах на северной границе, по всей видимости, совмещали военное обучение с активными занятиями охотой 4, что приводило к очень хорошим результатам, полностью оправдавшим себя в ходе сражений 1654 и 1658 гг.
Тем не менее нет оснований полагать, что военные реформы продвигались быстро и безболезненно. Это был весьма сложный и противоречивый процесс. Программе военных преобразований препятствовал тяже- лый кризис, охвативший феодальное корейское государство в конце XVI в. и не преодоленный в течение всей первой половины XVII в. Общие социальные болезни общества накладывали свой отпечаток на армию. Военнообязанные бежали, представители дворянства уклонялись от службы, крупные военачальники превращали солдат в своих работников, стремясь увеличить собственные доходы [Palais, 1996. P. 401]. Корейские оружейники не справлялись с государственным заказом. Так, например, согласно записи в хронике «Инджо силлок» от 10.02.1649 оказалось, что «…5 400 с лишним стрелкам не хватает ружей. Из Хуллёндогам 5 выдали более 800 ружей, но теперь не хватает пороха и пуль...» 6. Отсутствие достаточного количества обученных кадров, невысокий моральный уровень и нехватка современного вооружения привели к тому, что корейские войска не смогли защитить страну в ходе маньчжурских вторжений. Ряд болезненных поражений реформированной корейской армии в столкновениях с маньчжурской и монгольской панцирной конницей в 1600, 1619, 1627 и 1637 гг. чуть было не свел на нет положительный эффект внедрения в войска нового оружия. Однако объективный анализ военных реалий продемонстрировал, что альтернативы новым тактическим принципам нет. Ряд успешных сражений в 1637, 1654 и 1658 гг. показал, что проблема заключается не в самом оружии, а в том, как оно используется. При наличии грамотного руководства и верных тактических решений корейские аркебузиры оказывались серьезным противником и для цинской латной конницы, и для русских служилых людей.
Об это свидетельствует анализ сражений середины XVII в., в которых приняли участие корейские аркебузиры. Так, например, в сражении при горе Квангёсан 5–6 января 1637 г., командир авангарда корейского отряда Ким Джунъён сумел победить маньчжуров, успешно использовав рельеф местности и массированную стрельбу пеших воинов, прикрытых густыми рядами копейщиков. Он расположил 2 000 пеших корейских солдат среди отрогов горы Квангёсан в три линии. В первой линии стояли аркебу-зиры, во второй лучники, и в третьей копейщики и меченосцы. Строй опирался на укрепленный лагерь, в котором был складирован запас провианта и боеприпасов. Корейцы в течение суток отражали атаки маньчжуров огнем из аркебуз и стрельбой из луков, временами переходя в контратаки и стараясь зайти во фланг и в тыл противнику. Только 6 января маньчжуры сломили сопротивление корейцев в юго-восточном секторе обороны и прорвались в укрепленный лагерь. Ким Джунъён смог вовремя перебросить с северного сектора обороны отряд стрелков и меченосцев и вступил в рукопашный бой с маньчжурами. Исход боя колебался до тех пор, пока один из корейских аркебузиров не застрелил маньчжурского командующего Янгули. Лишенные руководства, маньчжуры отступили. Ким Джунъён, истощив возможности обороны, под покровом ночи отвел свои войска на соединение с главными силами войск провинции Чолла [Пастухов, 2004. С. 125].
В сражении при горе Пэктонсан 28 января 1637 г. губернатор северной провинции Пхёнан Хон Мёнгу попытался деблокировать крепость Намхан. Однако, проходя уезд Кимхва, он неосмотрительно распылил свои силы – большая часть войск под его непосредственным командованием разместилась на равнине у д. Тхаптон, возведя палисады и приготовившись к обороне, а вторая часть, численностью около 3 000 солдат, заняла позицию на горе Пэктонсан на высоте около 400 м. В ходе ожесточенной битвы с отрядом цинской конницы корейские войска у д. Тхаптон были полностью уничтожены. В течение нескольких часов цинские войска, только что разгромившие отряд Хон Мёнгу, четыре раза атаковали корейские позиции на склоне горы Пэктонсан. Корейский военачальник Ю Рим выстроил войска в три линии, разместив в первой линии копейщиков, во второй – лучников, и в третьей – ар-кебузиров. На путях подхода маньчжурского отряда была оставлена засада из аркебузиров и лучников. Перед линией копейщиков в удобных местах были заготовлены камни. Первая атака была отражена при помощи камней, сброшенных на поднимающихся маньчжуров. Перешедшие затем в контратаку копейщики отбросили цинский отряд к подножию горы. Вторая и третья атаки были отражены массирован- ным огнем лучников и аркебузиров. Четвертая атака маньчжур была встречена плотной стрельбой, как с фронта, так и со стороны располагавшегося в засаде корейского отряда. Не выдержав удара с двух сторон, маньчжуры отступили. Ночью Ю Рим скрытно покинул поле боя, пытаясь прорваться к Сеулу, но через два дня крепость Намхан капитулировала и война закончилась [Пастухов, 2004. С. 125–126].
Особый интерес представляет участие корейских ружейных стрелков в военных кампаниях против русских людей в Приамурье, где корейцы выступали вместе с отрядами цинской армии в качестве частей огневого усиления.
В сражении на р. Сунгари в местности Хотхон 6–8 июня 1654 г. корейский военачальник Пён Гып, шедший в авангарде объединенного маньчжуро-корейского отряда 7 под командованием Нингутинского амбань-чжангина Шархуды, отказался атаковать русские дощаники Онуфрия Степанова Кузнеца и высадился на берег. Корейцы закрепились на высоком утесе. Атакованные казачьими кораблями, маньчжуры и дючеры последовали за корейцами. Пока казаки решали, стоит ли атаковать высадившегося на берег противника, маньчжуры успели укрепиться на берегу и приготовиться к отражению атаки казаков [Русско-китайские…, 1969. С. 193–194]. Попытка высадиться на берег не принесла казачьему отряду успеха – все атаки отражались огнем с береговых позиций. Корейский отряд, используя выгоды своего местоположения, безнаказанно расстреливал дощаники атакующих. В перестрелке казаки израсходовали много пороха и решили отступить. В докладе Пён Гыпа государю Хёджону, помещенном в хронике «Хёджон силлок» под 23 апреля 1655 г., говорится, что союзники преследовали казачью флотилию несколько дней, пока казакам не удалось оторваться от врага в лабиринте островов, расположенных в дельте Сунгари 8. Убедившись в эффективности применения крупных отрядов аркебузиров против русских войск, Цины сначала запро- сили в 1657 г. у Кореи 100 ружей для вооружения собственных воинов, а затем, в 1658 г., затребовали отправку 200 аркебу-зиров для войны против русских землепроходцев. В мае 1658 г. отряд из 265 корейских солдат и лиц обслуживающего персонала под командованием военачальника Син Ню выступил на соединение с маньчжурскими войсками Шархуды.
Большое речное сражение между русским и маньчжуро-корейским отрядами произошло на Амуре неподалеку от устья Сунгари 30 июня 1658 г. Сорок боевых маньчжурских кораблей под общим командованием Шархуды вышли на рассвете из д. Нельба и спустились до устья Сунгари. На самой середине Амура они встретились с отрядом Онуфрия Степанова Кузнеца из 11 кораблей, стоявших на якоре. Отряд союзников насчитывал 1 200 маньчжурокитайских и 200 корейских воинов, имевших более 300 ружей и около 100 пушек малого и среднего калибра. Русские люди сразу же оценили неблагоприятную обстановку и стали отступать вниз по течению Амура. Примерно в 30 ли 9 от устья Сунгари русские корабли встали в линию у берега и начали готовиться к битве.
Маньчжурский военачальник распределил свои войска следующим образом: на каждый маньчжурский корабль поднялось по 25 латников (из них каждые 10 солдат имели зажигательные стрелы), по 5 корейских стрелков и по 5 маньчжурских артиллеристов и стрелков. Флотилия была разделена на 3 группы, взаимодействовавшие между собой – авангард, арьергард и центр. Всего маньчжуры имели 307 аркебузиров (109 маньчжурских и 198 корейских), 100 маньчжурских артиллеристов с казнозарядными орудиями фоланьцзя пао 10, 400 лучников с зажигательными стрелами и около 600 латников. Им противостояло порядка 400 с лишним казаков на 11 дощаниках, имевших 5 дульнозарядных пушек 11 [Пастухов, 2004. С. 131].
Маньчжурские суда охватили русскую флотилию и стали сближаться, ведя огонь из пушек. Им также ответили артиллерийским огнем. Подойдя на дистанцию ружейного выстрела, корейские и маньчжурские арке-бузиры и лучники начали обстреливать русские суда. Казаки не выдержали массированного огня и либо сошли с кораблей на берег, либо спрятались в трюмах. Вслед за этим союзники захватили несколько русских кораблей и попытались их сжечь, но Шархуда запретил это делать. Таким образом, казаки получили возможность нанести ответный удар. В результате перестрелки погибли 7 корейцев, и 24 получили ранения 12. Были потери и у маньчжур – около 90 убитыми и 200 ранеными. Большая часть казаков была убита в рукопашных схватках на судах. Семь судов маньчжурам все же пришлось поджечь, чтобы избежать больших потерь. Казаки ночью смогли отбить 1 дощаник из числа взятых маньчжурами 4 судов и уйти от погони вверх по течению. Всего маньчжуры захватили 3 корабля, 10 пленных и свыше 300 ружей. Русские потери составили, по разным данным, от 209 до 270 человек убитыми, в том числе погиб и сам казачий голова [Русско-китайские…, 1969. С. 239; Пастухов, 2004. С. 131]. Таким образом, удачное соотношение стрелков, лучников и латников в союзных войсках позволило маньчжурскому командованию решить проблему противодействия огневой мощи казачьих отрядов и, в конце концов, нанести им решающее поражение.
Успешные действия аркебузиров против маньчжуров и русских подвигли корейское командование на дальнейшие действия по перевооружению и обучению войск. Во второй половине XVII в. отряды пеших стрелков из фитильных ружей являлись наиболее боеспособными подразделениями корейской армии. Отвечая на вопросы японских дознавателей в 1667 г., голландец Хендрик Хамел, прослуживший несколько лет в корейской армии, на вопрос, как вооружены корейцы, отвечал, что они вооружены «мушкетами, саблями и луками со стрелами… В пехоте некоторые носят доспехи и шлемы, сделанные из стальных пластинок, а также из кости. Они вооружены мушкетами, саблями и короткими копьями» [Hamel, 1920. S. 36]. Еще более ярко о значении огнестрельного оружия высказался в 1675 г. корейский министр Хо Джок (1610–1680 гг.): «Среди оружия для войск нет лучше, чем фитильное ружье. [С ним] даже маленький ребенок может противостоять [самому] Сян Юю 13 – действительно, это самое удобное оружие в Поднебесной» [Ким Бёнрюн, 2011. С. 1].
Несмотря на наличие многочисленных технологических и организационных проблем, военные преобразования корейской армии в первой половине – середине XVII в., в целом, завершились успехом. В корейских войсках появились отряды стрелков из фитильных ружей, которые в ходе сражений взаимодействовали с пешими лучниками и копейщиками. Решающая роль в сражении отводилась стрелкам из ружей, которые должны были отразить атаку противника и подготовить условия для перехода войск в наступление. В XVII– XVIII вв. схожая тактическая схема с различными вариациями применялась в вооруженных силах наиболее развитых стран Азии: минской, цинской, джунгарской, японской и пр. [Бобров, Худяков, 2008]. Главное отличие корейской тактики от ее джунгарского и цинского аналогов заключалось в слабости корейской конницы 14, что не позволяло корейским военачальникам быстро переходить от обороны к контрнаступлению и вести эффективное преследование противника. Опора на пехотные части, вооруженные фитильными ружьями, и бой «от обороны» стали главными тактическими приемами, используемыми корейскими военными вплоть до крушения старой военной системы в конце XIX в.
ROLE OF HANDGUNS IN KOREAN WARFARE IN THE XVII CENTURY