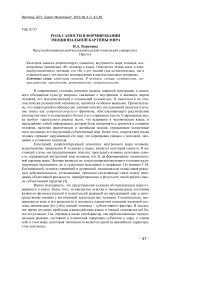Роль самости в формировании эмоциональной картины мира
Автор: Корепина Наталья Алексеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Категория самости репрезентирует семантику внутреннего мира человека, всевозможные проявления «Я» человека в языке. Отмечается чёткая связь и взаимообусловленность человека, его «Я» и его эмоций (как положительных, так и отрицательных), что находит подтверждение в анализе языкового материала.
Категория самости, человека, эмоции, эмотивность, экспрессивность, оценочность, интенсивность, эмоциональность
Короткий адрес: https://sciup.org/146121956
IDR: 146121956 | УДК: 81''37
Текст научной статьи Роль самости в формировании эмоциональной картины мира
В современных условиях развития языков, широкой интеграции и взаимного обогащения культур вопросы, связанные с внутренним и внешним миром человека, его психологической и социальной сущностью, Я, самостью в их лингвистически релевантной значимости, являются особенно важными. Примечательно, что характерной особенностью лингвистических исследований является изучение языка как антропологического феномена, обусловливающего рассмотрение многоаспектности человеческого бытия и его отражения в речи. Современная наука требует тщательного анализа всего, что выражено в человеческом языке, и представляет собой информацию, которая была воспринята и хранится в сознании человека, включая практические и житейские знания, отражающие жизненный опыт индивида, его внутренний субъективный мир. Более того, посредством языка человек отражает окружающий его мир, что неразрывно связано с психикой, эмоциями и сознанием индивида.
Категорией, репрезентирующей семантику внутреннего мира человека, всевозможные проявления Я человека в языке, является категория самости. В настоящей статье мы предпринимаем попытку проследить влияние категории самости, отражающей внутренний мир человека, его Я, на формирование эмоциональной картины мира. Человек является не только репрезентирующим и концептуализирующим организмом, но и существом мыслящим и творящим. По мнению Г.М. Костюшкиной, человек говорящий и думающий, эмоционально осмысливая реальную действительность, устанавливает причинно-следственные связи между явлениями объективной реальности, приобретающими в результате такой работы мысли субъективный характер [4].
Важно подчеркнуть, что представления человека об окружающем мире отражаются в языке. Более того, человеческие чувства и эмоциональные состояния являются физиологической и психической реакцией на окружающий мир и непосредственно связаны с когнитивной деятельностью человека. Следовательно, воспроизвести язык в его реальности и построить адекватное описание языковой системы невозможно без учёта эмоций человека - субъективного фактора. В последнее время изучение проблемы взаимодействия языка и эмоций становится всё более актуальным. Так, отражая в языке такой фактор, как вербализованные эмоциональные реакции, состояния и отношения говорящих субъектов к миру, к самим себе в этом мире, категория эмотивности является одной из важнейших характеристик лексикона.
Следует отметить, что человек выражает свои эмоции как вербально (с помощью лексики, фразеологии, междометных единиц, особой интонации, порядка слов), так и невербально (с помощью мимики, жестов, поведенческих реакций, внешних физиологических изменений). Наблюдается чёткая связь и обусловленность самости человека и его эмоций, поскольку индивид посредством самосознания, т.е. самости, выделяет и отличает самого себя, а также даёт самооценки своей деятельности и своей самости, т.е. эмоционально характеризует себя, своё Я и свои отношения с окружающим его миром. Человек строит не только теорию самого себя, такого, какой он есть сегодня в действительности, но и теорию идеального Я, такого, каким человек желает быть в будущем, проявляя себя через эмоции в материальной, духовной, социальной и других сферах жизни.
Традиционно эмоции делятся на базовые , или основные (эмоции интереса, радости, удивления, печали, гнева, отвращения, презрения, страха, стыда, смущения, вины и любви) и второстепенные [3]. Очевидно, базовые эмоции психологически наиболее значимы в жизни человека. Именно они часто являются руководителями наших действий или их следствием. Любая эмоция объективно обладает знаком, т.е. принадлежит к одной из трёх групп: положительным (позитивным) , отрицательным (негативным) или амбивалентным эмоциям. В среднем, сила переживания отрицательных эмоций выше, чем сила положительных эмоций. К. Изард полагает, что это свидетельство того, что субъективная оценка ( плюс или минус ) определяется разными типами ситуаций и вызывается раздражителями разной силы. В основе любой отрицательной эмоции лежит дискомфорт, который тут же регистрируется, в то время как комфорта может быть достаточно, а может быть недостаточно для удовольствия [цит. раб.: 171]. Это объясняется тем, что человек воспринимает и познаёт самого себя, а восприятие и познание связаны с ядром его личности, с его самостью. Чем больше эта связь, тем в большей степени включаются разнополярные чувства, эмоции. Так, примерами самостных слов, выражающих положительные эмоции, являются: self-admiration, self-approbation, self-gratification, self-loving, self-praise и другие, а отрицательные эмоции выражены словами: self-abasement, self-abhorrence, self-blame, self-dislike, self-humiliation, self-mortification, self-pity и т. п. В следующем примере самость героини выражается словом self-love , которое передает положительную эмоцию - любовь по отношению к себе в самом лучшем смысле этого слова и проявлении, самооценку своей личности: (1) In an act of self-love (in the best sense) she insisted on her wholeness and her perfection (Townsend). В примере (2) мы наблюдаем отрицательные эмоции, заключённые в слове самоуничижение , раскрывающем внутреннее состояние человека, оценочное отношение к себе самому, своей самости: (2) Я обошел свой столик и стал лицом к ним, ‒ пиво ляпало на мрамор, я не мог высвободить большого пальца, запутавшегося в ручке кружки, ‒ хмельной, я разразился признаниями: самоуничижение и заносчивость слились в одном горьком потоке (Олеша).
Уникальность эмоций сравнительно с другими объектами номинации обнаруживается, прежде всего, в многообразии и богатстве языковых средств их выражения, которые включают соответствующую лексику, фразеологизированные синтаксические конструкции, особую интонацию, порядок слов. Подобно лексике, фразеология содержит богатейшие средства речевой выразительности, придаёт речи особую экспрессию и неповторимый национальный колорит. Выразительность языка во многом зависит от его фразеологии. Так, выражение себе на уме принадлежит к тому типу устойчивых, застывших, употребляющихся в готовом виде фразеологических оборотов, значение которых не может быть выведено из значений составляющих его единиц [6]. Однако компонент себе в образе фразеологизма выражает смысл осуществления деятельности, направленной на утверждение самости, на удовлетворение собственных интересов. Важно подчеркнуть, что говорящий, приписывая тому или иному лицу признак себе на уме, не только характеризует его самость соответствующим образом: человек умело скрывает свои чувства, мысли и намерения, но и даёт ему сдержанно отрицательную оценку. В данном случае мы имеем дело с качественным признаком, который измеряется по степени интенсивности (слегка, немного, немножко, слишком и т.п.): (3) Интересная женщина, но слишком себе на уме (Леонов, Макеев), а также соотнесён с некоторой средней (умеренной) степенью его проявления, что свидетельствует о наличии в нашем подсознании нормы этого признака, превышение которой исключает возможность доверия и положительного отношения к его носителю. Такая характеристика-оценка дается обычно «за глаза» тому, кто её не слышит, не участвуя в диалоге, третьему лицу, о котором говорят в его отсутствие.Можно заключить, что фразеологизмы отличаются от синонимичных слов и описательных оборотов нюансами образного значения и экспрессией.
Как было отмечено, к базовым эмоциям относится эмоция вины , хотя она и не имеет отчетливого мимического или пантомимического выражения, как в следующем примере: (4) He started to blame himself - he must be making the wrong decisions, not treating his customers well enough , not keeping a sharp enough eye on profit margins (Davies). Анализируя пример (4), необходимо заметить, что эмоция вины завуалирована работой, происходящей внутри человеческого Я, то есть самости. Отрицательность данной эмоции усиливается наличием в предложении стилистического приема повтора отрицания ( not ) и наречия enough . Впрочем, разграничение эмоций стыда , застенчивости, вины и возможность отнесения их к фундаментальным эмоциям представляет особую проблему. Эти эмоции являются базовыми, поскольку они - неотъемлемые элементы человеческой натуры.
Бытует мнение, что каждая эмоция имеет специфическое звуковое выражение, что демонстрируется в следующем примере: (5) И почему ты все время говоришь о себе ? Только и слышу: я, я, я! «-» Подожди, ‒ прошептала она и, видимо, делая над собой усилие, встала с кресла (Муравьева). В примере (5) эмоция негодования, возмущения, неприязни выражается не только лексическими средствами выражения категории самости ( о себе; я,я,я ), повтором некоторых звуков ( я, я, я ), но и с помощью вопросительной и восклицательной интонации. Более того, читая данный пример, мы «слышим» контраст интенсивности, громкости звучания речи героини (сравните: все время говоришь о себе ? Только и слышу: я, я, я! и Подожди, - прошептала она ). Данная эмоционально окрашенная лексика активизирует у реципиентов соответствующие индивидуальные ассоциации, задействует эмоциональное сопереживание, эмпатию слушателей. Подобный механизм воздействия характерен и для метафор.
Эмоциональные проявления обладают и некоторыми другими характеристиками, которые, однако, не имеют определяющего значения для отнесения эмоции к разряду базовых. К числу таких характеристик относится, например, интенсивность переживания или контролируемость эмоций. В процессе социализации человек обучается сдерживать, подавлять некоторые формы эмоционального реагирования. При определённых условиях, например в случае внезапной угрозы, большой опасности, бывает крайне трудно сдержать или подавить соответствующую эмоциональную реакцию. Есть и такие эмоциональные проявления, которые почти не поддаются контролю независимо от обстоятельств. Важно отметить, что причины возникновения базовой эмоции, как правило, универсальны. Так, угроза реальной опасности вызывает страх у представителей самых разных культур.
Следующий пример интересен тем, что производные слова с префиксом self- , выражающие самость человека, положительны по значению, однако, рассматриваемый пример пронизан такой отрицательной эмоцией, как ненависть к себе. Посмотрим, как автор достигает такого эффекта: (6) What was I ? In the midst of my pain of heart and frantic effort of principle, I abhorred myself. I had no solace from self-approbation : none even from self-respect. I had injured-wounded ‒ left my master. I was hateful in my own eyes (Bronte). Этот пример представляет Я-высказывание, где Субъект и Объект оценки и эмоции совпадают. Несмотря на то, что слова selfapprobation и self-respect выражают положительные эмоции одобрения и восхищения , доминирующая эмоция этого примера - ненависть . Негативность примеру придает использование рефлексивного глагола (to abhor oneself) со значением питать отвращение к себе; ненавидеть себя , повторы личного местоимения I , характеризующего и обозначающего самость героини , отрицания ( no, none ), риторический вопрос о сущности самости героини ( What was I ? ). Очевидно, что самооценка Субъекта оценки заниженная, так как человек с завышенной самооценкой вряд ли будет говорить о том, что он ненавидит себя и не уважает себя. Последнее Я-предложение примера: I was hateful in my own eyes - тому свидетельство. Таким образом, пример (6) демонстрирует одновременно как эмотивность в высказываниях героини о себе, так и экспрессивность, оказывая нарастающее эмоциональное воздействие на читателя.
Эмотивность создается посредством использования в речи эмотивов, т.е. лексических единиц, которые способны кодифицировано выражать типизированные эмоциональные отношения говорящих [11: 25], эмотивных предложений, которые И.И. Намталишвилли определяет как «особые, подчас идиоматичные структурные образования, имеющие целью передать не столько основное содержание сообщения, сколько субъективно-оценочное, эмоционально-окрашенное отношение к предмету мысли» [5: 4]. Более того, эмотивность может быть как искренней, так и псевдоэмотивностью, т.е. имитацией переживания какого-либо эмоционального состояния, которое в действительности человек не испытывает. Эмо-тивность и экспрессивность тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так, эмотивность можно рассматривать как форму оценки субъектом объекта или явления окружающей действительности, а экспрессивность как рекомендацию адресату действовать в соответствии с этой оценкой. Таким образом, обе категории связаны с оценочностью [1]. Для обозначения меры проявления экспрессивности, эмоциональности и оценочности в тексте используется понятие интенсивности. Характеристикой интенсивности в количественном отношении является «ин-тенсема» - любая отдельная языковая манифестация увеличения/уменьшения степени экспрессивности [9: 12]. Интенсивность связывается с мерой количества, т.е. количественной характеристикой признака. Так, И.И. Туранский понимает под интенсивностью «семантическую категорию языка», имеющую в своей основе «понятие градации количества в широком смысле этого слова». Анализируя его определение, важно подчеркнуть, что интенсивность являет собой некую «количественную меру оценки качества, меру экспликативности, показатель содержания коммуникации». Однако, с другой стороны, интенсивность выступает в качестве меры количества экспрессивности, меры «эмоциональности, оценочности, сигнализирующей градуальность» [8: 3: 22]. Таким образом, категория интенсивности имеет двойственную природу. С одной стороны, она имеет онтологический статус как категория, лежащая в рамках количественных отношений, т.е. характеризуется наличием внеязыкового референта. С другой стороны, получая характер выделен-ности, она переключается на коннотативный уровень языка и речи [7: 38], взаимодействуя с названными субъективно-прагматическими категориями: экспрессивность, эмотивность, оценочность.
Л.Я. Герасимова связывает интенсивность с категорией количества, полагая, что интенсивность выражает усилительность, а также обозначает один из видов количественной характеристики признака, процесса [2: 17]. Например, из толкований словарей следует, что self-esteem (самоуважение) выражает менее интенсивный признак по сравнению с self-admiration (самовосхищение). С другой стороны, согласно О.Е. Филимоновой [10: 225-227], первое слово (self-esteem) ‒ рационально, а второе (self-admiration) ‒ эмоционально. Первое отражает рациональный мир, а второе - эмоциональный. Более того, экспрессивность обеспечивает способность любой языковой единицы выражать субъективное отношение говорящего, а также позволяет автору текста «усилить эмоциональное воздействие на собеседника, иными словами, увеличить перлокутивный эффект... высказывания» [1: 42], как в следующем примере: (7) He himself rose early to talk with his Father and listen to his voice in prayer (Kureishi). В примере (7) автор усиливает эмоциональное воздействие на реципиента посредством усилительного местоимения ( himself ), подобно русскому определительному местоимению сам , которое служит для обособления лица или предмета речи, выделения, подчёркивания его самостоятельного существования и самостоятельной роли в чём-нибудь. Как видно из примера, синтаксическая функция усилительного местоимения himself - функция приложения, служащего определением личных местоимений или существительных и указывающего, что лицо действует не с другими, без помощи других. Коммуникативно-прагматической целью интенсификации, таким образом, является стремление говорящего сделать высказывание более убедительным для собеседника, усилить его воздействие на адресата.
Итак, функциональный аспект интенсивности и экспрессивности совпадают и для них характерно: 1) усиленно-выделяющее воздействие на адресата; 2) субъективный выбор адресантом как экспрессивных средств, так и средств интенсификации высказывания; 3) наличие сопутствующих показателей, характеризующих эмоциональность и оценочность. Интенсивность играет важную роль в создании экспрессивности, представляющей собой внешнюю выразительную сторону высказывания, в описании которой участвуют разнообразные языковые средства, такие как: инверсия, образность, стилистически окрашенная лексика, усилительные местоимения, повторы и т.д. Подводя итог сказанному выше, заключим, что категория самости играет важную роль в формировании эмоциональной картины мира человека и реализуется посредством таких категорий, как эмотив-ность, экспрессивность, оценочность и интенсивность, поскольку язык одинаков для всех и различен для каждого, прежде всего, в сфере его эмотивности, где диапазон варьирования и импровизации семантики языковых единиц в сфере их само-стных, личностных эмотивных смыслов наиболее широк и многообразен. Индивидуальность, личность, самость, как известно, проявляется в деятельности, делах, в том числе и речевой деятельности, «ибо слово - тоже дело» [11: 60]. Категория самости в языке обладает эмоциональностью. Эмоции пронизывают жизнь человека, сопутствуют любой его деятельности, они - важнейшая сторона человеческого существования. Если есть понятия важности, значимости, базовости эмоции, то они сконцентрированы в общественном опыте и отражены в сознании индивида, а, следовательно, и в языке. Эмоция является ядром языковой личности, а рефлексия, самость ‒ ядром её сознания, поэтому проблема «человека в языке», а, следовательно, и проблема эмоций человека в языке – не только лингвистическая проблема, но и проблема смежных наук, таких как философия, психология, антропология. Категориальный механизм мышления человека моделируется через его язык. Языковая категория самости как категория ментального порядка не может носить объективный характер, она субъективна, поскольку её творцом и архитектором является говорящий, думающий, чувствующий и проявляющий эмоции субъект.
учеб. пособие. Куйбышев, Изд-во: КГПУ, 1987. 76 с.
Монография. М.: Высшая школа, 1990. 172 с.
THE SIGNIFICANCE OF SELF
Список литературы Роль самости в формировании эмоциональной картины мира
- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М.: Едиториал УРСС, 2002. 280 с.
- Герасимова Л.Я. Усилительные наречия в современном английском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Л., 1970. 26 с.
- Изард К.Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2007. 460 с.
- Костюшкина Г.М. Категоризация опыта в языковых системах//Язык в синхронии и диахронии: Тез. докл. Петрозаводск: КГПУ, 2001. С. 39?40.
- Намталишвилли И.И. О некоторых эмоциональных конструкциях современного английского языка: дис. … канд. филол. наук. Тбилиси, 1971. 176 с.
- Пеньковский А.Б. Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. 464 с.
- Сафонова С.С. Местоименно-союзные предложения с семантикой интенсивности в языке современной прессы: автореф. дис.... канд. филол. наук. Казань, 2002. 23 с.
- Туранский И.И. Средства интенсификации высказывания в английском языке: учеб. пособие. Куйбышев, Изд-во: КГПУ, 1987. 76 с.
- Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке: Монография. М.: Высшая школа, 1990. 172 с.
- Филимонова О.Е. Рациональное и эмоциональное в репрезентации чувств (на материале английского языка)//Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. СПб: Тригон, 2000. С. 225-227.
- Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе: дис. …д-ра филол. наук. М., 1988. 240 с.