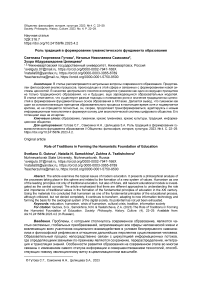Роль традиций в формировании гуманистического фундамента образования
Автор: Гутова Светлана Георгиевна, Самохина Наталья Николаевна, Целищева Зухра Абдурашидовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные вопросы современного образования. Представлен философский анализ процессов, происходящих в этой сфере и связанных с формированием новой системы ценностей. В качестве центрального понятия исследуется гуманизм как один из ведущих принципов не только традиционного образования, но и будущих, еще зарождающихся образовательных моделей. В статье отмечается, что существуют разные подходы к пониманию роли и значения традиционных ценностей в формировании фундаментальных основ образования в XXI веке. Делается вывод, что гуманизм как один из основополагающих принципов образовательного процесса в настоящее время хотя и подвергается критике, но не отрицается полностью, он, скорее, продолжает трансформироваться, адаптируясь к новым информационным технологиям и формируя основу для аксиологической системы цифрового общества. Его потенциал еще не исчерпан.
Образование, гуманизм, кризис гуманизма, кризис культуры, традиция, информационное общество
Короткий адрес: https://sciup.org/149142503
IDR: 149142503 | УДК: 316.7 | DOI: 10.24158/fik.2023.4.2
Текст научной статьи Роль традиций в формировании гуманистического фундамента образования
Введение . Проблемы, с которыми столкнулось современное образование, являются частью системных, глобальных преобразований, затрагивающих все сферы человеческой жизни и вовлекающих всех участников социального взаимодействия в условия беспрерывного самоанализа и философской рефлексии в отношении дальнейших перспектив существования человека. Образовательный процесс непосредственно связан с циркуляцией информационных потоков, где определяющими звеньями по-прежнему являются сохранение, перераспределение, интеграция и трансляция знаний. Особенности развития образования на современном этапе во многом связаны с изменением самого статуса информации и совершенствованием технологий, способствующих новому эволюционному витку в цивилизационном масштабе.
Проблемой для переходного этапа в развитии образования становится излишняя формализация самого процесса усвоения знаний и контроля, а также изменение мотивации в процессе получения образования. Обращает на себя внимание и другая, не менее важная проблема – взаимодействия поколений, которая особенно заметна в учительской среде, поскольку разрыв между представителями разных возрастов в целом увеличивается настолько быстрыми темпами, что теряется связь и в горизонтальном (общение – взаимозависимость) и вертикальном (власть – авторитет, контроль – управление) направлении.
Интеллектуальная сфера, в которой разворачивается весь образовательный процесс в современном мире, становится мощнейшим катализатором социальных преобразований. Именно поэтому дискуссии в отношении того, каким должно быть образование уже завтра, становятся все более острыми, а предложения по реформированию самого образовательного процесса оказываются все более противоречивыми. Даже приблизительный обзор литературы по данному вопросу показывает, как поляризуется мнение внутри интеллектуального сообщества: от стремления вернуться к традиционным ценностям до радикальных утверждений, призывающих отказаться от традиций и направленных на подчинение человека искусственному интеллекту (чего стоят только заявления радикальных трансгуманистов).
Как западные, так и отечественные ученые, анализируя современное состояние информационного общества, отмечают важность развивающей функции образования и необходимость реализации его гуманитарной сущности1. Единство ведущих исследователей современности проявляется в том, что гуманизм рассматривается ими как вера в то, что люди стремятся контролировать свои судьбы, применяя свой интеллект и знания (Khatib et al., 2013; Armstrong, 2015). Среди отечественных исследователей все больше тех, кто говорит о новом витке в развитии образования, плавно переходящем в особое измерение – гуманитарно-антропологическое, в центре которого обнаруживается подлинный интерес к человеческому капиталу (Поломошнов, Поломошнов, 2021; Слободчиков, 2016; Эмих, 2011).
Философско-антропологический анализ современного образования предполагает, что объектом исследования предстает прежде всего сам человек, включенный в современный процесс обучения в течение всей его жизни. В таком случае цель данной работы актуализируется в проблеме сохранения традиционных гуманистических основ трансформации образования.
В результате диалектического подхода к образовательному процессу предмет исследования видится нам как поиски компромисса между новым проектом человека и фундаментальными ценностями, которые мы не должны утратить в результате такой кардинальной модернизации. Данный подход предполагает, что сохранение традиций не должно быть сфокусировано на формальном и консервативном навязывании новому поколению прежних исторически устоявшихся ценностей, а, скорее, может восприниматься как основа для усовершенствования важнейшего института социализации.
Философско-антропологический подход к образованию характеризуется тем, что обращение к традициям гуманизации процесса обучения представляет собой возвращение к вопросам «человеческой самости», трансформацию его природной и духовной составляющей, а также рассуждения на тему призвания человека и развития его культурной деятельности в условиях цифровой цивилизации.
Роль образования в формировании гуманистической парадигмы . В XX веке была сформирована и реализована традиционная система образования, впервые за историю охватившая все слои населения, ставшая массовым явлением и важнейшим событием в области эволюции человеческой личности. Однако уже в начале XXI века общество столкнулось с проблемой несоответствия существующих в образовательной среде процедур и механизмов, связанных с реализацией основных функций данного социального института и новейших технологических возможностей, активно внедряемых не только в научной сфере, но и в повседневной практике (особенно затрагивающей молодежь). Таким образом, для целого поколения молодых людей сложилась практика двойного подхода – образования и самообразования. С одной стороны, он реализуется как обязательное формальное обучение по традиционным правилам и канонам еще прошлого века, а с другой – это самостоятельный поиск актуальных знаний, действительно необходимых молодому человеку в дальнейшей деятельности и напрямую связанных с усвоением и включением в совокупность практик, которые формируются стихийно и не могут быть закреплены как традиция, то есть в своей неизменной классической форме.
Традиционность, имея в своем основании консерватизм, для молодых людей видится, скорее, как препятствие, осознаваемое как противовес мобильности, гибкости мышления, плюрализму, мультикультурности, критически настроенному сознанию. Поэтому вопрос о роли традиций в современном образовательном процессе является действительно актуальным и даже жизненно необходимым. При этом необходимо учитывать, что кризис в образовании связан с общим кризисом в культуре и с трансформацией всех социальных институтов и общностей. На поверхности изменений, происходящих в современном обществе, можно наблюдать следующую тенденцию: с одной стороны, количество образованных людей растет (в том числе закончивших вуз), с другой - очевиден (именно с позиции классического образования) определенный момент деградации, связанный с утилизацией и прагматизацией знания, превращения образования в сферу услуг, имеющую ограниченные функции на потребительском рынке (Стукалова, 2010).
В социально-философской и педагогической сфере уже назрела необходимость создания и внедрения новой парадигмы, которая позволила бы сделать процесс обучения не только современным, но и максимально комфортным для молодых людей. Гуманистическая парадигма должна противостоять или органично включиться в новую техногенную цивилизацию: «Для тех-нологизма образование - это сфера услуг, а для гуманизма - это сфера человеческих отношений» (Дерюга, 2019: 134). Современное образование уже не может игнорировать все востребованные в обществе функции, связанные напрямую с экономическими отношениями и рынком труда, но в то же время не может отказаться и от воспитательного элемента, вплетенного в уже существующую систему ценностей.
Рационализация образования, возможно, уже достигла своих пределов и на данном этапе не всегда может быть эффективной и даже полезной. В то же время полный отказ от классических элементов и традиций, особенно необдуманный и резкий, может, скорее, навредить, чем способствовать совершенствованию системы образования. Поскольку традиции могут влиять на формирование именно фундаментальных качеств личности, то они выступают и основой для ее самореализации. В свою очередь личностная актуализация является важнейшей ценностью и в современном образовании (Жусупова, 2012). Правильно охарактеризовать заявленную проблему можно как противоречие между необходимостью преодолеть существующий кризис в культуре и образовании и в то же время стремлением сохранить фундаментальное основание, то есть те самые базовые ценности, которые обеспечивают гуманистическое составляющее образовательного процесса.
Важной составляющей традиционного воспитания и образования является телеологизм (для чего? и зачем? какова цель?), устремленность к конкретному идеалу человека. Поэтому так важно сегодня ответить на вопрос, каким мы хотели бы видеть образованного человека будущего, что мы знаем о том человеке, который формируется прямо сейчас на границе прошлого (традиционного), настоящего и будущего. Один из ответов на него, очевидно, связан с позицией субъекта в отношении знания и целей образования вообще. Так, например, можно согласиться с современными исследователями в том, что «ученик должен научиться отыскивать не только личностно значимые знания, но и духовные, выстраивать их в систему, подвергать анализу и синтезу, т. е. речь идет о технологии самообучения и самопознания с позиции надличностного Я» (Корнеенков, 2011: 35). Очевидно, что стремление создать в результате целенаправленного процесса социализации (в том числе образования и воспитания) полноценную, целостную личность, сформированную на фундаментальной системе ценностей, представляется, скорее, утопией, ускользающей от нас за пределы обозримых границ. Понятие прогрессивного, успешного или реализовавшегося человека более соответствуе реалиям современного общества и указывает на новый виток приспособления, где возникает подмена ключевых для человеческого существования жизненных потребностей. Стремление личности к успеху «любой ценой», навязчивое желание максимально рационализировать свою жизнь, управлять ею и видеть в прагматизме единственную ценность, в результате ведет к построению «деструктивных жизненных стратегий, сопровождающихся личностными деформациями, разрушением межличностных отношений» (Плу-гина, Дзампаева, 2015: 45).
Если в самом образовательном процессе не заложен конечный смысл, выходящий за рамки утилитарности и прагматизма, то он превращается в «холостой механизм», зацикленный на самом себе. Профессиональное становление каждого отдельного человека, безусловно, важно, однако если оно не связано с его призванием, с реализацией истинных потребностей «живой полноценной личности», то не может сделать человека действительно счастливым и удовлетворенным. Данное состояние может быть неосознанным, но крайне опасным, поскольку именно оно часто является определяющим для конкретного социального действия человека, делающего выбор в пользу деструктивного и саморазрушающего поведения.
Кризис образования и проблема дегуманизации общества . Другой принципиально важный вопрос, который затрагивает основы образования, связан с проблемой дегуманизации в обществе, которая широко сегодня обсуждается в научном сообществе. Если рассматривать гуманизм как основу образовательного процесса, то очевидно, что мы сталкиваемся как минимум с двумя разными точками зрения на данное явление в культуре. Первая позиция предполагает уверенность в обязательности этого элемента в образовании и его реализации на уровне непосредственного взаимодействия по модели «учитель – ученик», а также усвоения существующей системы ценностей, в центре которой находится подлинное уважение к человеческой личности. Таким образом, в первом случае речь идет о практике и формировании определенного духовного опыта, который возможен только через контакт с Другим. Отечественные исследователи обращают на это взаимодействие особенное внимание, подчеркивая, что «нельзя игнорировать опыт образования как опыт гуманизации личности, заключающийся в расширении узкого мира человека до мира другой личности» (Удинкан, 2013: 12).
В этом смысле гуманизация представляет собой важнейшую функцию человеческого существования. Русский философ Н.А. Бердяев так характеризовал человека: это «существо, гуманизирующее природу» (Бердяев, 1998: 56). Более того, человек, с точки зрения философа, гуманизирует Бога и даже самого себя (Бердяев, 1998: 56). Под духовной практикой подразумевается не чисто индивидуальное событие, которое имеет важность само по себе, а особое явление: «Органон духовной практики исполняет специфическое и уникальное задание: он должен обеспечить возможность надежной ориентации и продвижения на пути к телосу, который отсутствует в горизонте сознания и опыта и поэтому представляет собой для человека не цель в собственном смысле, но трансцендентную цель, транс-цель» (Хоружий, 2005).
В этом случае гуманизм всегда имеет конкретное содержание, он опосредуется нашими представлениями о духовных ценностях, нравственных ориентирах, цели и ценности человеческой жизни в данном конкретном месте и времени. Если рассматривать гуманизм как философский принцип, то можно согласиться с современными отечественными исследователями, что он «определяет феноменологию образования на протяжении всей истории последнего, формирует как целостность бытия, так и оптимистическую установку закономерного присутствия в общей картине действительности каждого индивида. В назидательности гуманизма проявляется его педагогичность, как и в духовно-содержательных особенностях образования – его исходные гуманистические основания. Таким образом, справедливо констатировать органическое единство гуманизма и образования, скрепленное вневременными антрополого-педагогическими традициями (Возчиков, Доценко, 2012: 188).
Вторая точка зрения представляет гуманизм в самом общем его виде (максимально абстрактном) с позиции предельно рационализированного антропоцентризма, как часть историкокультурного развития человечества, которое на определенном этапе поместило человека как идеал в центр мировоззренческих построений. Такой подход позволяет легко ответить на вопрос о целях всего существующего по отношению к самому человеку как второстепенному, подчиненному, служащему высокому предназначению. Здесь речь идет о таком концепте, который замыкает на себе большинство теоретических конструкций, но остается при этом далеким от реалий жизненного мира человека. Именно такой гуманизм становится объектом критики современной философии. Кризис гуманизма – это следствие разрушения доминанты просветительского рационализма и переосмысления места и роли человека в универсуме.
Классический, традиционный вариант образования базировался долгое время именно на таком подходе к гуманизму – как к принципу объяснения мирового порядка, оставившему самого человека далеко позади. Если обратиться к истории философско-антропологической мысли, то важным позитивным шагом в развитии данного концепта можно считать становление идеи просвещенного и деятельного человека в Новое время и затем – в философии Г.В.Ф. Гегеля, когда внимание стало акцентироваться на понятии «отчуждения». На этом этапе был сделан самый существенный вклад в понимание природы человека и самого принципа гуманизма. Преодоление отчуждения есть не что иное как гуманизация всех сфер человеческой жизни, возвращение человеком свой человечности.
Эрих Фромм уже спустя столетия подвел своеобразный итог, отмечая, что «процесс отчуждения – вот то общее, что присуще всем этим явлениям: поклонению идолам, идолопоклонническому почитанию Бога и идолопоклоннической любви к человеку, поклонению политическому лидеру или государству, а также идолопоклонническому преклонению перед конкретными воплощениями иррациональных устремлений. Дело в том, что человек ощущает себя не активным носителем собственных сил и богатства личности, но лишенной индивидуальных качеств “вещью”, зависимой от внешних для нее сил, на которые он перенес свою жизненную субстанцию» (Фромм,
2002). Для современной ситуации актуально звучат слова Эриха Фромма и о том, что «гуманистическая этика антропоцентрична; разумеется, не в том смысле, что человек – центр Вселенной, а в том, что его ценностные суждения, подобно всем другим суждениям и даже ощущениям, коренятся в особенностях его существования и значимы лишь в контексте его существования; и в самом деле человек – “мера всех вещей”» (Фромм, 2010). Таким образом, Фромм утверждает, что с гуманистической точки зрения нет ничего выше и достойнее, чем человеческое существование.
Размышляя о проблемах образования, связанных с его переходным состоянием и постепенным погружением в цифровую реальность, необходимо отметить определенные сложности, возникающие именно в гуманитарной сфере. Так, например, философия приемлема для образования как «служанка науки», она подготавливает почву, создает методологический фундамент и обслуживает научную теорию. Такой подход не позволяет говорить о действительной реализации всего потенциала философского и вообще гуманитарного знания. При этом очевидно, что гуманистическая традиция все еще присутствует в разных сферах человеческой жизнедеятельности, выходя за пределы интеллектуального поля (Каржина, 2004: 451).
Очередной нигилизм в отношении гуманизма вновь оборачивается небывалым всплеском интереса к нему. Так появляется «новый гуманизм», или иначе его обозначают как «реальный гуманизм» (Поломошнов, Поломошнов, 2021: 122–123]. Неправильно отождествлять его с постгуманизмом, поскольку последний, скорее, является одной из модификаций альтернативы традиционному гуманизму, а «реальный гуманизм» – это стремление адаптировать так называемые вечные ценности к современным реалиям и создавать тем самым конкретный опыт на практике. «Если сравнивать гуманизм и постгуманизм, то акценты в них имеют следующую расстановку: гуманистический идеал предполагает теоантропоцентризм, а постгуманистический – техноантропоцентризм с доминированием искусственной, технической среды. Тем не менее, ценность постгуманизма заключается в том, что он, опираясь на старое, производит переоценку всего им созданного и пытается задать новые векторы развития» (Гайнуллина, Яковлева, 2015: 118).
В результате в самой системе образования и в научных кругах повсеместно возникают «очаги сопротивления», которые связаны с ностальгией по традиционным ценностям. Данная тенденция обусловлена сложным переходным характером современной социокультурной ситуации и выражается следующим образом: «Мы под гуманитарным сопротивлением будем понимать те формы символического протеста, которые основаны на ценностях гуманизма, опираются на национально-культурные традиции и носят ненасильственный характер» (Мурзина, 2020: 100).
В результате закономерных преобразований, затрагивающих в том числе и сферу духовноэтическую, происходит изменение и самого подхода к человеку как личности, способной существовать в информационном пространстве, не растворяясь при этом в массовом обществе, а, скорее, наоборот, создавая новые формы, позволяющее ей реализовывать себя в мультикуль-турном поле за счет активного внедрения передовых информационных технологий. Таким образом, гуманизация как важнейший элемент социализации не исключается, а трансформируется за счет выявления нового содержания антропологического фактора эволюции. К таким факторам можно отнести, например, ориентацию личности на идеал андрогинности, где происходит стирание гендерных различий в социокультурном измерении (Gutova et al., 2019).
Личность не может существовать как замкнутый субъект, вне постоянного взаимодействия с внешней средой, при этом она должна иметь определенную защиту от стремительно совершенствующихся манипулятивных технологий, довольно часто не оставляющих ей права оставаться самой собой. Это касается и сферы традиционных ценностей, поскольку именно они сегодня становятся частью глобальной манипуляции. Рассуждения о духовно-нравственных ценностях подменяют важные ориентиры в повседневной практике, выдавая за традиции определенные ритуальные действия, жизнеспособность которых была утрачена еще столетия назад. Так, например, затрагивая тему семьи и семейно-брачных ценностей, часто говорят о многодетности как норме, игнорируя ряд экономических, политических и социальных реалий. Современный молодой человек подходит более осознанно к данному вопросу, планируя свою жизнь исходя в первую очередь из интересов, связанных с реализацией его собственного потенциала.
Система образования медленно и не всегда успешно перестраивается, но при этом, безусловно, развивается и поэтому не может игнорировать тот факт, что сегодня человеческая деятельность приобретает новое функциональное значение, что выражается в изменении сферы коммуникации и реконструкции знаковой системы. Представители молодого поколения вполне осознанно и гармонично чувствуют себя как в индивидуальном, так и в коллективном информационном пространстве (например, реализуясь в различных сетевых сообществах). Процесс виртуализации личности дает ей возможность одновременно проявлять себя в разных измерениях, поэтому к основным чертам современного молодого человека можно отнести гибкость, позволя- ющую личности легко трансформироваться; интеллектуальную свободу, основанную на здоровом скепсисе, и другие черты, позволяющие ей быстро адаптироваться. Можно предположить, что в ближайшей перспективе зависимость ученика от учителя будет минимальной, а точнее, их отношения будут выстраиваться в другой плоскости, где развитие самого учителя играет не менее важную роль, чем обучение ученика. Поэтому воспитание нравственных качеств с необходимостью должно быть связано с формированием гражданских, гуманистических взглядов в первую очередь у будущих учителей (Kanlybayeva, 2019: 144–145).
Почти столетие назад нидерландский исследователь культуры Йохан Хёйзинга обратил внимание на то, что вместе с расширением власти науки, происходит обратный процесс, а именно «затухание интеллектуального сознания», проявляющееся в снижении потребности «как можно точнее и объективнее мыслить умопостигаемые вещи и самим критически проверять это мышление». Вместе с упадком этой критической потребности и добровольным оглуплением возникает серьезная опасность, поскольку в мире уже нет «тормоза моральных убеждений» (Хёйзинга, 2010). Такую ситуацию Хёйзинга называет варваризацией (умиранием культуры) в противовес цивилизации О. Шпенглера (Шпенглер, 2022). Он так характеризует это состояние: «Под варваризацией можно понимать культурный процесс, в ходе которого достигнутое духовное содержание самой высокой пробы исподволь заглушается и вытесняется элементами низшего содержания» (Хёйзинга, 2010: 139–140). Сам процесс, как считает мыслитель, внешне может сопровождаться высоким техническим совершенством и предполагает рост всеобщего образования, однако «судить о повышении культуры по снижению безграмотности – это устарелая наивность. Определенный минимум школьных знаний еще никоим образом не гарантирует наличия культуры. Если бросить взгляд на общую духовную ситуацию нашего времени, то вряд ли можно будет назвать излишне пессимистичной ее оценку в следующих выражениях… Аморфной полу-культурной массе все больше недостает спасительных тормозов уважения к традиции, форме и культуре» (Хёйзинга, 2010: 141).
В то же время человечеству остается верить в то, что неизбежность технологизации образовательного процесса не исключает его гуманизацию. В современной философско-культурологической и педагогической науке все чаще обсуждается новая концепция образовательной экосистемы, в которой центральным звеном становится мысль о том, что «цифровая педагогика, опирающаяся на анализ больших данных и искусственный интеллект, позволяет постепенно кастомизировать и затем персонализировать образовательный контент и процессы в зависимости от поведенческих моделей и жизненных стратегий учащегося» (Емельянович, 2020: 62–63). Децентрализация, а именно отказ от монополии внутри формирующейся системы образования, уже представляет собой серьезный шаг к новой модели взаимодействия человека и сферы знания (Емельянович, 2020). Это не значит, что у нее не будет недостатков и проблем, но она, возможно, приблизится к гармонизации формальных требований и свободной самореализации человека, избегая давления со стороны доминирующих властных институтов и не теряя при этом связи с культурными традициями.
Возможно, именно подлинная гуманизация образования позволит раскрыть все перспективы не только самого образовательного процесса, но и культурного диалога в целом, который всегда шире, чем любая теория, и точно выходит за рамки рационально-логической конструкции. Такой подход позволяет увидеть, что «образование – это процесс, интимно переживаемый и в глубине своей непросчитываемый и непредсказуемый. Разум и опыт здесь лишь внешняя форма и инструмент, а не цель» (Удинкан, 2013: 12).
Заключение . Подводя итог, необходимо отметить, что образование в настоящее время балансирует на тонкой грани, его переходное состояние во многом обусловлено сменой ключевых принципов, пронизывающих не только внутреннюю организацию, но и весь спектр взаимодействий с другими социальными институтами, общностями. Формирование гуманистического фундамента в системе современного образования, в первую очередь, связано с выполнением его главного предназначения – приобщения человека к достижениям культуры, творческой реализации, а также созданием условий для конструктивного преобразования мира и самого человека.
Размышляя над возможным позитивным сценарием развития образования в ближайшем будущем, можно сделать вывод, что гуманизм (несмотря на сложную трансформацию данного концепта в современности) может быть связующим звеном между традицией (одна из главных функций которой — культурная трансляция и преемственность) и новыми образовательными моделями, уже не представляющими собой нечто единое, а, скорее, реализуемыми в бесконечно многообразных формах, где гуманизм – это принцип индивидуального подхода к каждому человеку, признание его уникальности. Следовательно, вопрос о монополии и едином стандарте в образовании становится все более актуальным, поскольку отдаляет нас от принципа подлинного гуманизма. Такого рода гуманизм может сохраниться как базовый принцип, поскольку предполагает «построение общества, в котором наивысшей ценностью является жизнь человека; признание его права на любовь, счастье, развитие, царство свободы, справедливости и подлинной духовности» (Галяс, 2020: 144).
Реальный гуманизм ориентирован на решение проблем в образовательной среде, поскольку не вступает в противоречие с новыми информационными технологиями и, более того, создает почву для развития актуализированной системы ценностей развивающегося цифрового общества.
Список литературы Роль традиций в формировании гуманистического фундамента образования
- Бердяев Н.А. О назначении человека. M., 1998. 384 с.
- Возчиков В.А., Доценко Т.Э. Образование как гуманизм // Mир науки, культуры, образования. 2012. № 2 (33). С. 186-189.
- Гайнуллина Л.Ф., Яковлева Е.Л. Принцип гуманизации в образовании и трансформация идей гуманизма в современном обществе // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. 2015. № 4 (146). С. 114-123.
- Галяс И.А. Гуманистическая образовательная парадигма: сложности внедрения в процессе дистанционного обучения // Общество: социология, психология, педагогика. 2020. № 3 (71). С. 140-144. https://doi.org/10.24158/spp.2020.3.22.
- Дерюга В.Е. Образование XXI века: Прощай гуманизм, да здравствует технологизм? // Проблемы современного образования. 2019. № 4. С. 128-135.
- Емельянович И. Образование будущего // Наука и инновации. 2020. № 12 (214). С. 58-63.
- Жусупова Б.Ж. Философские основания современного образования // Вестник Карагандинского университета. 2012. № 2 (66). С. 47-53.
- Каржина Г.А. Традиции гуманизма и развитие науки // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2004. № 1. С. 446-452.
- Корнеенков С.С. Гуманистическая парадигма в системе высшего образования // Сибирский педагогический журнал. 2011. № 7. С. 26-37.
- Mурзина И.Я. Гуманитарное сопротивление в условиях цифровизации образования // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 10. С. 90-115. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-10-90-115.
- Плугина M.K, Дзампаева ЖМ Гуманизация образования: история и современность // KANT. 2015. № 2 (15). С. 42-46.
- Поломошнов А.Ф., Поломошнов П.А. Судьба гуманизма в XXI веке. Персиановский, 2021. 155 с.
- Слободчиков В.И. Психология становления и развития человека в образовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16. Психология. Педагогика. 2016. № 1. С. 100-108.
- Стукалова О.В. Современные концепции гуманитарного знания в высшем профессиональном образовании. M., 2010. 272 с.
- Удинкан О.В. Гуманизм и проблемы современного образования // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2013. № 21. С. 7-13.
- Фромм Э. Гуманистический психоанализ. СПб., 2002. 544 с.
- Фромм Э. Человек для самого себя. M., 2010. 350 с.
- Хёйзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир. СПб., 2010. 456 с.
- Хоружий С.С. Опыты из русской духовной традиции. M., 2005. 445 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. M., 2022. 1198 с.
- Эмих Н.А. Основания философско-антропологического исследования культурной парадигмы образования // Вестник Бурятского государственного университета. 2011. № 6. С. 49-53.
- Armstrong M. Humanism in Education // Forum. 2015. Vol. 57, iss. 3. P. 317-324. https://doi.org/10.15730/fo-rum.2015.57.3.317.
- Gutova S.G., Samokhina N.N., Tselishcheva Z.A., Litsuk A.A. Personal Information Culture: Security and Development // Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, 2019. P. 6651-6658.
- Kanlybayeva Zh.S. The Role of Moral Traditions and Norms of Education in Valuable System of Society // Central Asian Journal of Art Studies. 2019. Vol. 4, iss. 1. P. 138-145.
- Khatib M., Sarem S.N., Hamidi H. Humanistic Education: Concerns, Implications and Applications // Journal of Language Teaching and Research. 2013. Vol. 4, iss. 1. P. 45-51. https://doi.org/10.4304/jltr.4.1.45-51.