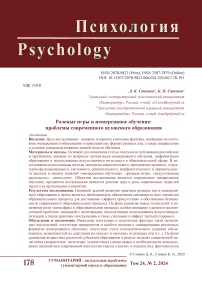Ролевые игры и иммерсивное обучение: проблемы современного вузовского образования
Автор: Стожко Д.К., Стожко К.П.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 2 (66), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Цель исследования - выявить и оценить ключевые факторы, влияющие на состояние иммерсивного образования и присущий ему формат ролевых игр, а также направления и условия совершенствования данной модели обучения.
Андрагогика, виртуальная реальность, дополненная реальность, иммерсивное образование, когерентность, обучение, погружение в ситуацию, ролевая игра, смешанная реальность, фантомология, эвтагогика
Короткий адрес: https://sciup.org/147243812
IDR: 147243812 | УДК: 330.8 | DOI: 10.15507/2078-9823.066.024.202402.178-191
Текст научной статьи Ролевые игры и иммерсивное обучение: проблемы современного вузовского образования
Современное иммерсивное обучение представляет собой обучение в искусственно смоделированной ситуации (среде), благодаря которой учащиеся могут более глубоко усвоить (освоить) учебный материал. Задача такого обучения состоит в погружении учащихся в действие, активное участие в процессе обучения, вовлечение в те процессы или явления, которые являются предметом обучения. Иными словами, такое обучение создает эффект «непосредственного присутствия», тогда как традиционное обучение связано лишь с «эффектом наблюдателя». В связи с этим распространенные формы высшего образования постепенно во все большей степени также становятся иммерсивными. Для этого используются различные интерактивные средства и формы.
Целью исследования являются выявление и оценка ключевых факторов, оказывающих влияние на состояние иммерсивного образования и присущего ей формата – ролевой игры, а также направлений и условий совершенствования данной модели образования.
Материалы и методы
В исследовании использованы методы экспертно-аналитического, программноцелевого, структурно-функционального, системного, сравнительного, морфологического и компаративного анализа и оценки понятий «иммерсивное обучение», «ролевая игра», «искусственная реальность», «искусственный интеллект». Объектом исследования является современное иммерсивное обучение, предметом исследования – ролевая игра и роль современных отраслей науки: андрагогики, асфатроники, ноксологии, фантомологии, хьютагогики, эвтагогики – в ее организации и развитии.
Результаты исследования
Среди наиболее известных технологий иммерсивного обучения можно назвать организацию вымышленного пространства, так называемую виртуальную реальность, в которой учащиеся ориентируются с помощью специальных средств. Например, при просмотре учебного фильма в стереоскопическом варианте используются специальные очки, а во время занятий физической культурой (спортом) – специальные симуляторы, например катания на лыжах или игры в боулинг. При обучении в автошколе или на курсах пилотирования также создается определенная виртуальная среда, которая временно заменяет естественную реальность и в которой учащиеся без особых рисков для собственной безопасности могут не только получить необходимые навыки и умения, но и почувствовать себя в роли авиапилота или автомобилиста.
Расширению практики использования виртуальной реальности способствуют компьютеризация и цифровизация образования. Сегодня практика образования посредством виртуальной реальности вплотную подошла к установлению непосредственной связи между компьютером и пользователем, к «считыванию мыслей» (электромагнитных сигналов) в человеческом мозге [41, с. 81].
Другой технологией иммерсивного обучения является создание так называемой смешанной реальности, в которой происходит наслаивание действительных и выдуманных элементов. Например, при рисовании, когда создаются некие образы мифических существ или при комбинировании архитектурных стилей в проектировании того или иного сооружения. Классическим примером такой технологии может служить творчество известного каталонского архитектора А. Гауди (1852–1926), который наряду с традиционными элементами архитектуры использовал подсмотренные в живой природе формы. Не случайно поэтому смешанную реальность часто называют гибридной реальностью, которая может включать как элементы дополненной реальности, так и элементы виртуальной реальности [9, с. 8].
Наконец, достаточно часто используется технология дополненной реальности, при которой учащиеся не только осваивают дополнительную информацию, но и используют разные методы обучения для лучшего ее усвоения. Например, в математике, когда предлагается решение задачи новыми (нестандартными) методами, или в биологии, когда с помощью биогенных технологий создается тот или иной сорт или вид продукта. Существуют разные технологии дополненной реальности [6]. Интерес учащихся к такой «дополненной реальности», как технологии иммерсивного обучения, довольно высок. Это объясняется перспективами, которые данная технология несет с собой. Например, современная биологическая наука находится на пороге расшифровки генетического кода человека. Появилось такое ее направление, как протеомика, направленная на решение задачи существенного продления человеческой жизни [42, с. 159].
Особой формой иммерсивного обучения является ролевая игра. Различают разные виды ролевых игр [33, с. 146] и различные способы разыгрывания ролей. Вместе с тем в литературе последних лет по вопросам организации и использования ролевых игр в учебном процессе и в целом в работах по иммерсивному обучению (образованию) относительно слабо отражены анализ «эффекта погружения» в создаваемую «искусственную ситуацию» и влияние «играемых» ролей на психику, сознание и самочувствие учащихся. Эмоции, которые переживает учащийся в процессе ролевой игры, могут оказывать влияние и на его последующее самочувствие и поведение. Не случайно с 2021 г. в Российской Федерации в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» создаются школьные театры, целью которых является не только раскрытие творческого потенциала учащихся, но и решение многих конкретных психолого-педагогических и социальных проблем. Ролевые игры или театральные постановки позволяют их участникам разгрузить свою психику от накопленных негативных эмоций, освоить новую для них (театральную) культуру, самовыразиться и т. д. В высших учебных заведениях в большей степени распространены спортивные игры, организация пресс-конференций, круглых столов, дискуссионных клубов и др. Что касается использования формата ролевой игры в изучении большинства учебных дисциплин (предметов), то она носит преимущественно фрагментарный характер. В гуманитарных науках она чаще всего связана с личностным и биографическим подходом, когда учащийся представляет (играет, репрезентирует и др.) того или иного персонажа (историческую личность). Формой такой игры может служить, например, встреча учебной группы с исторической личностью (полководцем, философом, государственным деятелем, артистом и др.), роль которой исполняет конкретный учащийся, ведущий занятие вместо педагога в той или иной форме (зачитывает речь, отвечает на вопросы, защищает научную работу и т. д.). Это именно ролевой формат, отличающийся от традиционных докладов и реферативных выступлений. В области естествознания таким ролевым форматом могут служить экскурсия, экспедиция, совместная организация и проведение опытов и др.
Обычно считается, что к той или иной ролевой игре можно и даже необходимо подготовиться заранее, например в домашних условиях. Но в любой игре присутствует элемент импровизации, экспромта, случайности, неопределенности, что не позволяет заранее к ней полностью адаптироваться и предусмотреть все последствия «погружения в ситуацию». Кроме того, педагоги чаще всего поручают подготовку той или иной роли учащимся без учета их психотипа и без учета психотипа того персонажа, которого предстоит сыграть. Это ведет к искажению не только искусствен- ной реальности, выбранной в качестве технологии иммерсивного обучения, но и к искажению достоверности в изучаемых вопросах, деформации представлений о том, что изучается. Например, к одностороннему или упрощенному взгляду на те или иные проблемы или даже фейковому (англ. fake «подделка»), ложному их восприятию.
Поэтому крайне важной является методология организации и проведения ролевых игр, которая чаще всего связана с имитационным моделированием, созданием определенной ситуации, имитирующей подлинную изучаемую ситуацию. В каждом варианте деловой игры (военные, политические, производственные, исследовательские, учебные, спортивные и др.) существует и своя специфика, которая во многом определяет результат обучения. В любом случае методы ролевой игры включают целеполагание, проектирование, процесс игры и извлечение результатов [17, с. 611–613].
В качестве базового условия проведения ролевых игр в области гуманитарных наук выступает диалектический метод познания, суть которого состоит в том, что любой изучаемый процесс или явление берется в развитии (в динамике) и в многообразии всех сторон (признаков, свойств). Соответственно, для проведения ролевой игры здесь могут быть предложены те или иные способы, например осуществление самостоятельной оценки изучаемого вопроса (события, личности и ее роли, научной концепции и т. д.) на основе имеющейся (полученной предварительно от педагога или добытой самостоятельно) информации с двух сторон (позитивной и негативной) с последующим итоговым заключением («подведением баланса»). При таком подходе учащиеся самостоятельно формируют представления, которые в силу собственной природы становятся их убеждениями.
Однако часто ролевая игра проходит формализованно, а у педагога не хватает необходимого опыта и знаний для ее эф- фективной организации. В силу высокой степени загруженности педагоги порой просто не имеют даже возможности для серьезной подготовки той или иной ролевой игры, ведь для этого явно недостаточно скупых сведений, содержащихся в учебнике по конкретному учебному предмету. Здесь необходимо знакомство с более широким объемом источников информации, а также со специальной (учебной) литературой [39].
В подобных случаях процесс «погружения в ситуацию» – неважно, будет ли она называться «дополненной», «смешанной» или «виртуальной реальностью» – оказывается не просто условным, но и практически неэффективным с гносеологической и методологической точки зрения. Гносеологический аспект, помимо недостаточного объема учебного материала, часто еще связан с тем, что учащиеся как носители разных психологических типов, разного характера и разного менталитета по-разному представляют себе то, что принято считать истинным знанием. Об этом свидетельствует реакция разных людей на одни и те же действия, различное отношение зрителей к тем или иным персонажам, сугубо индивидуальное восприятие тех или иных артефактов культуры и т. д.
В процессе ролевой игры возникает проблема получения глубокого и достоверного, истинного знания. Участникам ролевой игры для «погружения» и ту или иную игровую «реальность» необходимо структурировать эту реальность, наполнить ее смыслом и представить себе в целостности. Иными словами, найти ту или иную основу, ризому (фр. rhizome «корневище»). Этот термин для обозначения множественной реальности ввели в научны лексикон французские философы Ж. Делез (1925–1995) и Ф. Гваттари (1930–1992) [14].
С психологической точки зрения понятно, что «ризомы множественны» и, значит, каждый учащийся в процессе ролевой игры может осуществлять ту или иную декомпозицию. Тем самым педагогу приходится решать сразу три задачи. Во-первых, соотнесения истинного знания со знаниями, получаемыми учащимися в рамках иммерсивного образования. Во-вторых, соотнесения вероятностного представления с наглядностью в ролевой игре. В-третьих, соотнесения субъективного и объективного подходов в реконструкции и репрезентации игровой «искусственной среды». Эти задачи в условиях создания «искусственной среды» и «погружения» в нее получают определенное и вполне направленное, ин-тенциальное (лат. intentio «намерение, направление, стремление») психологическое измерение (лечебная психология, инженерная психология, педагогическая психология, экологическая психология, психология достижений и т. д.) [43, с.792–801].
При переходе к иммерсивному образованию и практике использования ролевых игр необходимо, во-первых, учитывать аксиомы ноксологии – науки об опасностях и рисках. Отталкиваясь от известной пирамиды потребностей личности А. Маслоу, при «погружении» в образ или в искусственную среду на первое место следует ставить обеспечение безопасности учащегося, а именно его психологическую и когнитивную защищенность, стабильность его психики, сохранение чувства уверенности, а также физиологической и социальной безопасности, исключающих любое нанесение вреда жизни и здоровью. В процессе ролевой игры и развития процесса вовлеченности учащегося этого можно достичь путем использования определенной атрибуции, например защитного оборудования, разного рода приспособлений, адаптеров и т. д. Возникает вопрос об «отложенном эффекте», когда негативные последствия, такие как стресс, эмоциональная усталость, нервное расстройство и др., проявляются у учащихся уже после окончания процесса обуче- ния, в личном пространстве (дома, в семье и т. д.). В качестве таких «отложенных» последствий могут быть фобии, мании, прострация и иные неординарные состояния психики. В связи с тем, что техника и техносфера оказывают и могут оказывать на человека серьезное влияние, польский философ-футуролог С. Лем (1921–2006) предложил изучать это влияние с помощью новой дисциплины – фантомологии [27, с. 213].
По сути, речь идет о безопасности обучения или, если быть точнее, безопасности новой разновидности учебного труда – его иммерсивной формы, связанной не только и не столько с узнаванием, запоминанием, пониманием, но и с переживанием. В связи с этим было бы рационально и своевременно разработать понятие «образовательные риски» и внести соответствующие дополнения в действующий Федеральный закон «Об образовании», что в полной мере отражает формирование новой реальности, фундаментальную трансформацию существующих ценностных систем, современный кризис в сфере образования и переход к новому технологическому укладу. Тем более что существующие особенности педагогической практики – андрагоги-ка, эвтагогика, хьютагогика – практически никак не отражены в нормативной и законодательной базе и не табуированы на предмет обеспечения безопасности учащихся разного возраста, разных психотипов и устранения из учебного процесса тех «образовательных рисков», которые в связи с этим в нем появляются. Очевидно, что существующие особенности связаны с разными методологическими и методическими подходами, которые нельзя отождествлять и крайне сложно сочетать [38, с. 111].
Здесь возникает вопрос, когда конкретно, в какой момент учащимся можно предложить «игровой формат» обучения. Игра как игра и игра как форма обучения – совершенно разные коммуникации. Риск «недоучить» или «переучить» здесь проявляется чаще всего на фоне психического здоровья/нездоровья. Проявлением такого «психического нездоровья» может служить отсутствие у учащегося здорового критицизма, критического восприятия реальности. Его отсутствие порождает конформизм, угодничество, соглашательство и т. д. Как справедливо отмечал один из основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта Н. Винер (1894–1964), «нам необходим честный и пытливый критицизм, в частности в дискуссиях… где уклонение от истины вызывается ложным пониманием» [11, с. 232].
Данное проявление «психического нездоровья» связано, среди всего прочего, с отсутствием необходимого (объективно достаточного) времени для глубокого освоения и усвоения предмета изучения в условиях «искусственной» игровой ситуации, выхода из нее, перестройки психики и сознания. Поэтому иммерсивное обучение, в том числе посредством ролевых игр, необходимо переформатировать таким образом, чтобы у учащихся было время, необходимое и достаточное для полноценной психологической самонастройки, самоопределения, нормального переформатирования собственной психики и сознания на новые направления и цели обучения (образования).
Следует отметить, что до сих пор сохраняются существенные разночтения в понимании основных принципов андраго-гики и эвтагогики, что также создает ненужные риски, поскольку «правила игры», том числе ролевой игры, должны определяться заранее и не нести в себе никаких «образовательных рисков» для учащихся. Риски и опасности, связанные с широким распространением иммерсивного обучения, напоминают риски перестраивания автомобилиста на многополосном скоростном шоссе, когда повышается вероятность столкновения. Такая растущая вероятность обусловлена тем, что она зависит уже не только от автомобилиста, сколько от дру- гих участников движения. Поэтому и существуют Правила дорожного движения, которые не избавляют участников движения от рисков и угроз, но минимизируют их и предполагают определенные санкции и ответственность для «нарушителей». На практике такими «нарушителями» могут быть не только участники дорожного движения, но и дорожные службы, пешеходы, т. е. так называемые третьи лица.
Область иммерсивного обучения (образования), связанная именно с ролью «третьих лиц», слабо отрегулирована в действующем законодательстве. Вмешательство посторонних (например, при проведении технических работ во время учебного процесса) – отнюдь не редкость в учебных заведениях страны. В правовом смысле такие ситуации не урегулированы. Поэтому «жизнь и здоровье людей и окружающей их среды, как природной, так и техногенной, оказываются в чрезвычайной ситуации» [35, с. 77–78].
Если рассматривать эффект «третьих лиц» в организации иммерсивного образования, а именно в процессе вовлеченности, «погружения» учащегося в созданную в рамках той или иной ролевой игры искусственную ситуацию, необходимо отметить, что традиционным инструментарием такого влияния является манипулирование психикой и сознанием учащихся. Часто это связано с сенсорно-перцептивной загрузкой сознания, когда учащийся получает излишнюю, ненужную, постороннюю информацию, поступающую в органы чувств в таком алгоритме, когда осмыслить ее уже не хватает времени. Это прямой путь к стрессу, нарушению когнитивной безопасности учащихся и возникновению так называемого ослабленного сознания. Примерами такого нарушения под влиянием «третьих лиц» могут быть не только фоновые факторы (например, повышение уровня шума и др.), но и физиологические и психологи- ческие последствия в отношении учащегося. Например, нарушение существующей функциональной асимметрии головного мозга, когда учащийся в какой-то момент оказывается не в состоянии мыслить логически (левое полушарие) или частично теряет память (ретроградная амнезия), либо ухудшение зрения, слуха и т. д.
Довольно распространенной формой негативного влияния на иммерсивное образование являются разного рода организационные и реорганизационные вмешательства (переносы занятий и др.), что ведет к нарушению принципа когерентности в образовательном процессе. Ясно, что «человек может ориентироваться в жизненном пространстве и разумно судить о действительности, когда отдельные элементы реальности соответствуют друг другу и соединяются в систему – они когерентны, соизмеримы» [19, с. 489]. Неожиданные вмешательства в учебный процесс, да еще когда учащиеся «погружены в ситуацию», а ролевая игра в самом разгаре, создают в их психике поле бифуркации, а в сознании – сбой системного мышления. Подавляющая часть учащихся не готова к такому «открытому сеансу» в ролевой игре и к такому глубокому «погружению» в ту или иную искусственную ситуацию, характерную для рассматриваемой модели образования. Мотивы здесь могут быть самые разные, но необходимо понимать, что четкая нормативно-правовая регламентация образовательного процесса все еще требует серьезной доработки.
Еще одной важной проблемой развития иммерсивного образования является использование искусственного интеллекта в осуществлении процесса обучения. Как правило, со ссылками на зарубежных исследователей высказывается оптимистичное мнение, что использование искусственного интеллекта оказывает положительное влияние на психическое здоровье человека [34, с. 327]. Имеются и прямо противоположные и вполне аргументированные мне- ния насчет искусственного интеллекта и его роли в образовании. Прежде всего речь идет о совершенно новых угрозах безопасности, связанных с нарушением конфиденциальности обучения, а также других угроз (ограничение доступа к новым технологиям, утрата рабочих мест для населения и т. д.) [31, с. 129–130].
Таким образом, развитие искусственного интеллекта и расширение практики его использования в сфере образования затрагивают уже глобальные аспекты безопасности, которыми занимается особая область науки – асфатроника [21; 36]. В основе ее изучения заложены исследования энергоинформационных процессов в биологических, социальных и технических системах, в том числе изучение социальной, экологической, психической, когнитивной и эмоциональной безопасности [35, с. 62– 63]. Поскольку глобальный аспект безопасности в условиях иммерсивного образования оказывается часто вне поля внимания, представляется необходимым разработать четкие инструкции по его соблюдению на практике. В рамках ролевой игры это может касаться не только естественно-научных, но и гуманитарных дисциплин. Например, засорение родного языка заимствованной лексикой и ее чрезмерное употребление в ходе обучения способны нанести ущерб психическому здоровью учащегося, как и использование некондиционных химических препаратов или изношенного оборудования в лаборатории. В таком случае игра может оказаться не просто опасной, а явно вредной, а «погружение» в игру, в образы, в техники и технологии – фатальным. Что очень важно, при этом личность учащихся теряет собственный суверенитет, да и система подобного искореженного иммерсивного образования ведет к утрате национального образовательного суверенитета.
В образовательной практике педагогам довольно часто приходится сталкиваться с личностными ограничениями учащихся, когда они либо не могут выговорить то или иное иностранное слово, либо не в состоянии совладать с волнением при отмеривании необходимых для опытов веществ, либо с иными эмоциональными и когнитивными расстройствами. Исключить такие расстройства для достижения максимального эффекта ролевых игр и иммерсивного образования означает обеспечить необходимый исходный, стартовый уровень безопасности и исключить образовательные риски, создавая тем самым благоприятные условия для работы с текущими и «выходными» рисками.
Обсуждение и заключение
Вопросы иммерсивного обучения в последнее время довольно широко обсуждаются в современной науке [1; 2; 5; 7; 10; 12; 15; 16; 20; 22–26; 29; 30; 40]. Это обусловлено развитием цифровых технологий, компьютеризацией системы образования, а также существующим противоречием между «возможностями, предоставляемыми использованием новейших технологий в сфере образования, и реальностью их использования в образовании» [32, с. 121]. В качестве специфического формата именно иммерсивного обучения ролевая игра достаточно широко исследована и в современных работах [3; 4; 8; 13; 18; 28; 37]. Впервые термин «ролевая игра» в нашей стране стал активно использовать Д. Б. Эльконин (1904–1984), создатель нового научного направления – педагогической психологии. Спектр мнений касательно перспектив использования иммерсивного образования и ролевых игр достаточно широк. Довольно широким является и их проблемное поле: исследователи анализируют вопросы развития рынка цифровых устройств, практику цифровых технологий иммерсивного обучения, современный понятийный аппарат, предложения по их дальнейшему использованию. Лидерами использования ролевых игр как формата иммерсивного обучения, равно как и использования электронного обучения в целом, пока является бизнес (корпорации), что позволяет сделать вывод о востребованности такого обучения и, соответственно, о перспективах его расширения в системе современного вузовского образования.
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы.
-
1. Ролевые игры в иммерсивном образовании представляют важный и очень перспективный ресурс для развития всей системы образования и воспитания личности учащегося. В силу своей специфики модель такого образовании и присущие ей методы, способы и формы обучения, принципы и правила его организации и самоорганизации нуждаются в серьезной и срочной теоретико-методологической и научной проработке. Это касается феномена «глубокого погружения» (вхождения и выхода) личности учащегося в «искусственную ситуацию» и репрезентации тех образов и ролей, которые представляет личность в такой ситуации.
-
2. Развитие формата иммерсивного образования и практики ролевых игр требует серьезной организационной перестройки всего учебного процесса в учебных заведениях, переработки учебных планов и графиков прохождения тех или иных учебных дисциплин, процесса диспетчеризации, мотивации, стимулирования, планирования и контроля, а также окружающей околообра-зовательной среды (экологии, техносферы, эргономики и т. д.). Это касается в первую очередь алгоритма проведения ролевых игр, динамики иммерсивного обучения, оптимизации временных рамок и частоты подобных занятий, что представляется целесообразным осуществлять в соответствии с известным законом «перемены труда».
-
3. Важным ресурсом такой перестройки являются асфатроника (наука о глобальной безопасности) и ноксоло-гия (наука о рисках, угрозах и опасностях), которые содержат определенный набор требований (аксиом) к обеспече-
- нию когнитивной и иных форм безопасности и которые должны быть приняты «на вооружение» всеми субъектами образовательного процесса, тем более иммерсивного образования. Целесообразны создание и практическое использование риск-ориентированных моделей управления кадрами, что позволит обеспечить более высокий уровень когнитивной, социальной, экологической и психологической безопасности всех субъектов образовательного процесса, разработка оптимального алгоритма формирования риск-ориентированного механизма управления персоналом и учебным процессом.
-
4. Триггером организационной перестройки может и должна служить, во-первых, корректировка действующей нормативно-правовой базы образования в отношении к модели иммерсивного обучения (которая учитывала бы специфику данной модели); во-вторых, сближение эвтагогики и андрагогики, т. е. систем обучения (образования) и самообучения (самообразования) начиная с самого раннего возраста учащихся. Исходной формой такого сближения может считаться бриколаж, высшей формой – субъектные (креативные) способности личности к социальному творчеству.
Список литературы Ролевые игры и иммерсивное обучение: проблемы современного вузовского образования
- Авербух Н. В. Психологические аспекты феномена присутствия в виртуальной среде // Вопросы психологии. 2010. № 5. С. 105–113.
- Азевич А. И. Иммерсивные образовательные среды: проектирование, конструирование, использование // Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании. Красноярск, 2020. С. 357–361.
- Артемьева О. А., Макеева М. Н. Система учебно-ролевых игр профессиональной направленности. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. техн. ун-та, 2007. 208 с.
- Артемьева О. А. Игровая концепция обучения иностранным языкам на основе системы учебно-ролевых игр профессиональной направленности. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2001. 74 с.
- Бакин М. В. Иммерсивные технологии в развитии социальной эмпатии и образования // Педагогические науки. 2020. Т. 100, № 10-2. С. 16–19.
- Бижанов Е. Г. Технологии дополненной реальности в образовательной сфере (обзор) // Молодой ученый. 2020. Т. 321, № 32. С. 10–12.
- Блохин Б. М., Гаврютина И. В., Стешин В. Ю., Овчаренко Е. Ю., Лобушкова И. П. Иммерсивные симуляционные технологии обучения практикующих врачей навыкам сердечно-легочной реанимации детям // Вестник терапевта. 2018. Т. 31, № 7. С. 4–11.
- Боева И. В. Ролевая игра – эффективный метод обучения взрослых слушателей иностранному языку // МНКО. 2020. Т. 83, № 4. С. 145–147.
- Болбаков Р. Г., Мордвинов В. А., Синицын А. В. Смешанная реальность как образовательный ресурс // Образовательные ресурсы и технологии. 2020. Т. 33, № 4. С. 8–16.
- Валиуллина Е. В. Перспективы медицинского образования: иммерсивные методы обучения // Вестник общественных и гуманитарных наук. 2021. Т. 2, № 1. С. 39–41.
- Винер Н. Творец и будущее. М.: АСТ, 2003. 732 с.
- Войскунский А. П., Меньшикова Г. Я. О применении систем виртуальной реальности в психологии // Вестник Московского университета. Сер.: Психология. 2008. № 1. С. 22–36.
- Волхонская А. С., Клименко Е. В. Использование ролевых игр в реализации коммуникативного подхода в обучении иностранному языку студентов технического вуза // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 2. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27485 (дата обращения: 01.04.2024).
- Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория; М.: Астрель, 2010. 895 с.
- Елисеев А. В., Рябикова Д. Л. Иммерсивные технологии как средство обучения по программам юриспруденции // Наука в мегаполисе. Электронный научный журнал. 2023. Т. 46, № 1. С. 16. URL: https://mgpu-media.ru/issues/issue-46/informatsionnye-tekhnologii/immersivnye-tekhnologii-kak-sredstvo-obucheniya-po-programmam-yurisprudentsii.htm (дата обращения: 01.04.2024).
- Заславская О. Ю. Анализ подходов к трансформации образования в условиях развития иммерсивных и других цифровых технологий // Вестник Московского городского педагогического университета. Сер.: Информатика и информатизация образования. 2020. Т. 53, № 3. С. 16–20.
- Злобин С. М., Соловьев И. В. Метод и базовые модели деловой игры // Cloud of Science. 2018. Т. 5, № 4. С. 608–619.
- Камардин М. В. Педагогический потенциал ролевой игры в учебной и воспитательной работе // Современное педагогическое образование. 2018. № 6. С. 172–175.
- Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2005. 832 с.
- Карев Б. А., Покровцев Н. В. Возможности применения иммерсивных технологий при преподавании гуманитарных дисциплин в современной образовательной среде // Перспективы науки. 2021. Т. 138, № 3. С. 130–134.
- Кефели И. Ф. Асфатроника: на пути к глобальной безопасности. СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2020. 228 с.
- Корнилов Ю. В. Иммерсивный подход в образовании // Азимут научных исследований. Педагогика и психология. 2019. Т. 8, № 1. С. 174–178.
- Корнилов Ю. В., Попов А. А. К вопросу о терминологии и классификации иммерсивных технологий в образовании // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 68-2. С. 171–174.
- Котов Г. С. Иммерсивный подход в образовании: возможности и проблемы реализации // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 73-1. С. 179–182.
- Кувшинов С. В., Харин К. В. Иммерсивные образовательные технологии в проектной деятельности учащихся на базе виртуальной и дополнительной реальности: проблемы и перспективы // Запись и воспроизведение объемных изображений в кинематографе, науке, образовании и других областях: материалы ХII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2020. С. 175–186.
- Левицкий М. Л., Гриншкун А. В. Иммерсивные технологии: способы дополнения виртуальности и возможности их использования в образовании // Вестник Московского городского педагогического университета. 2020. Т. 53, № 3. С. 21–25.
- Лем С. Фантастика и футурология: в 2 т. М.: АСТ, 2004. Т. 1. 591 с.
- Маджитова Х. Т., Бурибаева Ш. А. Ролевые игры как метод интенсификации учебного процесса // Молодой ученый. 2017. Т. 154, № 20. С. 450–452.
- Малий Д. В. К вопросу об использовании иммерсивных технологий в образовательном процессе // Преемственность в образовании. 2019. Т. 6, № 22. С. 818–826.
- Малова Ю. А. Оценка возможностей использования иммерсивных 3D-технологий в образовании // Инновационные научные исследования. 2021. Т. 4, № 2–3. С. 23–33.
- Матинян С. Г., Альберт Е. С. Анализ ключевых проблем и угроз стремительного развития технологий искусственного интеллекта // Инновации и инвестиции. 2023. № 6. С. 128–131.
- Муравьева А. А., Олейникова О. Н. Иммерсивное обучение – технологии будущего или временное увлечение? // Казанский педагогический журнал. 2023. № 1. С. 120–129.
- Мустафаева Д. Ш. Использование ролевой игры в подготовке бакалавров педагогического образования // Ученые записки университета Лесгафта. 2015. Т. 124, № 6. С. 144–148.
- Пономарева Е. Ю. Искусственный интеллект: как новые технологии внедряются в сферу психического здоровья студентов высшего учебного заведения // Проблемы современного педагогического образования. 2022. № 7. С. 326–329.
- Проблемы когнитивной безопасности / под ред. И. Ф. Кефели. СПб.: Петрополис, 2023. 488 с.
- Пфаненштиль И. А., Яценко М. П. Асфатроника как новый конструктивный подход к системе глобальной безопасности // Век глобализации. 2021. № 1. С. 103–115.
- Рыжик Н. Ролевая игра как метод активного обучения // Кадровик. 2013. № 2. С. 110–116.
- Саргсян А. С. Принципы и особенности развития эвтагогики как области педагогической науки // Человек и образование. 2014. Т. 40, № 3. С. 111–116.
- Смирнова Е. О., Рябкова И. А. Психология и педагогика игры: учеб.-практикум для вузов. М.: Юрайт, 2024. 233 с.
- Соснило А. И., Резванов Н. Н. Применение иммерсивных технологий в образовательном процессе // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер.: Экономика и экологический менеджмент. 2021. № 4. С. 83–91.
- Усенков Д. Ю. Виртуальная реальность // Компьютерные инструменты в образовании. 2006. № 5. С. 76–84.
- Чирков Ю. Г. Время химер. Большие генные игры. М.: Академкнига, 2002. 397 с.
- Хант М. История психологии. М.: АСТ, 2009. 863 с.