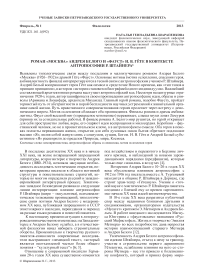Роман «Москва» Андрея Белого и «Фауст» И. В. Гёте в контексте антропософии Р. Штайнера
Автор: Шарапенкова Наталья Геннадьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (130), 2013 года.
Бесплатный доступ
Выявлены типологические связи между последним и малоизученным романом Андрея Белого «Москва» (1926-1932) и драмой Гёте «Фауст». Основные мотивы (мотив ослепления, спасения героя, амбивалентность финала) интерпретируются в тесной связи с антропософским учением Р. Штайнера. Андрей Белый воспринимает героя Гёте как символ и средоточие Нового времени, как «тип типов и принцип принципов», в котором « история становится биографией одного индивидуума». Важнейшей составляющей архитектоники романа выступает антропософский код. Несмотря на цензурные ограничения 1920-х годов, автор зашифровал в своем произведении антропософские идеи, образы и символы (Аримана и Люцифера, архангела Михаила). Главный герой романа, подобно Фаусту, пройдет тернистый путь от абстрактности и порой бесплодности научных устремлений к живительной органике самой жизни. Путь нравственного совершенствования героев пролегает через встречу с демоническим миром. Мотив ослепления сближает оба произведения. Финалы романа и драмы амбивалентны. Фауст свой высший миг (« прекрасное мгновение») переживает, слыша звуки лопат Лемуров (приняв их за созидательные работы). В финале романа А. Белого мир рушится, но герой открывает для себя пространство любви, веры, его озаряют идеи всепрощения и милосердия. Коробкин - фаустианский человек, но не в просветительском ключе, а в антропософском смысле. Оба героя в поисках полноты переживания жизни, открытия для себя духовных основ бытия обретают подлинное высшее «Я», являя собой живую связь с социумом, сущим, Богом. И. В. Гёте и Андрей Белый субъективное «Я» расширили до пределов Природы, мира, Космоса.
Компаративистика, антропософские образы и символика, мотив ослепления героя
Короткий адрес: https://sciup.org/14750356
IDR: 14750356 | УДК: 821.161.1(092)
Текст научной статьи Роман «Москва» Андрея Белого и «Фауст» И. В. Гёте в контексте антропософии Р. Штайнера
В последнее десятилетие ХХ века и в начале XXI века, на волне возвращенной запрещенной литературы, возрос интерес к творчеству Андрея Белого (1880–1934), возникла насущная необходимость исследовать эстетические открытия, новаторские приемы писателя в области мотивной структуры и повествовательных стратегий, которые во многом определили русский и западноевропейский литературный процесс. Тематически западное беловедение развивало следующие линии интерпретации: влияние антропософии Р. Штайнера (шире – оккультизма), психоаналитическое толкование произведений, типологические связи поэтики Андрея Белого с модернизмом ХХ века, публикация запрещенного в СССР эпистолярного наследия, переиздания и перевод на разные языки романов и повестей писателя.
К настоящему времени ситуация в литературоведении качественно изменилась: на Западе интерес к Андрею Белому ослабел, а в отечественной филологии начал набирать стремительные обороты. Применительно к творчеству русского писателя-символиста современные исследователи выстраивают «немецкий текст», «который является неотъемлемой частью более общего понятия – “культурный текст”» [6; 3].
Отношение к современной писателю Германии 20-х годов ХХ века существенно изменится
под воздействием и пережитого в Берлине личного кризиса, и наблюдений за новыми зарождающимися порядками (предфашизм), которые только еще «носились в воздухе» [4].
Воззрения Андрея Белого 10–20-х годов ХХ века обусловлены влиянием антропософии: с 1912 по 1916 год писатель вместе с А. Тургеневой находится в общине Р. Штайнера в Дорнахе, где строит храм-театр «Гётеанум». Учение о «точной науке о мистическом» Р. Штайнера писатель соединил с близкой ему со времен «аргонавтиз-ма» начала ХХ века идеей жизнетворчества.
В 10-е годы ХХ века разразится публичный спор между недавними близкими друзьями и сподвижниками, организаторами издательства «Мусагет» критиком Э. Метнером и Андреем Белым. В работе шведского исследователя Магнуса Юнггрена с «фаустовским» названием «Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера» во всех подробностях дана непростая история взаимоотношений старшего Метнера и Андрея Белого [12].
Увлеченность Андрея Белого антропософскими идеями Штайнера, отъезд к нему за границу, участие в строительстве первого деревянного Гётеанума, ослабление влияния на него со стороны Метнера – все это привело к болезненному конфликту, который и принял форму миро- воззренческого поединка, где главной фигурой выступил Гёте. За личной драмой скрывалось большее, нежели расхождение взглядов бывших символистов-соратников. Спор-разрыв знаменует собой кризис и символизма, и его представителей. Антропософия здесь в лице ее неофита А. Белого противостоит последователю аналитической психологии Э. Метнеру.
Андрей Белый, к 1914–1916 годам последовательный приверженец «тайной науки», прочитав «Размышления о Гёте» Э. К. Метнера, увидел в них ужасную, искаженную правду о Штайнере и его толкованиях сочинений немецкого классика. Вернувшись в Россию в 1916 году, Андрей Белый участвует в создании русского объединения антропософов. О задачах московской «Ломоносовской» антропософской группы писатель вспоминал впоследствии: «С 17 до 21 года перед русскими антропософами стояли задачи, не снившиеся антропософам Запада: вопросы о связи культуры России в ее становлении с культурой антропософии в ее становлении. Никаких ставших форм, лишь одно становление было нам непосредственно дано; и поставлена задача: становление не утопить в хаосе» [5; 475].
Важнейшей составляющей архитектоники романа «Москва» выступает антропософский код. Посвящение («Посвящаю памяти архангельского крестьянина Михаила Ломоносова» [3; 18]) и эпиграф романа («Открылась бездна – звезд полна» М. Ломоносов [3; 19]) являются символами-шифрами для всего дальнейшего повествования. Автору удалось «зашифровать» в своем произведении многие антропософские идеи, мотивы, образы, символы. Вместе с тем писатель сознательно (по цензурным соображениям) вводит в свой последний роман авантюрную (детективную) фабулу, построенную на узнаваемых мотивах (погоня, слежка, мировой заговор).
Жанр авантюрного романа приобрел особую популярность в 20-е годы ХХ века. Как отмечает М. А. Черняк, «через увлечение этим жанром прошли многие известные писатели – М. Булгаков, А. Толстой, В. Катаев, И. Эренбург…» [10; 85]. Творчество Андрея Белого в это время встроено в общий контекст происходящих изменений – как в обществе, так и в литературном процессе, который отмечен полемичностью послереволюционного времени.
Придав фабуле авантюрную жилку, автор «Москвы» тем не менее сумел вплести в нее сложные антропософские образы и символы. В дарственной надписи на первой части романа «Московский чудак» литератору-антропософу П. Н. Зайцеву введен «ломоносовский» код: «Дорогому Петру Никаноровичу Зайцеву с любовью и –
– с чувством связи во имя Ломоносова. Андрей Белый (Борис Бугаев)» [8; 448–449].
Графически выделенное знаками тире «во имя Ломоносова» – указание на то, что роман рассчитан как на широкого читателя, так и обращен к немногим, «посвященным». М. Ломоносов почитался патроном московской антропософской группы. Имя Михаил и указание на место рождение (архангельский), зафиксированное в посвящении к роману, связывались в сознании писателя-антропософа с архангелом Михаилом, важнейшим символом в антропософском учении.
В 1924 году Андрей Белый пишет письмо Иванову-Разумнику из Коктебеля: «…вероятно, придется писать повесть; в плане будущего же стоит реалистическая драма: “Анна Павловна” , а где-то вдали рисуется трагедия “Доктор Доннер”» [1; 296] . Впоследствии оба персонажа, вынесенные в заголовки задуманных драм, займут свое место в романе «Москва». Примечательно, что в 1924 году (в период обдумывания замысла) А. Белый разводит «реалистическую драму» и трагедию со скрытым антропософским подтекстом. Упоминание в названии будущей трагедии знакового обращения «доктор» и калька с немецкого «Donner» (гром) вызывали у адресата и «посвященных» ассоциативную связь будущего замысла с образом основоположника антропософии Р. Штайнера.
В 1921 году в Берлине произошел разрыв писателя с Р. Штайнером, который сыграл крайне важную роль в становлении Андрея Белого – писателя и мыслителя [9]. Между тем в 1925 году, в период создания первого тома романа «Москва», писатель приступает к работе над «Воспоминаниями о Р. Штайнере», в которых зафиксировал апологетический образ доктора.
Связующим началом антропософских построений и символических интуиций Андрея Белого выступает символ «человек» . Так, в исповедальной книге 1928 года писатель вспоминал: «Из бочки, над бочкою увидел я мое “я” – высоко над собой; оттого я взял фонарь и несколько лет говорил о человеке, как Челе Века . Знак этого Чела на мгновения вспыхивал и над моим челом в Дорнахе, когда это чело венчали терньи» [5; 465–466]. Через античный миф о Диогене, который с факелом в руках искал человека, Андрей Белый вновь обращается к своему емкому символическому образу: высший человек есть « Чело Века ».
В романе «Москва» трансформированы многие мотивы, идеи «Фауста» И. В . Гёте, прочитанного в духе тайноведения Рудольфа Штайнера со свойственными русскому писателю собственными духовными интуициями [11]. Андрея Белого волнует в романе сама постановка проблемы, близкая немецкому классику, – амбивалентности добра и зла, сопричастности, скорее открытости человека демоническому при его восхождении к высшему «Я». И ориентир для Белого в этих поисках – Гёте, создавший «лучшую мистерию-драму» [2; 164].
Русский писатель читал все статьи и работы Р. Штайнера, посвященные Гёте, его мировоззрению и разбору «Фауста» с точки зрения антропософского учения: «Очерк теории познания Гётевского мировоззрения, составленный принимая во внимание Шиллера», «“Фауст” Гёте как образ его эзотерического мировоззрения» (1902). Все эти штудии, предпринятые Андреем Белым в 1914–1917 годах, не могли не повлиять на мотивную структуру и образную систему романа «Москва».
Правомерно ли сопоставление доктора Фауста, ученого-чернокнижника, и доктора Короб-кина, создателя смертоносного луча? Немецкий доктор-алхимик и русский доктор-математик в начале драмы и романа находятся в поисках живительной истины и высшего «Я». Оба доктора в начале повествования переживают мировоззренческий и личностный кризис. В художественном пространстве романа и драмы мировоззренческий кризис, переживаемый и Фаустом, и Короб-киным, обернется преодолением символической границы. Итог накопления книжного знания одинаков для обоих героев: «Da steh' ich nun, ich armer Tor!» [13; 157], «был и остался дураком» [3; 21], стал «мавзолеем собственной жизни» [3; 21]. Фауст покидает пределы своей готической кельи, чтобы постигнуть «Вселенной внутреннюю связь» [6; 22] («Da fi ich erkenne, was die Welt/im In-nersten zusammenhält»), а Коробкин – своего кабинета, «тяп-ляпистого» [3; 19] мира. Фауст вспоминает изречение мудреца, где акцентирован мотив слепоты: «Мир духов рядом, / дверь не на запоре, / Но сам ты слеп, / и все в тебе мертво» [6; 23].
Фауст, в интерпретациях Р. Штайнера, при созерцании магических очертаний размышляет: «Как стать “средоточием всех этих элементов” Вселенной, как человеку сознательно сделаться человеком?» [11; 128]. Метафизический вопрос в формулировке Р. Штайнера объединяет духовные усилия доктора Фауста и профессора Коробкина не по обретению ими сверхчеловеческой интеллектуальной мощи (она дана героям «в анамнезе»), а в попытке взращивания своего истинного «Я», то есть «вочеловечивания», «пресуществления».
Фауст до встречи с Мефистофелем и Ко-робкин во время работы над своим открытием находятся во власти Люцифера (духа гордыни), одержимы Вагнером («абстрактным мышлением»). Р. Штайнер различает две инфернальные силы, которые могут овладеть человеком. Антропософ дал этим силам имена Люцифера (отвлеченная мысль и отвлеченная мечта) и Аримана (власть собственных материально-чувственных устремлений).
Фауст и Коробкин пройдут тернистый путь от абстрактности и порой бесплодности науч- ных устремлений к живительной органике самой жизни. Носителями инфернального начала предстают в драме и романе Мефистофель и Э. Э. фон Мандро. Мефистофель звал Фауста «изведать после долгого поста, / что означает жизни полнота» [6; 57], злодей Мандро лишь уговаривал Коробкина продать свое открытие за миллион. И у Гёте, и у Белого путь нравственного окормления героя пролегает через пакт, смертельное пари, встречу с демоническим.
В романе «Москва» рассыпаны аллюзии, скрытые и явные намеки на «Фауста». Мефистофель присутствует в тексте не только как некий прообраз, литературный прототип «проходимца истории» фон Мандро, но и назван непосредственно и даже вынесен в заголовок. Правда, Мефистофель предстает здесь, словно в усеченном варианте, – Тойфель (нем. der Teufel, черт). Имя Тойфель ввергается автором в словесную звуковую игру – «Тойфель, Картойфель» [3; 742], хотя при этом нисколько не умаляется всемогущество этого демонического героя в судьбе самого фон Мандро (Тойфель-Картойфель спасает преступника от неминуемого разоблачения). Первый том «Москвы» заканчивается ослеплением Коробкина (Мандро выжигает ему глаз) и известием о смерти сошедшего с ума от содеянного преступника.
В толковании странного сближения двух героев-антагонистов – ученого Коробкина и демонического героя-искусителя Мандро – Андрей Белый оказывается близок предложенной Р. Штайнером интерпретации «Фауста». Фаусту «предстает другой “образ и подобие” его существа, Мефистофель», - подчеркивает ученый-антропософ. «Мефистофельское начало Фауст должен преодолеть посредством жизненного опыта, усвоенного душой, уже имевшей соприкосновение с духовным миром» [11; 134]. В «Москве» в образе немца Доннера, мистического наставника фон Мандро, прочитываются черты реального доктора Штайнера, хотя сам Доннер предстает в романе порождением сновидческих и визионерских состояний героя.
На языке антропософа (символиста) Андрея Белого история вознесения (спасения) Фауста видится как история падения «души самосознающей» через искушения ариманическим и лю-циферическим. Первое падение Фауста – в акте подписания договора с Мефистофелем (арима-ническим существом, по Р. Штайнеру и А. Белому), который потянет Фауста к «нижележащей сфере чувственности» [2; 166].
Соблазнительно-чувственное «изживается» Фаустом «в соблазнении Гретхен и в роскошествах Вальпургиевой ночи»; «в процессе дальнейшего схождения Фауста до мрака матерей, откуда он выводит Елену Прекрасную» [2; 166].
Путь этот сродни «нисхождению человечества», а сам Фауст есть, по мысли Андрея Бело- го, «тип типов и принцип принципов», в котором «история становится биографией одного индивидуума». Но в финале трагедия «оборачивается мистерией прославления Фауста, рожденного младенцем в небо, – Фауста, вырванного из когтей Аримана и быстро вырастающего под лучами Вечной Женственности, Софии-Премудрой» [2; 167–168].
К проблеме спасения Фауста Андрей Белый обращается в 1918 году в статье «Кризис культуры». Здесь герой Гёте предстает как символ и как мифологема Нового времени. Фауст в истолковании символиста воплощает собой «странника», а сама культура «истекших столетий (с XVI по XX) – странствие» [5; 268]. Автор рисует антропологический взрыв внутри Ренессанса: «В “синкретизме” пиров Ренессанса нет странствий еще: здесь на празднике созревает трагедия пресуществляемой личности; скоро и в ней обнаружится Человек (Фауст, бледный Гамлет и Манфред); скоро радости пира развеются; зала пира окажется колдовским погребком, нас встречающим в “Фаусте”.
Фауст – спасается» [5; 268].
Фауст в финале в форме духовного сгустка, энтелехии поднимается в божественную эмпирею, к трону Богоматери. Смерть тела героя оказывается только порогом, испытанием, началом новых метаморфоз.
Одним из важнейших мотивов в заключительной сцене «Фауста» является мотив ослепления. Фауст в своей старческой дряхлости произносит такие слова: «Die Nacht scheint tiefer tief hereinzudringen, Allein im Innern leuchtet helles Licht» («Вокруг меня сгустились ночи тени, / Но свет внутри меня ведь не погас»). Коробкин может быть уподоблен своему литературному прототипу – Фаусту Гёте. «Миг потрясения», ослепления оказался и для Коробкина пиком высокой душевной активности и внутреннего роста. То ли во сне, то ли в грезах после свершившейся Голго- фы (выжигания глаза) Коробкин пророчествует: «Слепцы – прозревают, а зрячие – слепнут» [3; 571]. Ослепший от боли Коробкин, подобно Фаусту, во втором томе романа «Маски» прозревает духовно и нравственно перерождается. Герою романа «Москва» надо стать полым, свободным от греховного «я», чтобы обрести высшее «Я».
Финалы романа и драмы амбивалентны. У Гёте Фауст, сопровождаемый «одной из кающихся, прежде называвшейся Гретхен», восходит к трону Богоматери. Но свой высший миг герой драмы переживает, слыша звуки лопат Лемуров (приняв их за созидательные работы).
В романе Андрея Белого мир рушится, катится в Тартар, раздается страшный взрыв. Герой открывает для себя пространство любви, веры, его озаряют идеи всепрощения и милосердия. Вместе с тем герой романа:
«не видит –
– как крыша взлетает под небо, как дым выбухает» [3; 754].
Андрей Белый дает историю становления «Я» героя в повести «Котик Летаев», в этом «прологе» к дилогии «Москва» (Л. Силард), в создаваемой им новой форме: «Давид Копперфильд» был взят через мотивы «Вильгельма Мейстера», а «этот последний пересажен в события жизни душевной» [1; 57]. Если речь идет о жанре воспитательного романа (каноном которого неизменно считают роман Гёте), то в неком ином смысле. Коробкин – фаустианский человек, но не в просветительском ключе, а в антропософском смысле. Близость мировоззрения Гёте и Белого видится в следующем: оба писателя субъективное «Я» расширили до пределов Природы, мира, Космоса. Символизм как целая система художественного и эстетического мировоззрения и антропософия как точная наука о Духе (тайноведение) были восприняты Андреем Белым в типологически схожем ключе - в жизнетворческом .
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
Список литературы Роман «Москва» Андрея Белого и «Фауст» И. В. Гёте в контексте антропософии Р. Штайнера
- Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. 1913-1932 гг. СПб.: Atheneum: Феникс, 1998. 736 с.
- Белый А. Душа самосознающая. М.: Канон+, 1999. 560 с.
- Белый А. Москва/Сост. С. И. Тиминой. М.: Сов. Россия, 1989. 768 с.
- Белый А. Одна из обителей царства теней. Л.: ГИЗ, 1924. 75 с.
- Белый А. Символизм как миропонимание/Сост., вступ. ст. и примеч. Л. А. Сугай. М.: Республика, 1994. 528 с.
- Гёте И.-В. Фауст//Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. лит., 1976. Т. 2. 507 с.
- Карпухина О. С. «Немецкий текст» в творчестве Андрея Белого: автореф. дис.. канд. филол. наук. Самара, 2004. 23 с.
- Москва и «Москва» Андрея Белого. М.: РГГУ, 1999. 512 с.
- Оболенска Д. Путь к посвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого. Гданьск: Гданьский университет, 2009. 274 с.
- Черняк М. А. Массовая литература ХХ в. М.: Флинта: Наука, 2009. 432 с.
- Штайнер Р. Тайны. Сказка. О Гёте. М.: Энигма, 1996. 249 с.
- Юнггрен М. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб.: Академический проект, 2001. 288 с. (Современная западная русистика).
- Goethe J. W. Faust. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1977. 507 s.