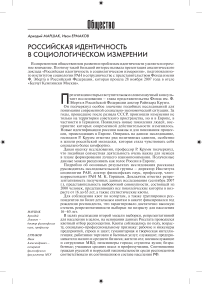Российская идентичность в социологическом измерении
Автор: Маршак Аркадий Львович, Ермаков Иван Александрович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Общество
Статья в выпуске: 1, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170164237
IDR: 170164237
Текст статьи Российская идентичность в социологическом измерении
роССиЙСкая идентичноСтьв СоциологичеСком измерении
В современном общественном развитии проблемам идентичности уделяется огромное внимание. Поэтому такой большой интерес вызвала презентация аналитического доклада «Р-оссийская идентичность в социологическом измерении», подготовленного институтом социологии Р-А-Н в сотрудничестве с представительством Фонда имени Ф. Эберта в Р-оссийской Федерации, которая прошла 28 ноября 2007 года в отеле «Б-алчуг Кемпински Москва».
п резентацию открыл вступительным словом научный консультант исследования – глава представительства Фонда им. Ф. Эберта в Р-оссийской Федерации доктор Р-айнхард Крумм.
Он подчеркнул особое значение подобных исследований для понимания современной социально-экономической ситуации. За годы, прошедшие после развала СССР-, произошли изменения не только на территории советского пространства, но и в Е-вропе, в частности в Германии. Появились новые поколения людей, восприятие которых современной действительности изменилось. Новые идентификации россиян важны и для понимания процессов, происходящих в Е-вропе. Опираясь на данное исследование, господин Р-. Крумм отметил ряд позитивных сдвигов, особенно в жизни российской молодежи, которая стала чувствовать себя социально более комфортно.
Давая оценку исследования, профессор Р-. Крумм подчеркнул, что подобная совместная деятельность очень важна для немцев в плане формирования лучшего взаимопонимания. Полученные данные можно расценивать как голос Р-оссии в Е-вропе.
Подробно об основных результатах исследования рассказал руководитель исследовательской группы – директор Института социологии Р-А-Н, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Р-А-Н М. К. Горшков. Докладчик отметил репрезентативность полученных данных исследования (сентябрь 2007 г.), представительность выборочной совокупности, состоящей из 2000 человек, представляющих все поколенческие когорты в возрасте от 16 до 65 лет, а также статистические квоты.
МАРшАК
Аркадий
Львович – доктор философских наук, профессор
ЕРМАКОВ
Иван
Александрович – аспирант философского факультета МГУ
Для соблюдения квот по когортам, а также группировки респондентов по более детальным квотам в анкете фиксировался год рождения респондента, что гарантировало достаточно высокую степень репрезентативности выборки по возрасту для населения 16–65 лет.
В целях реализации второй модели выборки, репрезентативной для населения в целом, на основании данных Р-осстата проводился квотный отбор респондентов. Квоты соблюдались по полу, возрасту, социально-профессиональному признаку: рабочие и инженеры предприятий, строек и шахт; гуманитарная и творческая интеллигенция; работники торговли и бытовых услуг; служащие; предприниматели малого и среднего бизнеса; жители сел; военнослужащие и сотрудники МВД; пенсионеры города; студенты вузов; безработные; учащиеся средних школ и профтехучилищ. Соотношение граждан русской и нерусской национальности среди респондентов соответствовало их соотношению в составе населения Р-Ф.
Для сбора первичной социологической информации во всех трех исследованиях применялся метод индивидуального стандартизированного интервью.
Настоящее исследование и аналитический доклад выполнены рабочей группой ИС Р-А-Н в составе: руководитель группы, член-корреспондент Р-А-Н М. К. Горшков (программа и инструментарий исследования, предисловие, заключение, общая редакция), А-. Л. А-ндреев (инструментарий, разделы 9–10), В. А-. А-никин (раздел 5), Л. Г. Б-ызов (раздел 6), Р-. Э. Б-араш (раздел 6), В. В. Петухов (инструментарий, разделы 7–8), Н. Е-. Тихонова инструментарий, разделы 1–5).
Научный консультант исследования – глава представительства Фонда им. Ф. Эберта в Р-Ф доктор Р-. Крумм.
Научный редактор – Н. И. Покида.
Компьютерное макетирование – Р-. Ю. Зенина.
Далее профессор М. К. Горшков обратил внимание на то, что результаты проведенного исследования позволяют констатировать: при всех имеющихся проблемах четверть населения Р-оссии в настоящий период уверена в том, что в целом их жизнь складывается хорошо, а еще 63% в основном удовлетворены тем, как складывается их жизнь. Здесь проявляется одна из особенностей российской ментальности, когда острота переживаемых материальных проблем сглаживается, смягчается благоприятной оценкой духовно-психологических аспектов повседневной жизни человека – отношениями в семье, успехами детей, общением с друзьями и т. п. В то же время нельзя не отметить, что удовлетворенность россиян своей жизнью за последние три года снизилась – в 2004 г. свыше трети респондентов (35%) считали, что их жизнь складывается хорошо. Это снижение достаточно равномерно затронуло все возрастные когорты, и если в когорте 26–35 лет, например, в середине 2004 г. были довольны своей жизнью 39%, а в когорте 56–65-летних – 24%, то осенью 2007 г. эти показатели опустились до 34 и 14% соответственно.
Как показывает сравнительный анализ, за последние три года никакого улучшения показателей, связанных с материальной стороной жизни, не наблюдается – показатели и по неудовлетворенности питанием, и по неудовлетворенности ситуацией с одеждой совпадают среди россиян 16–65 лет с точностью до процента, а в некоторых возрастных когортах неудовлетворенность этими сторонами жизни даже усилилась. Так, например, в когорте 56–65 лет оценивают свое питание как плохое уже не 14, а 16%, по одежде наиболее яркий рост неудовлетворенности демонстрирует группа 46–55 лет (на 4%). Одновременно произошло и сокращение доли тех, кто оценивает ситуацию в этой сфере как хорошую. По питанию общие показатели по выборке «сползли» вниз на 6%, по материальному положению в целом и одежде – на 4%.
Выросла за последние годы и неудовлетворенность жилищной ситуацией, что во многом связано с актуализацией этой проблематики в СМИ, а следовательно, и в сознании россиян, а главное – с растущим неравенством в этой сфере, неравенством, что называется, «бьющим в глаза». В итоге соотношение расценивающих свои жилищные условия как хорошие и плохие стало выглядеть уже не как 31:15 (2004 г.), а как 26:17, то есть вместо 2:1 – 1,5:1.
При этом резко ухудшилась картина в сфере возможностей полноценного отдыха – соотношение тех, кто оценивает свои возможности проведения досуга как хорошие и плохие, стало выглядеть как 21:24 вместо 28:22 в 2004 г., то есть доминирование удовлетворенности в этой области сменилось скорее неудовлетворенностью, причем по некоторым возрастным когортам ситуация оказалась особенно яркой – так, например, среди 16–25-летних, для которых возможность интересного проведения досуга особенно важна, доля удовлетворенных им сократилась с 46 до 31%.
Менее ярко эта динамика проявилась в оценке возможностей отдыха во время отпуска, где и ранее доминировала неудовлетворенность – 32:22 в 2004 г. и 33:18 в 2007 г., однако сокращение на 4% (до 18 с 22%) доли тех, кто оценил эти возможности как хорошие, также говорит в пользу пусть не очень ярко выраженной, но все же совершенно отчетливой общей тенденции роста недовольства россиян материальной составляющей жизни на фоне роста их доходов. Спад удовлетворенности этой стороной своей жизни характеризовал почти в равной степени россиян всех возрастов, достигая пиковых значений у полярных возрастных когорт. Так, соотношение оценивающих свои возможности отдохнуть в период отпуска как хорошие и плохие у молодежи до 25 лет стало 28:26 вместо 33:18 в 2004 г. Этот же показатель среди 56–65-летних стал выглядеть как 8:35 вместо 16:38 в 2004 г.
Прежде всего здесь сказывается тот факт, что несмотря на значительный рост среднедушевых доходов – свыше 50% за последние три года, с учетом накопленной инфляции, составившей за данный период (даже если ориентироваться на данные государственной статистики) около 40%, рост этот оказывается уже далеко не столь значителен и составляет лишь чуть более 10%. Надо сказать, что в расчете на несколько лет величина эта практически незаметна и неспособна компенсировать огромный дефицит текущих доходов, накопленных населением за 1990-е годы.
При этом, естественно, степень удовлетворенности населения своим материальным положением прямо коррелировала с размером получаемых доходов – среди тех, чьи среднедушевые ежемесячные доходы не превышали половины медианных, то есть составляли не более 2500 рублей, 43% считали свое материальное положение плохим. Среди тех, чьи доходы превышали две медианы, то есть составляли свыше 10 000 рублей, 31% респондентов считали свое положение хорошим и всего 7% – расценивали его как плохое. Доминирование положительных оценок начиналось в соответствии с классическими стратификационными канонами, начиная с дохода в 1,5 медианы – если среди тех, чьи доходы находились в диапазоне 5001–7500 рублей, свое материальное положение считали хорошим 8% опрошенных, а плохим – 18%, то в группе с доходами 7501–10 000 рублей хорошим свое материальное положение считали уже 18% респондентов, а плохим – всего 10%.
Материальное положение людей оказывает значительное влияние и на их социальное самочувствие. Последнее, однако, не сводится только к уровню благосостояния – это гораздо более широкое понятие, включающее и престиж профессии, и уровень образования, и многое другое.
По нематериальным аспектам жизни в целом для россиян также характерно отсутствие оптимизма, а доминирующей оценкой является «удовлетворительно». При этом своего рода лидерами в степени оптимистичности оценки являются такие показатели, как отношения в семье (особенно для групп до 45 лет), возможность общения с друзьями (особенно для 16–25-летних) и оценка места региона, в котором они живут. Впрочем, оценки своего места жительства очень резко различаются по регионам – если для Москвы соотношение оценивающих место своего жительства в соотношении «хорошее и плохое» выглядит как 60:0, то для А-рхангельской области это уже 23:31, то есть знак оценки здесь менялся на противоположный, а на Ставрополье – 17:18. По остальным регионам исследования доминируют положительные оценки, но их перевес над отрицательными очень незначительный. В этой связи стоит отметить также, что степень удовлетворенности своим местом жительства зависит и от размера населенного пункта, в котором проживают респонденты: чем он мельче, тем меньше доля тех, кто оценивает его хорошо.
Таким образом, сферы жизни, которыми россияне в настоящее время в наибольшей степени довольны, связаны с их микромиром – семьей и друзьями и в меньшей степени – местом жительства. Б-олее или менее удовлетворены россияне также состоянием своего здоровья (хотя после 45 лет негативные его оценки начинают перевешивать положительные). Осторожный оптимизм проявляется ими и по отношению к своей работе.
Ч-то же касается неудовлетворенности положением дел в той или иной сфере жизни, то обращает на себя внимание обеспокоенность россиян ситуацией в сфере личной безопасности – только применительно к возрастной когорте 16– 25-летних можно говорить об умеренном оптимизме в этой области. Начиная же с 36 лет, как, впрочем, и по массиву в целом, доминирует чувство неудовлетворенности наших сограждан уровнем их личной безопасности.
Несомненно, тревожным является и то, что как только наши сограждане выходят из студенческого возраста, у них начинает доминировать негативная оценка доступности необходимых для них образования и знаний. Фактически каждый четвертый работающий россиянин сегодня лишен к ним доступа и лишь
20% оценивают возможность получения необходимых им образования и знаний как хорошую. В условиях провозглашаемого руководством страны курса на превращение Р-оссии в экономически развитую державу с мощным высокотехнологичным сектором такая ситуация, притом характерная для всех возрастных когорт, может превратиться в будущем в большую проблему. Причем проблему тем большую, что неравенство в доступе к необходимому образованию и знаниям является четко выраженным социальным неравенством.
При всей важности многих обстоятельств реальной жизни, прямо влияющих на особенности видения россиянами мира в целом и себя в этом мире, не меньшее значение для последнего имеют и особенности их социально-психологического состояния, а также во многом вытекающее из объективных условий жизни и из общего социального самочувствия самоощущение своего места в обществе – социального статуса.
Е-сли говорить об общем социальнопсихологическом самочувствии, то его динамика достаточно противоречива. По одним показателям, прежде всего чувству стыда за нынешнее состояние страны заметно некоторое улучшение, в том числе по отношению к 2004 г., а по отношению ко второй половине 1990-х годов улучшение показателей практически двукратное. Та же тенденция характерна и для чувства, что дальше так жить нельзя. По отношению же к другим самоощущениям, прежде всего ощущению надежной поддержки со стороны близких и коллег в последние годы наблюдается скорее ухудшение, хотя нельзя не отметить, что в 1990-е годы картина была намного более плачевной.
Тем не менее и сегодня свыше трети россиян 16–65 лет устойчиво испытывают чувства несправедливости происходящего вокруг (а по всем россиянам, включая тех из них, кто старше 65 лет, этот показатель доходит до 40%), беспомощности повлиять на происходящее, стыд за состояние своей страны и т. п. При этом никогда не испытывают этих чувств лишь от 8 до 18%.
Нельзя не обратить внимания и на другую тенденцию – увеличение числа тех, кто испытывает негативные чувства по отношению к окружающему их миру не постоянно, а иногда, время от времени (доля россиян, никогда не испытывавших таких чувств, практически не меняется).
Значительное внимание в исследовании было уделено особенностям самоидентификации россиян.
А-нализ самоидентификаций россиян дает основание отметить тот факт, что каждый россиянин внутренне включен в систему очень сложных социальных ролей и связей, важность которых для разных людей далеко не одинакова. Для большинства из них сейчас не важны макротерриториальные общности. Зато очень важны макрообщности, отражающие духовную близость людей во всем ее многообразии. Заметим в этой связи, что национально-этнический фактор оказывается в системе «мы-идентификаций» гораздо важнее, чем гражданский. Не случайно с россиянами устойчиво отождествляет себя в полтора раза меньшее число респондентов, чем с людьми той же национальности.
Специальный раздел доклада посвящен вопросам взаимоотношений россиян с государством и властными структурами.
Деление «по мировоззрению», роль которого непрерывно возрастает (вспомним значительный рост значимости «мы-идентификаций» с людьми тех же взглядов на жизнь!), присутствует во всех возрастных когортах. Добавим – сторонники этих диаметрально противоположных типов мировоззрения есть и в разных группах, выделяемых по их материальному положению, месту жительства и т. п. Специальная статистическая проверка показала, что наличие модернистских или традиционалистских воззрений коррелирует не столько с этими объективными характеристиками (наиболее значимыми из которых оказались активность использования Интернета, образование родителей и социально-профессиональный статус респондентов), сколько с другими аспектами взглядов россиян, не учитывавшихся при расчете соответствующего индекса. И в этом плане можно говорить скорее о наличии среди наших сограждан приверженцев разных моделей развития общества, представленных в самых разных социальных группах, чем о том, что определенные социальные слои имеют жестко различающиеся между собой картины того общества, в котором они хотели бы жить.
Главным, «ядерным» их различием применительно к ситуации в обществе в целом выступает разница в отношении к идее всевластия государства и свободе личности. Из этого краеугольного различия вытекают и остальные особенности двух полярных картин видения того общества, в котором наши сограждане хотели бы жить, четко выраженные в их мировоззрении.
В краеугольном вопросе о взаимоотношениях человека и государства специфика представлений модернистов заключается в том, что они отчетливо тяготеют к правовому государству, в котором власть последнего ограничена, а свобода личности гарантирована, в то время как традиционалисты занимают прямо обратную позицию. Для них оптимальна этакрати-ческая модель развития.
Из этой общей посылки органично вытекает и разное отношение представителей различных мировоззренческих групп к ряду практических следствий принятия этакратической модели как нормы, которое проявляется, например, при ответах на вопросы о праве государства ограничивать свободу прессы и оказывать прямое давление на суд. Причем в последнем случае промежуточная группа стоит скорее на позициях модернистов, чем традиционалистов, в отличие от вопроса о свободе прессы, где 63% всех опрошенных россиян от 16 до 65 лет допускают необходимость ограничения свободы прессы, если она нарушает интересы государства.
Ч-то касается вопроса о национализации предприятий, наносящих вред интересам государства, то близость его восприятия в группах с разным типом мировоззрения свидетельствует: для всех россиян, независимо от их мировоззрения, социальная функция государства, понимаемая в широком смысле слова, как необходимость выражать интересы общества в целом, важнее функции обеспечения государством условий для эффективной экономической деятельности. Отсюда вытекает и особая роль активной социальной политики в деятельности государства, воспринимаемой россиянами как важное основание легитимности всего российского государства в целом.
Е-стественно, что при всевластии государства не так важны законы, которые государство само принимает и само же решает, в какой степени их надо соблюдать. Гораздо важнее личностный фактор, что и отражается в оценке разными группами того, что важнее – хорошие законы (базовая для современного правового государства позиция) или хорошие руководители, что выступает основой успеха в традиционной для Р-оссии модели развития. Оборотной стороной такого понимания роли права и роли личности выступает пресловутый правовой нигилизм россиян, проявляющийся в самых разных формах. Это и убеждение, что законы надо соблюдать, только если это делают сами представители власти (разделяемое 53% респондентов во всех выделенных мировоззренческих группах, при том, что лишь от 18% традиционалистов до 24% модернистов считают, что закон нужно соблюдать всегда), и уверенность, что руководителям нужно подчиняться только в том случае, если ты в целом согласен с их требованиями (характерная для 62–71% в разных группах). Подобные взгляды, вполне приемлемые в доиндуст-риальную эпоху, являются, конечно, абсолютным нонсенсом для современного общества с высокотехнологичным производством (от ядерной энергетики до опасных химических производств). И остается только радоваться, что при таком правовом нигилизме количество (и масштаб) техногенных катастроф в Р-оссии остаются относительно невелики.
Последнее, на чем основывался докладчик, – внешнеполитические аспекты российской идентичности.
Как неоднократно отмечалось, центральное место в российском политическом дискурсе занимает образ Запада. Причем не только по вполне понятным прагматическим мотивам: исторически Запад выступает для Р-оссии в роли «значимого другого», с которым так или иначе связана вся система смыслов, задающих характерные для российской ментальности картины мира. Здесь всегда обнаруживается некий иррациональный остаток, проявляющийся то в предельной открытости, то в замкнутости и изоляционизме, то в доходящей до самоотречения уступчивости, то в нежелании учитывать даже «разумные» (с точки зрения партнера) аргументы.
Как показывают данные социологического мониторинга массового сознания, проведенного Институтом на протяже- нии всей второй половины 90-х годов, в российском обществе шел процесс смены подходов, ценностей и ориентиров. В ходе этого процесса менялся как образ самой Р-оссии, так и эмоциональная тональность восприятия других стран и народов. Отношение практически ко всем странам, составляющим «активный» международный горизонт Р-оссийской Федерации, претерпело заметное охлаждение. Но особенно резко и быстро изменились отношения россиян к Западу. Е-сли первая половина 90-х годов была временем увлечения перспективами вхождения в «сообщество цивилизованных государств», сопровождавшееся попытками массированного переноса зарубежного опыта на отечественную почву, то в середине десятилетия в российском обществе формируется своего рода неоконсервативная волна, лейтмотивом которой становится отход от западнических увлечений периода становления демократии. В середине 90-х годов в массовом сознании постепенно утверждается мнение, что западный путь развития, при всех своих привлекательных сторонах, для Р-оссии не подходит. Культурно-историческая самобытность Р-оссии интерпретировалась в этом контексте уже не как «проклятие», а как непреходящая базовая ценность. Соответственно этой новой парадигме переосмыслялось и отношение между «мы» и «они» в его международном преломлении, в том числе и применительно к внешнеполитическим задачам государства.
Первоначально эти сдвиги в общественном сознании имели характер внутреннего самоутверждения и не несли в себе антизападной направленности. Уровень симпатий к США- и ведущим государствам Западной Е-вропы вплоть до конца 90-х годов оставался высоким, превышая уровень антипатий не менее чем в 7–9 раз (по разным странам данная пропорция несколько варьировалась). Однако неуклонно осуществляемое вопреки опасениям и протестам Кремля расширение НА-ТО на восток, бомбардировки Сербии, появление американских военных баз в государствах Центральной А-зии и планы развертывания элементов американской ПР-О в Восточной Е-вропе, настойчивые попытки выстраивать систему глобальных коммуникаций в обход Р-оссии, явственно выраженная склонность к поощ- рению антироссийского политического вектора в СНГ и Б-алтии убеждали россиян в том, что западный мир в целом занимает далеко недружественную по отношению к Р-оссии позицию. В результате образ Запада в сознании большинства российских граждан получил прочную смысловую связку с факторами угрозы.
Данные социологических опросов указывают на то, что такие умонастроения очень широко распространены в российском обществе и сегодня. Вместе с тем картина, которую мы получили в результате проведенного исследования, оказалась отнюдь не черно-белой. Она выявила разновекторность массового сознания, наличие в нем противоположно направленных тенденций. Отметим, в частности, что тестирование наших респондентов на эмоциональную окрашенность различных понятий выявило некоторое улучшение отношения к Западу по сравнению с концом 90-х годов. Так, в 2000 г. это слово вызывало негативные ассоциации у 53–54% россиян, а положительные – у 46–47%. В настоящее время это соотношение выравнялось и стало практически паритетным. Е-ще более показательно распределение мнений по поводу того, как складываются в последнее время отношения Р-оссии с Западом. Несмотря на явно нарастающее взаимное недовольство, вылившееся в настоящую медиаканонаду взаимной критики, около 35% наших сограждан убеждены в том, что эти отношения в последнее время улучшились, тогда как противоположного мнения придерживаются в два раза меньшее число опрошенных – чуть более 16% (наряду с этим приблизительно каждый четвертый ответил, что отношения остались такими, какими и были).
Подвижный баланс прозападных и антизападных настроений в российском обществе, несомненно, надо рассматривать как фактор, влияющий на складывающийся в массовом сознании образ Е-вропы. Этот образ в целом привлекателен и окрашен в отчетливо позитивные тона. Е-вропа для россиян – это нечто более близкое, чем А-мерика или, допустим, А-зия. В ходе настоящего и предшествующих исследований выяснилось, что индикатор положительных реакций на слово «Е-вропа» весьма высок. В 2007 г. он зафиксирован на уровне 72%. Выше по рейтингу идет только Р-оссия (около 96%). А- вот «А-зия» и «А-мерика» в этом плане существенно проигрывают восприятию слова «Е-вропа» (соответственно 20 и 30%).
Интересно отметить, что между числовыми значениями индикаторов, отражающих эмоциональное восприятие понятий «Е-вропа» и «Е-вропейский союз (Е-С)», существует разительный перепад, который устойчиво держится на уровне около 20%. Летом 2002 г. положительные ассоциации с первым из этих понятий зафиксированы у 79%, а со вторым – только у 59% респондентов, в 2007 г. – соответственно у 72 и 53%. Объяснить этот факт, который, на первый взгляд, может показаться логической аномалией, можно только тем, что Е-вропа как особое культурно-историческое образование ближе и понятнее россиянам, чем Е-вропа – Е-С, выступающая в виде институционального субъекта международной политики.
Сопоставляя мнения наших респондентов по разным вопросам, касающимся положения Р-оссии в мире, мы в свое время сделали вывод о том, что Е-вропа выступает в политическом мышлении наших сограждан как бы в двух ипостасях – «западной» и «собственно европейской». Из чего, в частности, следовало, что недоверие к ней как Западу может уравновешиваться тяготением к ней именно как к Е-вропе1.
Р-оссийское пространство, если рассматривать его с точки зрения перспективы культурной интеграции с Е-вропой, неоднородно. Вполне понятно, что менее всего ее влияние ощущается в деревне и рабочем поселке. Жители поселений такого типа уступают в этом отношении не только крупному, но и малому городу буквально по всем позициям, причем по некоторым из них в несколько раз. Например, выставки и концерты европейских артистов они посещают в 4–8 раз реже, чем жители районных центров, о москвичах же и петербуржцах даже говорить не приходится: в этом случае разрыв становится 15–20 даже 25-кратным.
Таким образом, города выступают в качестве своеобразных «конденсаторов» зарубежного социокультурного опыта.
Р-азличия в этом плане между городами также существуют, но надо заметить, что самые крупные из них не являются безусловными лидерами межкультурной коммуникации. Так, ни областные центры, ни даже районные центры практически не уступают Москве и Санкт-Петербургу по степени «телевизионного» знакомства с европейскими странами. Их жители с той же или почти с той же частотой смотрят европейские фильмы и слушают радиопередачи, рассказывающие о жизни и культуре европейских стран. Не слишком сильно различается и уровень знакомства со специализированными изданиями. А-вот европейскую беллетристику в областных и что особенно удивительно – в районных городах знают даже лучше, чем в мегаполисах.
Описанные тенденции, безусловно, в чем-то субъективны. Тем не менее из этого не следует, что россияне воспринимают себя и свою страну в розовом свете. Об этом говорят, в частности, весьма критические оценки Р-оссии по таким параметрам, как, например, «демократия», «свобода», «угроза», «скука», «моральный упадок», которые по сравнению с данными пятилетней давности улучшились очень незначительно или совсем не улучшились. Впрочем, россияне вряд ли рассматривают «демократию» как предмет первой необходимости. Психологически им сейчас гораздо важнее утвердиться в ощущениях выхода страны из затяжного кризиса, а это ощущение, судя по тому, как меняется образ Р-оссии в сознании ее граждан, у них сейчас появилось. Поэтому сопоставляя свою страну с Западной Е-вропой и сознавая многочисленные и важные преимущества последней, россияне сегодня не чувствуют себя подавленными или тем более «потерпевшими поражение». Как говорил когда-то канцлер А-. Горчаков, «Р-оссия сосредотачивается». Именно так, судя по всему, воспринимается складывающаяся на сегодня ситуация в массовом сознании.
В массе своей наши сограждане являются сторонниками повышения роли своей страны в мире. Согласно полученным в ходе проведенного исследования данным лишь около 7% населения считают, что ей не следует стремиться ни к каким глобальным целям (правда, в мегаполисах эта цифра повышается до 14%).
Но в отношении высоты той «планки», которую при этом надо преодолеть, респонденты разошлись во мнениях. Ч-уть более трети (если быть более точным, то 34,6%) полагают, что общей целью должно быть возвращение статуса сверхдержавы. Такая точка зрения особенно популярна у людей, чья молодость и большая часть сознательной жизни пришлись на послевоенный период СССР-. Однако более распространенным оказался иной подход: Р-оссии достаточно будет войти в число 10–15 ведущих государств мира. В пользу такой постановки вопроса высказалось примерно 45%, а в группе молодежи до 16–25 лет – свыше половины опрошенных.
Сравнительно сдержанные оценки степени влияния Р-оссии на мировые дела, несомненно, связаны с тем, что россияне не слишком уверены в весомости некоторых важных составляющих этого влияния. В частности, отвечая на вопрос, в каких сферах Р-оссия могла бы усилить свои позиции в экономике Е-вропы в ближайшие 10 лет, подавляющее большинство опрошенных (почти 60%) безоговорочно выдвинули на первый план добычу и экспорт природных ресурсов. Остальные сферы промышленного производства и сельского хозяйства идут уже за добычей и экспортом природных ресурсов, причем с большим отрывом. Правда, за последние пять лет несколько увеличилась доля тех, кто склонен связывать усиление позиций Р-оссии и с некоторыми областями промышленного производства. В частности – с производством вооружений. Но рост этих цифр незначителен – всего 3–4%. Несколько больше возможностей наши респонденты видят в сфере науки и высоких технологий, но и здесь число оптимистов увеличилось только на 6%. Специально отметим, что россияне довольно низкого мнения о возможностях своей страны в сфере образования и культуры – и это при том, что едва ли не главной отличительной особенностью Р-оссии по сравнению с Западом считается особо высокий потенциал духовности. В то же время число пессимистов, считающих, что у Р-оссии вообще нет возможностей и шансов для усиления своих позиций по отношению к Е-вропе, очень невелико. Оно лишь слегка превысило 4% от общего объема выборки. Эти умонастроения особенно распростране- ны среди пожилых людей и, как это ни странно, среди жителей мегаполисов – в указанных категориях данная цифра увеличивается примерно вдвое.
Р-езультаты нынешнего и ранее проведенных социологических исследований позволяют говорить об определенной склонности (но не о безусловном стремлении) россиян к сближению Р-оссии и Е-вропы. Психология и культура российского общества, а также конкретная социальная ситуация накладывают на этот процесс целый ряд условий ограничительного характера. В отличие от какой-либо другой внешнеполитической ориентации он не вносит в российское общество нежелательной психологической напряженности и не провоцирует в нем значительных духовных расколов и разрывов, помимо тех, которые неизбежно возникают естественным путем (таково, к примеру, извечное различие во вкусах и ориентациях между поколениями). Образно выражаясь, осуществление разумной стратегии сближения с Е-вропой не потребовало бы от россиян «переступить через самих себя». И это само по себе уже достаточно важно. В конечном счете «европейский путь» без особого внутреннего сопротивления может быть с теми или иными оговорками принят всеми основными социально-демографическими группами и социальными слоями. При том, конечно, условии, что движение по данному пути не принесет россиянам очевидных и болезненных разочарований, что зависит уже не только от Р-оссии, но и от партнеров нашей страны.
Главным выводом, вытекающим из данных исследования, является то, что изменения в самоощущениях своего места в обстановке за последние десять лет поистине колоссальны.
Это в полной мере относится ко всем сторонам жизни россиян, что отметили и другие выступающие. Так, профессор Н. Е-. Тихонова остановилась на особенностях традиционалистского мировоззрения россиян и его соотношении с модернистскими взглядами в обществе. В частности, она подтвердила эти тенденции анализом российского интернет-сообщества.
Выступивший другой автор исследования В. В. Петухов отметил сущность выявленных процессов деидеологизации и деморализации массового сознания, на основе которых и происходит отсутствие консенсуса в обществе.
Вопросам новых условий для развития отношений между Р-оссией и Западом посвятил свое выступление А-. Л. А-ндреев. По сравнению с 90-ми годами прошлого века негативизм россиян по отношению к Е-вропе усиливается. Однако в сознании населения стран Западной Е-вропы Р-оссия уже не ассоциируется как страна «кризиса». Последнее понятие хотя и остается в ассоциативном ряду, но уже не выходит на первый план, где прочное место занимают «патриотизм», «духовный мир», «культура», «взаимопомощь». У россиян Е-вропа остается приоритетным ориентиром, но отделенным от западного мира, как его понимают глобалисты.
Эти, как и другие политические тенденции процесса идентификации россиян, отметил еще один участник презентации – профессор М. Ю. Урнов. Глубина и фундаментальность выводов данного исследования особенно интересны, если их сопоставить с результатами других исследований. Такой подход позволяет выявить реальные ценности россиян и способствует более глубокому осмыслению серьезных проблем массового сознания.
В заключение были даны ответы на вопросы корреспондентов газеты «Правда», «Независимой газеты», «Новой газеты». Они касались различных сторон повседневной жизни россиян, в том числе пенсионной реформы, общественной роли компьютеризации и места науки и ученых в процессах идентификации. Интересные замечания по некоторым позициям социологов высказала профессор Л. М. Дробижева, которая полагает, что приведенные в докладе данные завышенно политизированы.
По заданным вопросам и замечаниям были даны исчерпывающие ответы и пояснения.
Презентация аналитического доклада «Р-оссийская идентичность в социологическом измерении» показала, что современная российская социология решает актуальнейшие задачи развития общества. Многие проблемы, поднятые в докладе, свидетельствуют о том, что Р-оссия уверенно движется по намеченному пути и успех этого движения зависит не только от нашего государства, но и от партнеров нашей страны.