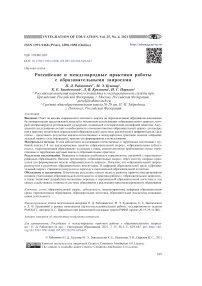Российские и международные практики работы с образовательными запросами
Автор: Рабинович Павел Давидович, Кушнир Михаил Эдуардович, Заведенский Кирилл Евгеньевич, Кремнева Лидия Владимировна, Царьков Игорь Сергеевич
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Международный опыт интеграции образования
Статья в выпуске: 4 (105), 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Ответ на вызовы современного массового запроса на персонализацию образования невозможен без конкретизации представлений, моделей и механизмов использования «образовательного запроса», который детерминируется региональной, культурной, социальной и исторической спецификой общества. Актуальность исследования состоит в необходимости уточнения понятия «образовательный запрос» для внедрения в практику механизмов персональной образовательной логистики, реализуемой в цифровой среде. Цель статьи - представить результаты анализа отечественных и международных трактовок понятия «образовательный запрос» (или эквивалент), практик его формирования и использования. Материалы и методы. В ходе кабинетного исследования отечественных и зарубежных источников с глубиной поиска 5-8 лет анализировались понятия «образовательный запрос», «образовательная субъектность», «персонализация образования» и сходные с ними, соответствующие проблематике статьи отечественные и зарубежные научные школы и образовательные практики. Результаты исследования. Выявлены и описаны особенности терминологии, связанной с персонализированным образованием. Введено предпонятие «образовательный запрос» через систему опорных принципов для формирования модели «образовательного запроса». Показано, что «образовательный запрос» реализуется в различных образовательных институциях. В цифровой образовательной среде «образовательный запрос» становится импульсом к переходу к персональной образовательной логистике. Обсуждение и заключение. Полученные результаты вносят вклад в развитие практик конструирования позиции участниками образовательной деятельности, в практики работы с «образовательным запросом», а также позволяют разработать механизмы перехода к персональной образовательной логистике и тем самым содействовать готовности системы образования к реализации персонализированного образования.
Образовательный запрос, субъектность, антропопрактика, цифровая образовательная среда, персонализация образования, образовательная логистика, образовательная экосистема, инновационная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/147236066
IDR: 147236066 | УДК: 378:001.895 | DOI: 10.15507/1991-9468.105.025.202104.629-645
Текст научной статьи Российские и международные практики работы с образовательными запросами
Настоящая статья продолжает исследования авторов в области модели цифровой трансформации образования и подходов к ней [1; 2], в соответствии с которыми цифровая трансформация представляется как комплексное переосмысление образовательной деятельности на основе уникальных возможностей цифровых технологий. Главными акторами трансформации становятся субъекты образовательной деятельности (ученик, учитель, родитель и др.), осуществляющие переосмысление и преобразование деятельности, отношений и коммуникации по поводу этой деятельности, ее ценностей и норм, продуктивно использующие нужные институты и ресурсы, а при необходимости способные создавать новые (например, user generated content).
Понятие «образование» авторы рассматривают в качестве процесса построения субъектом образовательной деятельности собственной картины мира как совокупность концептов и представлений о мире и размещение себя в нем, что коррелирует с конструктом А. Г. Асмолова «личностно-порождающее образование» (далее - образование) [3; 4]. Основой такого образования является активная образовательная позиция как совокупность образовательных целей, привлекаемых для ее реализации средств, а также ситуации практического применения образовательных продуктов и результатов (приобретаемых средств мышления и деятельности). Образование представляет собой систему процессов целеполагания, проектирования продуктивного действия [5], с выходом в мышление с использованием материала культуры, осуществление действия, рефлексивный анализ и присвоение средств деятельности и мышления1. Такое образование реализуется различными институциями (не только в образовательных организациях), в частности в цифровой образовательной среде (современный тренд «расшколивания»).
Ключевым механизмом обеспечения образования в цифровой образовательной среде становится персональная образовательная логистика, позволяющая обеспечить в логике Just-in-Time (точно вовремя) и(или) OnDemand (по требованию) каждого субъекта выбранными им самим средствами и ресурсами, необходимыми для сконструированного образовательного маршрута, в том числе коммуникациями, образовательным контентом, психолого-педагогическим сопровожде- нием, инфраструктурой и др. [2]. При этом базовым условием функционирования персональной логистики выступает осознание субъектом образовательных потребностей в средствах и ресурсах в соответствии с образовательными целями и ситуациями, их формализация и предъ-явление2. Для этого наиболее семантически близким может рассматриваться понятие «образовательный запрос», которое не является общепринятым для массового образования, встречается в различных трактовках, преимущественно в теоретических рассуждениях. В настоящее время опыт осознанного выбора, обусловленный познанием себя, своих потребностей, дефицитов и возможностей, фрагментарен. Одновременно наблюдается массовый запрос на персонализацию. Операциона-лизация работы с образовательными потребностями в условиях роста сложности, неопределенности и разнообразия определяет актуальность исследований авторов.
Цель статьи – представить результаты исследования отечественного и международного поля трактовок понятия «образовательный запрос» (или эквивалент), а также практик и институтов, в которых возможно его появление, развитие и употребление; предложить систему принципов для уточнения предпонятия «образовательный запрос»3.
Обзор литературы
Зарубежный опыт . Буквальный перевод в виде educational request не дает осмысленных результатов. В англоязычной среде чаще используются словосочетания educational demand , demand for education , educational needs . Educational demand (согласно официальному переводу ЮНЕСКО) обозначает «спрос на образование»4 и в этом контексте рассматриваются требования к системе образования
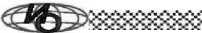
в целом или к конкретным школам с целью предоставления всем доступа к образованию независимо от типа школ, качества преподавателей, учета повышенных требований более состоятельных людей5. Demand for education по значению очень близко educational demand 6. Требования к образованию рассматриваются с позиций индивида, семьи, общества и школы. В текстах Educational demand и Demand for education синонимичны. В основе данных сочетаний лежит прямая ассоциация слова demand с ценой (несмотря на социально-экономический вектор анализа): количество лет обучения, доля посещающих школы, общие затраты школы (с учетом доставки и др.), в том числе с детализацией на основные и дополнительные (по желанию). Educational needs по официальному переводу ЮНЕСКО обозначает «потребности в образовании»7, что чаще соотносится с людьми со специальными потребностями (в России - люди с ограниченными возможностями здоровья). Значение этого понятия в зарубежной научной среде отличается от российского пониманием собственных дефицитов в образовании, что является основой формирования осознанного образовательного запроса в контексте нашего анализа.
Отсутствие прямых аналогов понятия «образовательный запрос» в англоязычной среде связано с отнесением слова education к организационной форме - размещение в системе образования (pre-school education, primary, secondary, higher education). Авторское понимание образования отражается словом learning и связано с понятиями personal/collective learning inquiry или learning request. Различие между терминами inquiry и request заключается в степени субъектности актора и его участия в реализации запроса [6]. Термин inquiry связан с понятием to question (спрашивать о чем-либо, интересоваться) и предполагает, что автор в состоянии действовать самостоятельно и(или) при наличии небольшой помощи8 [7]. Request в большей степени соотносится с понятием desire/expectation и предусматривает значительное участие других лиц или принятие за человека отдельных решений9.
В западной культуре деятельностная позиция личности относительно собственного развития достаточно выражена: «учащий-СЯ» в процессе обучения несет ответственность за локальные выборы и их последствия. У зарубежных коллег «образовательный запрос» выявляется и встраивается в систему образования как ориентация образовательных процессов на внутреннюю инициативу ученика [8]. Например, достаточно давно образовательные программы предусматривают индивидуализацию с выбором как минимум из трех уровней освоения любого курса (A, B, C). Однако при индивидуализации не учитываются кроссконтекстные, экзистенциальные навыки, личностные качества и таланты учеников. Вариативность ограничена и полностью определяется учителем или администрацией школы в рамках принятой образовательной программы10.
В качестве основного направления практик работы с «образовательным запросом» в международном дискурсе активно используется «персонализация» и связанные с этим категории personal/personalized learning (персональное/персонализирован-ное образование), student initiated/driven learning11 [9], self (directed) learning [10; 11] и их аналоги [12; 13]. Концепция персонализированного образования, базирующаяся на работах Д. Дьюи12, предполагает трансформацию образовательного процесса от концентрации на программе (curriculum-based approach) к образовательному опыту каждого ученика (learner-centered approach). Это означает переход от длительных монолитных курсов к базе знаний и практик (микромодулей), что позволяет каждому ученику выбирать те темы, которые сейчас имеют для него наибольшую важность, двигаться в своем темпе и получать разнообразный образовательный опыт и многофакторную обратную связь. Учащиеся действуют совместно в малых группах, прототипируют социальные системы, определяются со своими жизненными целями, местом в макросистемах, встраивают новые знания в систему представлений о реальном мире. Автор термина «персонализированное образование» В. Гарсиа Хоз определил его как «путешествие к становлению свободы выбора (субъектности)» и указывал, что «образовательная среда должна быть сконструирована таким образом, чтобы учитывать и сопровождать когнитивное, эмоциональное и социальное развитие каждого учащегося»13. С учетом проведенных исследований [1; 14] было выявлено, что цифровая трансформация образования создает все возможности для ее персонализации.
Современные подходы персонализации образования personal/personalized education или personal/personalized learning позволяют формулировать цели и определять содержание образования непосредственно субъектами образовательной деятельности. Б. Брей и К. МакКласки вводят различия в дифференциации, индивидуализации и персонализации14. Они подчеркнули разницу в ориентации подходов: персонализация опирается на ученика (ученик сам управляет своим учением), дифференциация и индивидуализация – на учителя (учитель инструктирует учеников в группе или индивидуально).
С точки зрения «образовательного запроса» основной интерес представляют практики работы по развитию и поддержке образовательной субъектности учеников. Личностно-порождающее образование [3] в качестве модели образования, заинтересованной в росте персонального могущества учащегося, может сначала строиться как персонализация (возможность самостоятельного выбора изучаемого), а затем использовать индивидуализацию (помощь в структурировании ресурсов и материалов по релевантности и сложности, выбору того, что соответствует его задачам и уровню подготовки).
Маркерами наличия в образовательной организации персонализированного образования, согласно исследованию RAND Corporation, проведенном при содействии Bill and Melinda Gates Foundation [15], будут выступать следующие составляющие организации образовательной деятельности:
– база профилей учащихся, позволяющая отслеживать динамику запросов и интересов каждого учащегося и оказывать оптимальную поддержку;
– образовательные маршруты для каждого учащегося, которые при этом насыщены различными видами коммуникации и взаимодействия;
– непрерывный мониторинг каждого учащегося на основе целевых компетенций, где ситуации проверки уровня
овладения той или иной компетенцией инициирует учащийся самостоятельно по мере готовности;
-
- гибкая образовательная среда, предполагающая не только разнообразие способов освоения той или иной компетенции, но и активно «выходящая» за пределы образовательных организаций, в целом являясь способом развития у учащихся «глобальной грамотности» (понимания, как устроена и функционирует окружающая их реальность);
-
- работа с послешкольными учебными и карьерными траекториями, направленная на выстраивание непрерывной связности различных этапов пути самореализации каждого учащегося.
В современной зарубежной педагогике существуют методологические центры и платформы, предлагающие практические модели и подходы персонализированного образования: LEAP Innovations15, Knowledge Works16, Education Elements17 и др. При этом не существует понятия единого образовательного пространства18, принципы personal/personalized learning реализуются в рамках четырех типовых моделей школ: использующие профиль ученика, осуществляющие индивидуальные образовательные маршруты, развивающие навыки ( competency-based progression ), применяющие гибкую образовательную среду.
Большую популярность приобрела теория самоопределения (SDT-Self-Determi-nation Theory): «… это теория мотивации.
Она основана на естественных привычках развиваться здоровыми и эффективными способами» [16]. В отечественной литературе SDT может упоминаться как теория самодетерминации. Важным элементом персонализации является оценка готовности ученика к самостоятельности. В частности, в University of Waterloo для Self-Directed Learning выделяют четыре этапа: оценка готовности к самостоятельному учению, установка целей обучения, вовлеченность в учебный процесс и оценка прогресса обучения19.
Российский опыт . В отечественной литературе понятие «образовательный запрос» обучающихся представлено на разных ступенях образования: общего образования [17], образования взрослых [18], старшей и младшей школы, дошкольников и др. [19], при этом запросам семей уделено меньше внимания20. Согласованное понимание терминологии «образовательный запрос» отсутствует. В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования21 понятие «запрос» фигурирует лишь в п. 33.2.
По мнению И. А. Хоменко, под образовательным запросом семьи понимаются «ожидания родителей (членов семьи), связанные с образовательной деятельностью их ребенка и адресованные конкретному субъекту»22. Автор отмечает типичные свойства образовательного запроса семьи - слабую структурированность, отсутствие четких критериев, необходимость уточнения содержания и формулировок запроса, полярность, несогласованность в семье, несформированость, неадекватность, конъюнктурность, критичность. Образовательные запросы семей (родителей) И. А. Хоменко классифицирует по степеням осознанности и согласованности: осознанные (запросы на основе сформулированных целей с пониманием реальных возможностей семьи и школы); неосознанные (запросы на основе спонтанных/“жи-тейских” задач (псевдо-целей), контекстно-го/ситуационного выбора школы и/или без внимания к ребенку); консолидированные (запросы на основе глубокого продумывания образовательной стратегии и учета интересов ребенка); несогласованные (запросы на фоне непоследовательности, раз-нонаправленности, в том числе неадеква-ности родительских ожиданий от школы и ребенка).
Опираясь на данную классификацию, наиболее массовый «образовательный запрос» в России ‒ неосознанный, спонтанный, часто несогласованный и даже навязанный родителями, предотвращающий социальное расслоение. Различные исследования показывают, что под «образовательным запросом» чаще фигурируют пожелания к школе, которые носят в бóльшей степени бытовой характер, чем образовательный: выбор ближайшей к дому школы, выбор педагога по простоте объяснения материала, статистика поступления в вузы на бюджетные места и т. д. [20]. Все это отражает традиционное восприятие учителя как носителя знаний, а не как организатора процесса, ориентацию семей на успешную сдачу экзаменов, а не на комплексное развитие личности ребенка.
Л. Шпаковская отмечает зависимость образовательной мотивации и направленности запроса от уровня образования, социального статуса, экономического положения и культурного капитала родителей23.
«Образовательный запрос» подразумевает проявление образовательной субъект- ности [21]. Гармонизация образовательного запроса с субъектностью позволяет использовать в качестве оснований для анализа и построения понятий теории и концепты культурно-исторического и системодеятельностного подходов, изложенные в работах К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Л. Н. Толстого, Н. А. Добролюбова, С. Т. Шацкого, П. П. Блонского, А. С. Макаренко, Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, В. А. Сухомлинского, А. Н., А. А. и Д. А. Леонтьевых, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина, Ш. А. Амонашвили.
В результате утверждения в 1992 г. закона «Об образовании в Российской Федерации» наступил расцвет образовательных практик, авторских школ, новых теоретических разработок, направленных на формирование образовательной субъектности, ученика как разносторонней личности. Эти разработки получили название «личностно ориентированное обучение», а в начале 2000-х развивались под названием «личностно-развивающее образование». Личностно ориентированное обучение – «обучение, выявляющее особенности ученика-субъекта, признающее самобытность и самоценность субъектного опыта ребенка, выстраивающее педагогические воздействия на основе субъектного опыта учащегося»24.
Личностно-порождающее и личностно-развивающее образование могут быть более удачным по смыслу переводом английской кальки «персонализация образования». Свой вклад в практикализацию идей личностно-развивающего образования внесли В. В. Сериков, Е. В. Бондарев-ская, И. С. Якиманская, А. В. Хуторской и др. В частности, разработки В. В. Серикова опираются на исследования В. В. Краевского, И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина и формируют опыт эмоционально-ценностного отношения ученика к миру. Основное направление исследований – «...приемы создания
образовательных ситуаций, развивающих способность занимать и выражать свою позицию; дающих опыт решения задачи с этическим подтекстом, выбора поступка, линии поведения, партнера в групповой работе. Ситуации формируют опыт избирательности, самооценки, смыслоопреде-ления, принятия ответственных решений, волевой саморегуляции как необходимого условия достижения поставленных целей, субъектности как внутренней детерминации поведения...» [22], при этом дистанцируясь от «развивающего обучения» Элько-нина – Давыдова.
А. В. Хуторской сформулировал следующие принципы личностно ориентированного обучения: «личностное целеполагание ученика, выбор индивидуальной образовательной траектории, метапред-метные основы образовательного процесса, продуктивность обучения, первичность образовательной продукции учащегося, ситуативность обучения, образовательная рефлексия»25.
Глубокий уровень индивидуализации/ персонализации образования можно наблюдать у практик альтернативного образования. Помимо семейного образования в законе об образовании предусмотрено «самообразование» и «дополнительное образование». Сама ситуация альтернативности ставит семьи в ситуацию самостоятельного образовательного поведения. В связи с этим они вынуждены быть субъектными в вопросах образования и сами формировать осознанный образовательный запрос. Ценным является заметно отличающийся уровень мотивации всех его участников независимо от взглядов на образование. Это дает основание ожидать интересные проявления индиви-дуализации/персонализации, новых норм формулирования и использования «образовательного запроса», несмотря на формы его выражения. Именно многообразие и образовательная активность приверженцев семейного образования может обеспечить выход на наиболее продуктивные модели организации обучения, работы с образовательной субъектностью.
А. А. Попов подчеркивает, что одним из важных условий возникновения «образовательного запроса» является работа с самоопределением человека [23]. Для организации этого процесса требуется переход к задачам открытого типа, проблемным и парадоксальным задачам, к совместной постановке целей в системе взрослый – ребенок, к непредзаданному и порождаемому содержанию и равному совместному с ребенком конструированию социокультурных объектов, обеспечивающих перспективу и «онтологический статус» самоопределения. Практики, которые разворачивают такую деятельность, принципиально расположены в открытом образовательном пространстве и существуют по другим методологическим, дидактическим и технологическим принципам [24]. Примерами таких антропопрактик являются компетентностные олимпиады, летние стратегические игры, сессии data-cam-pus26. При этом сами практики напрямую нацелены не на работу с «образовательным запросом», а на потенциал и ресурс для его формирования [25].
Несмотря на значительное количество публикаций по данной проблематике, практически отсутствуют исследования по сопоставлению подходов и представлений индивидуализации, персонализации и индивидуального подхода в контексте развития теорий и концептов российской и западноевропейской традиции. Авторы сопоставили подходы к работе с понятием «образовательный запрос» и близким к нему по смыслу сущностям в России и за рубежом и продемонстрировали существенно различающееся отношение к нему.
Материалы и методы
Проанализированы отечественные и мировые практики (формальное, семейное, «альтернативное» образование) с глубиной поиска 5–8 лет.
Применялись поисковые запросы: education inquiry , personal(ized) learning inquiry, personalized education, personalized learning, student initiated learning, self learning, competency-based learning, dynamic organizational design, Targeted Instruction, Data Driven Decisions, Student Reflection and Ownership, Flexible Content and Tools, design thinking, Self-Directed Theory/Learn-ing/Education и др.
Область теоретического исследования включала понятия «субъектность», «индивидуализация», «персонализация», «персонификация», «образовательный запрос»; теории выбора Д. А. Леонтьева, посреднического действия Б. Д. Эльконина, сложных систем и личности К. Роджерса, поля К. Левина, концепцию гибкого сознания К. Дуэк и др.; модели и практики активного образования, опирающегося на субъектную позицию ученика.
Результаты исследования
В результате сопоставления подходов к работе с понятием «образовательный запрос» показано, что за рубежом наблюдается множественное представление близких по сути подходов, различающихся по способам формализации, реализации, целеполагания. При этом за рамками рассмотрения остаются вопросы собственно возникновения субъектности, ее становления и развития. Предположим, что индивидуальный запрос в любой сфере для западноевропейской традиции – самоочевидное явление, поэтому усилия в области образования нацелены на процессы и способы формулирования запросов и их содержательную направленность. Отсюда и разброс практик, ресурсов и задач по их брендированию и продвижению.
Современные отечественные традиционные образовательные институты ставят вопрос об уместности в них формулирования учеником и его семьей содержательных «образовательных запросов» в силу патернализма и внешней предзаданно-сти образовательных программ. Запросы к системе образования в основном носят социально-бытовой характер: «как все»
(полная доверительность общей программе с минимизацией трудозатрат родителя в образовательном направлении), «поступить в вуз» (или в другое образовательное учреждение), а также часто выглядят как претензии (объем домашних заданий, качество и режим питания, стиль отношений между различными участниками учебного процесса) или невыполнимые пожелания, исключающие деятельностную позицию. Большинство не готово формализовать «образовательный запрос», не принимает ответственность и избегает проявления инициативы по конструированию образовательной программы даже на уровне простого выбора. В классификации Д. А. Леонтьева речь чаще всего идет о простом выборе, хотя иногда возможен смысловой27.
В англоязычной литературе не обнаружено прямого аналога понятию «образовательный запрос». При этом прямой перенос зарубежного терминологического аппарата и методико-технологических решений (рассмотренных выше) без осознания методологических оснований оказывается непродуктивен. Для цифровой трансформации образования с использованием осознанного «образовательного запроса» необходима популяризация ценностей многообразия и культуры осознанного выбора, а также готовность системы образования поддерживать заявленный субъектами образовательной деятельности «образовательный запрос», если он отвечает декларированным условиям.
Для обеспечения баланса между работой с порождением «образовательного запроса» и управлением его реализацией авторы в качестве рабочей версии предлагают следующую систему принципов:
-
– субъектность как условие запроса (в том числе установка на работу «собой» и «с собой»);
-
– ценность преадаптации как эффекта образования (особенная трактовка категории будущего);
-
– способность включаться в процессы смыслопорождения, смыслообразования и быть источником собственных смыслов;
-
– установка на формирование собственной картины мира (в том числе в предельном случае – онтологической работы);
-
– появление квалифицированного заказа и потребности на собственное развитие (одновременное построение из себя позиции заказчика и позиции потребителя результата);
-
– ориентация на включение в продуктивное коллективное действие и деятельность как преобразование сложившейся реальности;
– нацеленность на личностное становление в сложной социокультурной полисистеме (сообщества, движения, школы и др.), в которых человек выступает как участник субъект-субъектных отношений (в отличии от, например, рассмотрения человека как самостоятельной индивидуальности, способной абстрагироваться от всех типов воздействия)
Развивать и поддерживать образовательную субъектность (индивидуальную и коллективную) помогают основные ценности «нешкол» (представителей «альтернативного образования»):
-
– осознанная педагогика: умение развивать таланты и навыки ребенка, не разрушая его внутренний мир, приумножая и формируя его самостоятельность, тягу к познанию, чуткость к себе и уважение к окружающему миру;
-
– уважение к личности ребенка и его интересам, талантам, потребностям;
-
– образовательный маршрут ребенка определяет семья, ориентируясь на его потребности и способности;
-
– взрослые для детей, союз взрослых и детей, совместная согласованная работа, «значимый другой»;
-
– готовность учителей давать практические знания через погружение в природу и прикладные занятия;
-
– развитие мышления детей, индивидуальных способностей, учитывая их физиологические и психологические особенности;
– гуманная педагогика, атмосфера творчества, высокие стандарты качества образования.
К числу практик, развивающих и поддерживающих образовательную субъект- ность, порождение и употребление содержательных «образовательных запросов», можно отнести Вальдорфскую педагогику (Р. Штайнер), педагогику М. Монтессори, Реджио-подход (Л. Малагуцци), педагогическую систему С. Френе («Класс Центр» С. З. Казарновский), развивающее образование Эльконина – Давыдова, вероятностное образование (А. Лобок), ТРИЗ-педаго-гику (А. Гин), тьюторскую модель («Новая школа», Москва), школу-парк (М. Балабан), школу Саммерхилл (А. Нилл), школу С. Вэлли, проектное сообщество Кос-мОдис, трансформационные программы «Проектная и цифровая трансформация школы», «Родитель – учитель» и др. Также интерес представляют родительские кооперации и ресурсные центры семейного образования (homeschooler), игровые площадки и встречи в парках, программы раннего развития на основе свободной игры, творческие центры и мастерские (makerspace), поселения и экодеревни, летние лагеря, WorldSchooling (познание мира через собственный опыт, знакомство с другими странами и культурами), Agile learning center, центры для подростков Liberated learners (на основе модели North Star) и др.
Обсуждение и заключение
В контексте введения понятия «образовательный запрос» на первом уровне классификации отношений учительуче-ник можно применить ставшую популярной модель Б. Брей / К. МакКласки и отечественные понятия, используемые в российском научном сообществе:
– individualization («индивидуализация» в фонетической кальке) – в отечественной традиции соответствует индивидуальному подходу, т. е. учет особенностей ученика с целью освоения им программы;
– differentiation («дифференциация») – в отечественной традиции соответствует дифференциации, профильным группам, т. е. формирование учебных групп с более однородным по интересам и возможностям составом;
– personalization («персонализация» в фонетической кальке) – высокий уровень образовательной субъектности ученика вплоть до самостоятельного формирования своей программы обучения.
Однако в этой классификации охватывается важное в контексте «образовательного запроса» различение. Персонализированное образование – не индивидуальное (человек учится сам, по своей личной траектории, где ему никто не нужен, а нужно только вовремя пополнять ресурсы), а личностное становление в сообществе среди других и в совместной деятельности с ними, т. е. человек выступает не потребителем готового знания, а соавтором порождения нового знания и новых интеллектуальных сущностей. Именно это различение сближает зарубежные трактовки «персонализированного образования» с отечественным подходом «личностно-порождающего образования».
Такое понимание персонализированного образования создает предпосылки для непрерывного порождения новых «образовательных запросов» (личность во взаимодействии с другими трансформирует знаниевую реальность вокруг себя, в связи с этим меняется сама, создает новые запросы на новые знания, и далее по спирали). В итоге персонализированное образование важно не столько для удовлетворения эгоистических потребностей человека в развитии, сколько для создания условий с целью интеграции человека в макроконтекст в его порождающей, созидательной ипостаси как конструктора новых уровней реальности, а не как потребителя накопленных.
«Персональный образовательный запрос» возникает именно в среде «персонализации», так как предложения, рекомендации, задачи и образовательные ситуации опираются на зону ближайшего развития ученика между зонами комфорта и фрустрации. Если учащийся управляет своим образовательным опытом самостоятельно и знает свои сильные и слабые стороны, осознает текущие границы собственной компетентности и заинтересован в их расширении, возможности деятельности обширны. В противном случае зона фрустрации начинается сразу за зоной комфорта, и таким образом сам факт возникновения образовательного запроса маловероятен.
Важно обратить внимание на то, что в категории «персонализация» по классификации Б. Брей / К. МакКласки находится широкий спектр образовательных практик. К ним можно отнести самообучение, индивидуальное и коллективное обучение, построенное с разной степенью личного участия в формировании программы. Нас интересуют прежде всего варианты, способствующие развитию личности и активному взаимодействию, коммуникации с социумом, согласованию ценностей общества и ученика. Слово «персонализация» в традиции психологии личности означает развитие личности. Таким образом, калька «персонализация образования» перекликается с вариантами «личностно-порождающее образование» А. Г. Асмолова и «личностно-развивающее образование» Д. Б. Эль-конина - В. В. Давыдова. Данные русскоязычные конструкции были бы более точным переводом английских описаний.
Для системного формирования осознанного «образовательного запроса» полезно опереться на многолетние разработки Д. А. Леонтьева в классификации выбора28:
-
– простой – в ситуации априори даны имеющиеся альтернативы и критерии их сравнения;
-
– смысловой – альтернативы даны, но критерии сравнения неоднозначны;
-
- неявный (в оригинале экзистенциальный) – не определены критерии для сравнения, нет фиксированного набора альтернатив.
Такая триада может стать операциональной основой развития умения делать выбор, без которого невозможно анализировать «образовательный запрос». Для запроса необходимо предоставить пространство выбора и соотнести его со своими ценностями. При этом «образовательный запрос» может становиться как продвигающим, так и замедляющим внешние по отношению к человеку процессы в зависимости от контекста: в традиционной школе, где процесс задается программой и педагогами, фрустрированы ученики
с субъектной образовательной позицией; в субъектной модели образования ‒ ученики с отсутствием «образовательного запроса».
В логике «образовательного запроса» многие родители создают возможности образования своих детей и их комплексного развития в разных формах «школ» и «не школ». Они уверены, что прикладные навыки неизбежно появятся в той деятельности, которой они будут заниматься при умении коммуникации, взаимодействии в коллективе, решении проблемных ситуаций и навыках сотворчества29.
В отношении прогноза лексики, описывающей образовательные запросы, можно опереться на публикации материалов по вопросам активного образования и отметить «гибкие/деловые навыки» (soft skills) и «навыки саморегуляции» (self skills), рассматриваемые как понятная сфера развития для проявления интереса. Родители в активном образовании чаще доверяют самим детям выбор сферы деятельности, в противовес типичным вопросам типа «кем хочешь быть» субъектным родителям важнее осознанность и собственный выбор ребенка, его субъектность. Можно вслед за М. М. Миркес и коллегами сформулировать универсальный «образовательный запрос»: «субъектность как образовательный результат»30. Для этого запрос должен быть сделан на образовательный процесс как на интересную разнообразную деятельность. Лексические конструкции могут быть выражены привычными «знать» и «уметь», расширенные глаголами «понять», «выбрать», «предложить», «(с)делать», «до-верить(ся)», «попробовать/проверить», «оценить (свои) удачи/неудачи» и др. Чтобы применение подобных глаголов в методических материалах стало нормой, они должны попасть в образовательные программы как обязательный компонент описания всех видов деятельности.
Отечественная система образования сложнее воспринимает «образовательные запросы», отличные от предусмотренных образовательными программами, что и объясняет быстрый рост «альтернативных» практик образования, где поддерживаются вариативные образовательные форматы. Поэтому понятие «образовательный запрос» как стандартное требование к системе образования от ученика и его семьи должно стать нормой. При этом очевидно, что даже готовность системы образования поддержать нестандартный запрос единовременно не превратит всех учеников и их семьи в носителей содержательного запроса и не научит всех учителей его развивать и поддерживать. Отдача от таких изменений не может быть быстрой, но она создаст условия для продуктивного развития.
Исследования авторов показали, что понятие «образовательный запрос» не встречается в зарубежной педагогической практике. Более того, смысл этого понятия сложно изложить на английском языке. По конструкции это персональный запрос к системе образования, являющийся органичным для их культуры. В системе образования используются практики активизации образовательного поведения и развития образовательной субъектности. Если она проявляется, система образования готова ее поддержать, отсюда нет смысла в специфических средствах и технологиях порождения запроса в сфере образования.
Сложно обнаружить «образовательный запрос» в практике иерархически организованной отечественной массовой школы в условиях предзаданности образовательных программ. Как правило, запрос редуцируется до форм практических пожеланий бытового характера, а вариативность реализуется через дополнительное образование и(или) внеурочную деятельность. Сформулированное И. А. Хоменко понятие «образовательный запрос» фиксирует ожидания семьи, а не проявление образовательной субъектности самого ученика.
Активное образовательное поведение проявляется в области «альтернативного» (в частности семейного) образования. Наблюдается заимствование/калькирование зарубежных западных понятий и практик. Отсутствие понятия «образовательный запрос» сужает оптику рассмотрения реальных проблем образовательной системы и редуцирует возможность возникновения и развития практик работы с субъектностью и самоопределением детей.
Авторы считают, что для отечественного образования понятие «образовательный запрос» важно как системная задача обеспечения возможности удовлетворять нестандартные образовательные потребности, развивать способность и готовность учеников формировать «образовательные запросы», своевременно концентрировать и оптимально использовать ресурсы системы образования, оперативно и адекватно реагировать на запросы.
Кандидатом понятия «образовательный запрос» на английском языке можно считать парафраз к личностно-развивающему образованию Personality developing education , т. е. Personality developing request .
Таким образом, «образовательный запрос» рассматривается авторами в контексте активного (персонализированного) образования «от субъекта», поддержки разнообразия в сложных системах. Построение понятия и модели «образовательного запроса» выступает стержнем для развития практик персонализации, сопровождения и вариативных форм образования.
Для продуктивной работы с «образовательным запросом» и разработки/раз-вития практик его реализации/употреб-ления необходимо определить и решить комплекс задач:
-
1) Исследовательские:
– ввести понятие «образовательный запрос» в персонализированную образовательную деятельность (в части конструирования оснований, концептуальных основ и связанных понятий из той или иной мыслительной традиции);
– построить модель жизненного цикла «образовательного запроса» (в том числе в цифровой образовательной среде).
-
2) Институциональные:
– описать требования к пространству формирования «образовательного запроса» и особенности требований к его структуре для использования в персональной образовательной логистике (как в пространстве употребления и реализации «образовательного запроса»);
– выявить и спроектировать институциональную «клеточку» «образовательного запроса»
-
3) Практико-методические:
– построить систему требований к условиям персонализации образовательной деятельности в организациях общего и дополнительного образования;
– определить субъекты образовательных отношений и сконструировать способы формулирования запросов для каждого из них;
– разработать базовые принципы, схемы и критерии отнесения различения практик работы с «образовательным запросом»;
– подготовить методическое описание форматов, технологий, позиций работы с «образовательным запросом»;
– сформулировать требования для банка кейсов и развернутых проектов в проблематике «образовательного запроса».
Данное исследование впервые обозначило проблемы формирования персонализированного образования (в особенности путем так называемого переноса лучшего опыта и практик в российскую образовательную среду) через призму разрывов в выявлении и работе с представлением «образовательного запроса» на всем его жизненном цикле. Проблемы обуславливаются различным генезисом взглядов на «образовательный запрос» и разными сценариями становления субъектности в общественном организме в России и западноевропейской культуре.
Материалы статьи будут полезны сотрудникам органов управления образованием, руководителям образовательных организаций, педагогам, тьюторам, ведущим деятельность на любых организационных уровнях, при необходимости пересмотра образовательной модели в логике персонального образования.
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Поступила 28.07.2021; одобрена после рецензирования 23.08.2021; принята к публикации 01.09.2021.
Об авторах :
Рабинович Павел Давидович, заместитель директора Школы антропологии будущего Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (119571, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82), кандидат технических наук, доцент, ORCID: , Scopus ID: 57188748346, Researcher ID: N-7024-2015,
Кушнир Михаил Эдуардович, младший научный сотрудник Центра проектного и цифрового развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (119571, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82), ORCID: ,
Заведенский Кирилл Евгеньевич, заместитель директора Центра проектного и цифрового развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (119571, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82), ORCID: , Scopus ID: 57197808231,
Кремнева Лидия Владимировна, младший научный сотрудник Центра проектного и цифрового развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (119571, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82), ORCID: , Scopus ID: 57221378611,
Царьков Игорь Сергеевич, председатель Центра научного творчества «Поиск» средней общеобразовательной школы № 29 им. П. И. Забродина (142117, Российская Федерация, г. Подольск, ул. Парковая, д. 16), кандидат технических наук, ORCID: ,
Заявленный вклад авторов :
П. Д. Рабинович – научное руководство; доработка начального варианта статьи.
М. Э. Кушнир - сбор материалов по отечественным и зарубежным практикам; подготовка первоначального варианта статьи.
К. Е. Заведенский – методологические основания статьи; доработка начального варианта текста.
Л. В. Кремнева – сбор материалов по зарубежным практикам.
И. С. Царьков – сбор материалов по отечественным практикам; критический анализ.
Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
Список литературы Российские и международные практики работы с образовательными запросами
- Цифровая трансформация образования: от изменения средств к развитию деятельности / П. Д. Рабинович [и др.] // Информатика и образование. 2020. № 5. С. 4-14. doi: https://doi.oig/10.32517/0234-0453-2020-35-5-4-14
- Образовательная логистика в цифровой школе / М. Э. Кушнир, П. Д. Рабинович, Ю. Е. Храмов, К. Е. Заведенский // Информатика и образование. 2019. № 9. С. 5-11. doi: https://doi.org/10.32517/0234-0453-2019-34-9-5-11
- Асмолов А. Г. Персонализация образования и антропология будущего // Народное образование. 2021. № 3 (1486). С. 75-82. URL: http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie/2021-3/personalizaciya-obrazovaniya-i-antropologiya-budushego- (дата обращения: 25.08.2021).
- Asmolov A. G. Anthropology of Everyday: Transformation of Human Behavior under Technological and Social Change // Lurian Journal. 2021. Vol. 2, no. 1. P. 6-18. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/97197/1/ lj-1-2021-01.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
- Эльконин Б. Д. Продуктивное Действие // Культурно-историческая психология. 2019. Т. 15, № 1. С. 116-122. URL: https://psyjournals.ru/files/97522/chp_2019_n1_Elkonin.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
- Motivational Power of Future Time Perspective: Meta-Analyses in Education, Work, and Health [Электронный ресурс] / L. Andre, A. E. M. van Vianen, T. T. D. Peetsma, F. J. Oort // PLoS ONE. 2018. Vol. 13, issue 1. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190492
- Herrera Paredes D. I. Future Time Perspective and its Motivational Relevance in Different Educational Contexts [Электронный ресурс] // Propósitos y Representaciones. 2019. Vol. 7. doi: http://dx.doi.org/10.20511/ pyr2019.v7nSPE.348
- Emergent Learning: A Framework for Whole- System Strategy, Learning, and Adaptation / M. Darling, H. Guber, J. Smith, J. Stiles // The Foundation Review. 2016. Vol. 8, issue 1. P. 59-73. doi: https://doi. org/10.9707/1944-5660.1284
- Panjaburee P., Srisawasdi N. An Integrated Learning Styles and Scientific Investigation-Based Personalized Web Approach: A Result on Conceptual Learning Achievements and Perceptions of High School Students // Journal of Computers in Education. 2016. Vol. 3, issue 3. P. 253-272. doi: https://doi.org/10.1007/s40692-016-0066-1
- Alamri H. A., Watson S., Watson W. Learning Technology Models that Support Personalization within Blended Learning Environments in Higher Education // TechTrends. 2021. Vol. 65. P. 62-78. doi: https://doi. org/10.1007/s11528-020-00530-3
- Grant L. K., Spencer R. E. The Personalized System of Instruction: Review and Applications to Distance Education [Электронный ресурс] // The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2003. Vol. 4, no. 2. doi: https://doi.org/10.19173/irrodl.v4i2.152
- Комаров Р. В., Ковалева Т. М. Персонализация образовательного процесса: 3Б-пространство интерпретаций // Вестник Московского государственного педагогического университета. Серия: Педагогика и психология. 2021. № 1. С. 8-22. doi: https://doi.org/10.25688/2076-9121.2021.55.1.01
- de Voider M. L., Lens W. Academic Achievement and Future Time Perspective as a Cognitive-Motivational Concept // Journal of Personality and Social Psychology. 1982. Vol. 42, issue 3. P. 566-571. doi: https://doi. org/10.1037/0022-3514.42.3.566
- Преадаптация школьников к инновационной деятельности и образовательные практики работы с будущим / П. Д. Рабинович [и др.] // Образование и наука. 2021. Т. 23, № 2. С. 39-70. doi: https://doi. org/10.17853/1994-5639-2021-2-39-70
- Continued Progress. Promising Evidence on Personalized Learning / J. F. Pane, E. D. Steiner, M. D. Baird, L. S. Hamilton. RAND Corp., 2015. 56 p. (In Eng.) doi: https://doi.org/10.7249/RR1365
- Deci E., Ryan R. Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being // American Psychologist. 2000. Vol. 55, no. 1. P. 68-78. doi: https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
- Весманов Д. С., Весманов С. В., Шевченко П. В. Анализ образовательных запросов заказчиков образовательных услуг общего образования: границы и методика // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. 2015. № 4 (6). С. 89-105. URL: https://www.mgpu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Statya-Analiz-obrazovatelnyh-zaprosov-1.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
- Горнякова М. В. Структура и содержание модели психологического консультирования взрослых по образовательному запросу // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2014. № 3 (29). С. 192-195. URL: http://www.kspu.ru/upload/documents/2014/10/22/1d4 4a51d7b2b6cbf1fb50f829ef9b1a4/vestnik-2014-3-29.pdf (дата обращения: 25.08.2021).
- Лупенко Н. В. Обеспечение качественного образования, учитывающего индивидуальные образовательные запросы и потребности обучающихся, в условиях уровневой системы обучения // Профессиональное образование и общество. 2015. № 3. С. 104-108.
- Доступность качественного общего образования в России: возможности и ограничения / Д. Л. Константиновский, В. С. Вахштайн, Д. Ю. Куракин, Я. М. Рощина // Вопросы образования. 2006. № 2. С. 186-202. URL: https://vo.hse.ru/data/2010/12/31/1208183510/16kon.pdf (дата обращения: 31.08.2021).
- Асмолов А. Г. Историко-эволюционная парадигма конструирования разнообразия миров: деятельность как существование // Вопросы психологии. 2008. № 5. С. 3-11.
- Сериков В. В. Опыт научно-педагогической школы личностно-развивающего образования // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Проблемы высшего образования. 2018. № 2. С. 11-18. URL: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/educ/2018/02/2018-02-02.pdf (дата обращения: 31.08.2021).
- Глухов П. П., Попов А. А., Аверков М. С. Контуры нового антропологического проекта образования // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 60. С. 45-54. URL: http://journals.tsu.ru/philosophy/&journal_page=archive&id=2087&article_id=47549 (дата обращения: 31.08.2021).
- Глухов П. П., Ешматов Я. А., Попов А. А. Образование будущего. Освоение планет // Образовательная политика. 2019. № 4 (80). С. 118-126. URL: https://w2f.ru/edpolicy/magazine/04/#120 (дата обращения: 31.08.2021).
- Филатова М. Н., Шейнбаум В. С., Щедровицкий П. Г. Онтология компетенции «умение работать в команде» и подходы к ее развитию в инженерном вузе // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 6. С. 71-82. URL: https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/1396/1146 (дата обращения: 31.08.2021).