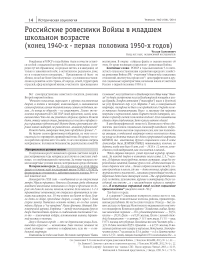Российские ровесники войны в младшем школьном возрасте (конец 1940-х - первая половина 1950-х годов)
Автор: Сымонович Чеслав Эрастович
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Рубрика: Историческая социология
Статья в выпуске: 2, 2014 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142182067
IDR: 142182067
Текст статьи Российские ровесники войны в младшем школьном возрасте (конец 1940-х - первая половина 1950-х годов)
Вот самопредставление известного писателя, ровесника Второй мировой войны:
"Феномен поколения, выросшего в суровых послевоенных дворах, а потом в пионерах, комсомольцах, и оказавшегося самым крепким, самым талантливым, самым свободным, никем … до конца не объяснён — но существует. …Только то поколение поражает ДО СИХ ПОР своей яркостью, силой, независимостью. Что-то мы ухватили здоровое, крепкое. Может быть, отвагу наших отцов, рванувших из поселян в профессора, в красавцы-орденоносцы? Может быть, крестьянское здоровье наших матерей, не разъеденное …никакой рефлексией?
Может быть, эвакуация так рано пробудила зрение? …"3
Не будучи сыном фронтовика-победителя, не могу ни согласиться, ни опровергать приведённый тезис. Но думаю, что если и работало против него что-либо, то не в последнюю очередь материальное положение большинства родительских семей РВ.
Материальные условия жизни
О неуклонном росте жизненного уровня советских людей в рассматриваемые годы материала достаточно в советских учебниках и в опубликованной статистике. За этими числами стояли конкретные условия жизни, материальная среда обитания.
Материальная среда. То, что запомнилось из этой сферы, давало в течение всей последующей жизни ТОЧКУ ОТСЧЁТА, формировало отношение к действительности в целом. Вот самое памятное мне.
Ленинград до 1955 года — необъятный из-за отсутствия метро. Убрали трамваи с Невского. Ближняя среда обитания младшего школьника начиналась со двора и пролегала по дороге от дома до школы, пешком, конечно. Если школа в 1-2-х трамвайных остановках, то старались притаиться за спинами пассажиров, т.к. 30-ти копеек на билет не было. Гуляли дети во дворе, проходных дворах, в сквере через 2 дома (горка зимой). Пытались освоить подвал, но он был залит, тёмен. Играли и "на паперти" Музея Арктики (бывшей Единоверческой церкви). В прятки — между поленницами дров во дворе. Пистолетики-пугачи со слабенькими пистонами. У кого-то — клеенчатая кобура, алюминиевая шашка, деревянный кинжал в ножнах.
Двор в большом городе — это не деревенская улица. Большинство взрослых — незнакомые. Знал только живших по своей лестнице — шапочно и пофамильно, если те — в отдельной квартире.
В магазины не ходил сам долго. Но помню гастроном "бывш.
Соловьева", на углу Невского и Владимирского. Яйца чаще "давали" во дворе гастронома на углу Владимирской площади и улицы Правды. Телефон-автомат ("таксофон") висел в булочной на углу Кузнечного пер. и ул. Марата. У нас, в коммунальной квартире, телефона не было и не предвиделось. Очереди на него тянулись десятилетиями. Мыло и мастику для паркета покупали в керосиновой лавке. Паркет тогда натирали, особенно к приходу гостей. Семь потов сходило! …Угол комнаты мы сдавали двум студенткам. Зато купили ватное одеяло!
В автобиографической повести А. Житинского чётко обозначены два полюса социальных. Александр находился подростком в довольно высоком социальном слое, как сын полковника авиации, в отдельной квартире нового московского дома, на улице из десятка таких же домов, прорезавшей кварталы БАРАКОВ, т.е. вместилищ другого социального слоя. В семье Александра была ДОМРАБОТНИЦА, появившаяся, конечно, из деревни, когда ему было 8 лет, а ей — 18. И в 12 лет он, естественно, подсматривает, как она моется в ванной...
"Вдоль барака тянулся узкий тусклый коридор, пропахший… За каждой дверью в комнатке жила семья. 3, 5, 7 человек ... В бараках жили рабочие, мелкие служащие, лица без определённых занятий, бывшие урки и т.п....Интеллигенция боялась бараков как огня....Линия соприкосновения между слоями проходила в школе, где мы — дети военных, профессоров, журналистов и писателей ... занимали руководящие посты, а барачные дети были движущей силой....Мы ...прорабатывали (их) за двойки, хулиганство, курение и матерщину. После заседаний мы вместе ... и с наслаждением курили и матерились... Я испытывал страшный стыд за свое социальное происхождение" (выделено мной -Ч.С.)4
Так было в городе.
А в деревне? Социальная полярность имела место и там. Были богатые, показательные колхозы, районы, привилегированные республики. Но часть селян голодала. Отсюда — быт, каким застала его бригада Молотовского медицинского института в подшефном Коневском районе: "Хозяйства слабые. Питание населения: хорошее — 26%, удовлетворительное -— 50,5%, плохое — 20,5%. Грязь — в 41,5% жилищ. Плохо с зимней одеждой, большинство — в лаптях. У 11% нет мыла. У 11% — вши. У 87% жилищ нет уборных. Помойных ям нет. Чистят зубы — 3,3%. В бане моются 89,5%. Кровати — в 41,5% жилищ. В магазинах района нет сахара и керосина. Нет рынка. Электричество есть в 7 колхозах из 53-х, радио — в 4-х. Газеты читают в 12,5% семей, лекции посещают 10% колхозников. Не— и малограмотных, в среднем, 60%. Культпросветучреждений нет в 50% хозяйств.
В районе очень высока заболеваемость детей. Массовый рахит. Высока детская смертность."5
Такое положение было в доброй трети деревень РСФСР и Белоруссии. Состояние больших городов было на порядок лучше, но возле них расстилались пригороды. А. Приставкин жил в 3,5 часах езды по Рязанской ж.д. от Москвы, в 7-метровой комнате с родителями и сестрой — той самой, которая от голода в детдоме в эвакуации ела живых рыбок из аквариума, т.к. старшие "девочки" отнимали у нее хлеб. Сестра — не РВ, 1935 года рождения, но ведь не только РВ застали самую горькую нужду. И не только в пригородах. Выбраться из снимаемой той комнаты родителям не удалось. Сестра получила квартирку в 45 лет, в 1980 г. (керосинка в коридоре, вода за 100 метров, туалет во дворе)6.
Сказывались ли материальные трудности на физическом состоянии РВ? В работе самого общего характера отмечалось, что для начала 1950-х гг. есть данные об улучшении физического состояния детей7 . А вот материал о детях города (Москвы) в первой половине 1950-хгг.
Физическое развитие, оцениваемое по антропометрии, улучшилось. Группа "ниже среднего" с 11% (мальчики) и 23% (девочки) уменьшилась до, соответственно, 2,8% и 1,4%. Частота плоскостопия уменьшилась с 41-45% до 22-36%, остаточных явлений рахита — с.45-60% до 11%, недостаточная упитанность — с 11% до 5,5%. Но школьные занятия почти вдвое увеличили удельный вес РВ с нарушениями осанки и аномалиями позвоночника (с 13 до 22%).
Повысилось содержание гемоглобина в крови. Снизилась инфицированность туберкулезная.
Незначительна распространённость сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшались показатели, интересовавшие отоларингологов. Но, по понятным причинам (условия, нагрузка) росла близорукость — с 4,3% до 15,2%. Органические пороки нервной системы были лишь у 1%, но повышенная возбудимость снижалась медленно -— с 14,5% до 10%. Половое развитие шло нормально: у 44,1% девочек 1941 года рождения в VI классе были менструации; у 49,2% мальчиков отмечены вторичные половые признаки I и 2 стадии.
По мнению самих школьников, 97,5 % их жили в удовлетворительных жилищных условиях. (!) 8
О состоянии обследованных трёх тысяч детей подмосковного пос. Глухово.
Антропометрия: перепады очень большие. 13-летние девочки-девушки имели вес от 27 до 62 кг, мальчики — от 27 до 56 кг. Средний рост — 149 см (девочки) и 147 см (мальчики). У деревенских, привычных к работе, девочек сила правой кисти немногим отличалась от мальчиковой (21 и 24 кг). Это означает, что РВ были сильнее в 13 лет, чем 13-летние ребята (то есть 1932 г.р.) в 1945 году. И по сравнению с 1880-м годом все показатели выросли.
Нарушения осанки (сколиозы, крыловидные лопатки) от- мечены у 50-80 % детей, т.е. чаще, чем в Москве. Из-за малого внимания к этому или от работы? Болели дети поселка реже9.
Таким образом, последствия Войны, действительно, преодолевались.
Школа Начальная
"Молодое поколение должно быть воспитано стойким, бодрым, не боящимся препятствий... Наши люди должны быть образованными, высокоидейными…, с высокими культурными, моральными требованиями и вкусами" (Жданов).
РВ учились в школе, сложившейся в 1930-е гг. и достроенной директивами 1944 г.: о приеме детей с 7-ми лет; о 5-балльной шкале оценки знаний и поведения; о подготовке учителей в училищах и институтах; об институтах усовершенствования учителей; об АПН РСФСР10… Преобразования начались даже в 1943 году (раздельное обучение мальчиков и девочек в 20% школ, введение Правил для учащихся и ученических билетов)11.
Периодика педагогическая к итогам положительным 1951 г. относила: тысячи новых школьных зданий, свыше 100 млн. экземпляров учебников, переход к 7-летнему образованию, перестройку преподавания языка в свете учения т. Сталина. К недостаткам — слабость пионерского движения, разлад между словом и делом в воспитании, отставание АПН…12 В журнале "Народное образование" писали о: большом числе второгодников, о нехватке школ, медленном повышении квалификации учителей, о слабости школ в национальных республиках. Основным называли вопрос политехнизации образования. И, конечно, указывалось на чуждые влияния, пережитки прошлого, на неправильное отношение к труду, нарушение правил социалистического общежития, опасность воздействия религии13.
В РСФСР за 1950-е гг. происходило: уменьшение числа всех школ со 122 тыс. до 115 тыс. при удвоении числа средних школ; увеличение количества учителей в школах с 795 тыс. до 954 тыс. РВ — школьников начальных классов насчитывалось в школах всех типов: 7,5 млн. человек в 1950/51 учебном году и 8,8 млн. — в 1955/56-м. БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИХ ЖИЛИ И УЧИЛИСЬ В ДЕРЕВНЕ (соответственно 3,9 и 4,6 млн.)14!
В деревне строились школы, в основном, на колхозные гроши, причём — в том же объёме, что и на государственные средства (в 1950 году, соответственно, на 274 тыс. и 280 тыс. мест)15. В фонд всеобуча тут собирали продукты питания, мануфактуру, одежду и обувь, топливо. В Курганской области, например, — свыше 6 тыс. м. мануфактуры, 2 тыс. центнеров картошки, 700 центнеров зерна…16 При плохой одежде и обуви школа для многих учеников становилась недосягаема. Например, в Орловской области средний радиус сельской 7-летки был 2-3 км, даже до 4-5 км. Пропустивший несколько дней занятий в распутицу ученик и вовсе бросал школу. В Яргомыжскую школу Череповецкого района ходили за 6-10 километров17. Строительство или приспособление зданий под интернаты становилось в таких условиях необходимым, но не всегда доступным материально для колхозов делом.
Материальные трудности, участие учеников в общественных и домашних работах было важной причиной плохой ус- певаемости. В некоторых малокомплектных школах "не успевало" большинство учеников (в Городищенской школе Великолукской области из 5 учеников IV класса допущены в 1952 году к экзаменам 4 человека, из коих не справились с диктантом трое). В Удмуртии тогда же "не успевало" до 1/4 учащихся в отдельных районах из-за недостаточной подготовки педаго-гов18. Одной из трудностей в жизни начальной школы была неравномерность в изменении численности учащихся. По СССР: 12,1 млн. в 1953/54 учебном году против 19,6 млн. в 1950/51-м19.
Ведомственная периодика хранит информацию и о школах национальных меньшинств. В материалах инспекторских писали о слабости, например, чукотских, корякских школ в 1948 году, о недостатках в Грозненском ОблОНО, о холоде и нехватке постелей в интернатах Кизил-Юртовского района Дагестана. Зато полный порядок царил в школах на Колыме, несмотря на обширные размеры округа (2 млн. кв. км). В 54-х школах округа — электричество, связь, тысячи га сельхозугодий. Есть 15 национальных школ, 25 учителей — из местных. В 15-ти интернатах — 1,2 тыс. учащихся, в том числе, — дети кочевни-ков20.
Битва за всеобуч не имела абсолютного успеха. Отсев рос от 3% в младших классах до 10% в старших21. А 3% от 12-ти миллионов — это 360 тысяч человек... Для России, соответственно, около 240 тысяч учеников. Вот почему в школах так долго, еще в середине 1950-х гг., существовали классы переростков. В 1940-е гг. среди переростков меньшинство составляли старшие РВ, потом — уроженцы 4-й пятилетки. Проблему не скрывали22.
Большое значение имело отношение к школе местных властей и хозяйственников. Прежде всего — райкомов партии. Так, в статье секретаря одного из сельских РК ВКП (б) Куйбышевской области говорится, что в 1950 году райком следил за удовлетворением школьных нужд из местного бюджета, за возвращением в школы отсева детей, и конечно — за расстановкой кадров, политучебой учителей, среди которых около 40% были коммунистами и комсомольцами. Из 233 учителей района 208 были агитаторами, 78 — лекторами, 25 — пропагандистами, 8 — общественными инспекторами РОНО23.
Судя по архивным данным, количество младшеклассников в Ленинграде также резко сокращалось (в 1,8 раза) в первой половине 1950-х. Не училось всего 615 человек, в том числе уклонялось от учебы лишь 77. Да исключено было за оскорбление учителей 119 человек24.
В каждом районе Ленинграда после Войны не хватало школьных зданий. Занятия в начале 1950-х гг. шли, в основном, в 2 смены. (По РСФСР в 2 смены работало больше 1/3 школ; и 1% — в 3 смены.)25
Обращаемся к статистике кадровой. В РСФСР удельный вес /у.в./ женщин среди учителей держался в первой половине 1950-х на уровне 77%, а среди групповодов начальных классов — 91-94%. Из числа последних высшее полное образование имели в среднем 0,5%, учительские институты закончило примерно 1,5%, свыше 90% имели среднее образование, как правило, — педагогическое. У.в. не имевших такового снизился с 8 до 2%26.
Об уровне жизни учителей в Ленинграде: в начальных классах их зарплата составляла 690 рублей в месяц, в средней школе — 850, преподающий директор средней школы получал до 2 тыс. руб., а зав. РОНО — 900. О национальном составе учителей (по Ленинскому району: русских 82%, евреев — 14%, остальных — 4%). Довольно высока была партийность учителей — 24,4%, но это — всех, а среди групповодов, наверняка, была гораздо ниже. Впрочем, ребенку важна была не партийность и диплом учителя, а его душа и умелость; в немалой степени последняя приходила с годами. В Куйбышевском районе со стажем до 5-ти лет было 24% учителей начальных классов27.
О состоянии преподавания и знаний (из ленинградского отчета за 1951/52 учебный год): "У многих плох почерк в третьих классах мужских школ" . (А ведь мы тогда писали пером № 11, выводили жирные и волосяные линии по полгода, согласно заветным Прописям, якобы продававшимся в магазине на Невском пр., д. 5. Предмет гордо и страшно назывался "Чистописанием")
Экзамен по русскому не сдали за IV класс лишь 20 из 2,3 тысячи учащихся. Но не все ученики сумели объяснить смысл выражений, заданных инспектором ("Отнёс полчерепа", "Батрак", "Кощей … чахнет", "Млечный путь"). Преподавание немецкого языка оценено как удовлетворительное, с английским было хуже. Есть слабости в преподавании рисования, пения — из-за трудностей материальных. С физкультурой дело обстояло неплохо 28 .
Не все 7-летние бывали физически готовы к учебе. На совещании учителей говорили: у ребят сердце слабо для длительных нагрузок. Дети трудно привыкают к школе, медленно усваивают общие понятия. Ставился вопрос о сокращении урока до 30-35 минут29 .
Впоследствии психологи признали обучение с 7-ми лет возможным, т.к. наряду с физиологическими переменами после кризиса 7-ми лет ребенок овладевает чувствами, может сдерживаться. Ценностями считает не только силу и ловкость, но успехи в учении. Главное — не задавить его двойками, если что-то не получается30.
Стремление к новизне, к положению школьника, когда РВ учились в начальной школе, было главным мотивом обучения в 1-2 классах для 80%, в 3-м — для 63%, а в 4-м — лишь для 26%. Но с каждым годом рос вес мотива "Завоевание места в коллективе", соответственно: 20, 37, 67%. Мотив "Положение в будущем" появлялся только в 4 классе и лишь у 4%31. Верить ли этим данным? Не знаю, смотря где проводилось обследование.
В плане социализации важнейшее изменение заключалось в том, что ребенок становился ОДНИМ из МНОГИХ, РАВНЫХ, как ученик в глазах школы — прообраза общества32. И должен был жить в школе по её правилам. В жизни всё было сложнее.
С одной стороны, после правительственных предписаний внешнюю дисциплину в школе администрация держала. Не забыть ежеутреннее построение всех классов в огромном зале 297-й школы, рапорт старшей вожатой директору: "Школа к началу занятий построена". Его команда: "Приступить к занятиям!", и мы расходимся по классам. В перемену до 5-го класса ходили по залу рекреации ПАРАМИ, по кругу. Пробежав по лестнице и быв замечен завучем, потом стоял у нее в кабинете после занятий часа 3, боясь, что бабушка волнуется.
С другой стороны, судя по отчётам:
• Группа 3-5-классников 152-й школы причинила тяжкие ушибы гирей и молотком двум детдомовцам той же школы . 4 человека исключены, директору поставлено на вид, учителям объявлены выговоры.
• По заявлению медработников, при принудительной стрижке ученика 6-го класса " в руках директора осталась часть волос" . ЛенГорОНО просит партколлегию Горкома ВКП (6) не снимать директора с работы и не выносить ей (Элиас-берг М. М.) выговор. (До 4-го класса включительно мы были обязаны стричься наголо, видимо, против вшивости. В 5-м классе оставляли чуб, а с 6-го — короткую прическу. Позиция Росминпроса была мягче — короткая прическа разрешалась и в младших классах. )
-
• Директор детдома № 35 принимает краденое и (о, ужас!) занимается спиритизмом!
-
• Учительница П-ва КА. дергает за уши (учеников), бьёт линейкой и оставляет класс на 2-3 часа за провинность одного. Поясняет: "Да, но только когда доводили до состояния большого расстройства". Наложено взыскание.
-
• Учительница С-ва бросила чернильницей с чернилами в ученика 4-го класса.
-
• Воспитанник детского сада Вова, 5-ти лет, был привязан воспитательницей к стулу. Есть синяки. Крик его не обеспокоил зав. детсадом.
-
• Из жалобы гр-ки Константиновой М.П.: ученики 406-й мужской школы ругают проходящих взрослых, бросают камнями, а в школе срывают уроки, крадут обеды, пишут ругательства на одежде малышей. Играют с презервативом, купленным в Военторге. Завуч пожимает плечами. ГорОНО отвечало: беспорядки подтвердились. Причина — частая смена учителей в З-б классе. Но желание родителей навести порядок "не всегда принимало педагогичные формы". После об-ращеия в Военторг презервативы в школе не появлялись.
-
• переписка на 12-ти листах о рассечении головы углом портфеля, брошенного одним учеником в другого. Причина — мать не в силах воспитывать, учительница слабая. Отказы в помещении в спецшколу психа и вора.
-
• Директор школы Макаров избил (говорит, что задел) в туалете трех куривших учеников35.
Воистину, Педагог — не машина, и если его достоинство оскорблено при учениках "ребёнком", которого поздно воспитывать, то физическое воздействие оставалось, остаётся и останется единственным средством.
Несколько штрихов школьного быта начала 1950-х гг. Нянечки-уборщицы зарабатывали в школе втрое меньше, чем групповоды (225 рублей в месяц). Но чисто было в школе. Парты — комбинации скамьи и наклонного стола — в основном, подходили нам по размеру. Чернила в чернильницы наливались из огромной бутыли. Переростки крошили туда мел, и писать после них было невозможно. Когда они шли по коридору, даже с учителем, мы прижимались к стене. Обычно стар- шеклассники нас не замечали. В туалетах ни они, ни мы друг другу не мешали делать свои дела. А в сельских школах, без водопровода, устраивались люфт-клозеты или просто выгребные.
В 4-м классе появилась школьная форма. До этого из учащихся форму носили только ремесленники, с номером училища в петлицах. А тут вдруг в 1954 году — и форма для школьников — мальчиков; девочки-то носили коричневые платья и черные передники (по праздникам — белые) издавна. Класс разделился на носителей полушерстяной и хлопчатобумажной формы. Мне ценой больших усилий и жертв бабушка купила полушерстяную гимнастерку и брюки, ремень и фуражку. Шинелей не ввели. Мы стали выглядеть более единообразно, но из формы быстро вырастали, рукава приходилось надставлять, ноги из брючек торчали. Хлопчатобумажная форма застирывалась, не поддавалась глажению... А подворотнички прибавили хлопот мамам и бабушкам. Как было в деревне — не знаю.
При школах работали столовые с буфетами. Родительские комитеты решали, кто получит льготное питание. Я не получал его никогда, поэтому завидовал другим, жуя за партой бутерброд и яблоко, принесённые из дома, под голодными взглядами нескольких, кому не давали ни копеек, ни завтраков... Иногда приходилось дать "кусить"…
Школьный быт включал в себя приемы общения, нормы отношений между учениками, между ними и взрослыми. Конечно, отдельно хорошие манеры не преподавались. Встретив грубость, учителя одергивали нас.
Но существовала, наряду с бытовой воспитанностью, целая наука о воспитании. Воспитывало ли обучение? В частности — преподавание элементарного курса истории? По замыслу авторов, — да. А по результату? Исторических деятелей дети делили на хороших и плохих, на тех, кто был за народ или против народа, иногда путая имена, периоды, т. к. деятелей этих упоминалось в 4-м классе 193! Пугачева путали с Отрепьевым, Карла XII называли татарским ханом, Суворова — советским генералом. О Зое Космодемьянской знали, но — из "Родной речи"36. Вот где ответ на вопрос, что из преподаваемого воспитывало. Не мог воспитывать учебник истории, из которого запоминались лишь фото Орджоникидзе и Кагановича как представителей "железной гвардии партии". Художественная литература, обращенная к душе ребенка, питала её чувствами. А знания были формой этого воздействия.
Руководящие документы требовали индивидуального подхода, а в классах сидело по 40-46 человек. Инспекторы отмечали в 1952 году в ленинградских школах: слабость пионерской работы (каждый 10-й пионер не успевал; не соблюдалась символика — Смольнинский район). Не работал учком; уроки шли шумно, неорганизованно — 179-я школа. Учителя истории не связывают материал с современностью, со стремлением народов к свободе и в наши дни — 311-я и 306-я школы Фрунзенского района. Там же отмечены: лохматость (учеников), бег, шум, свист на переменах37. (Значит не везде царил порядок, о котором было сказано выше).
Ученый педагог учил учителей: учитель должен воспитывать, опираясь на коллектив; советские дети решительно высказываются за наказание недисциплинированных учени-ков38. А мы-то знали, что осуждаемый учителем — физически сильнее, и подвесит синяк, если будешь его осуждать на пионерском сборе… Слова даже родных: "Ты учишься для себя" вызывали только бессильное, безысходное озлобление, ибо рас- стояние до будущего, когда могли сказаться результаты сегодняшней учёбы, представлялось необъятным.
Политическое и нравственное воспитание
Кажется, мы именно в эти годы начали ощущать фальшь, пронизывающую официальные лозунги, речи, наставления, документы. Я учился в трёх "детских" школах, но ни в одном классе не было "коллектива", а были группы приятелей по 2-4 человека.
Хотелось надеяться, что, вступив в пионеры, одноклассники изменятся к лучшему. Ведь мы давали торжественное обещание в Музее В.И. Ленина! Но и этого не случилось. Стыдновато было сидеть и на совете дружины, и принимать не— или полу-выполнимые решения. Ведь, чтобы их выполнить, надо было обращаться к одноклассникам, организовывать их, а это было СТЫДНО, и не только от застенчивости, но и от ложности всей конструкции, нужной только взрослым. Это они предписывали темы сборов ("Большевики покоряют пустыню"), велели нашивать траурные полоски на галстуки 1 декабря, в день годовщины убийства Кирова, давали учить перед 21 января такие стишата для траурного утренника:
"Ученик в костюме рабочего с молотом:
В походном френче человек // Над прахом друга и вождя// Поклялся знамя пронести // Через сраженья в чистоте…"
"Крестьянка (с нею двое малышей):
Забуду ли народный плач у Горок // И проводы вождя, и скорбь, и жуть, //И тысячи лаптишек и опорок // За Лениным утаптывают путь ..."39
Нет, не всё было ложью, иначе общество погибло бы сразу. Многое, вспоминаемое и читаемое в заметках, планах учителей воспринимается и сегодня нормально. Например, что плохого было в творческих играх, приучении к ручному труду (изготовить костюм и разыграть сказку в костюмах)? В изготовлении альбома для сельской школы с видами Москвы? В прогулках за город? В уходе за растениями и животными? В темах диспутов "Культура, честь, характер", "Главное в жизни", "Счастье"?40 Всё это, конечно, была нормальная детская школьная работа. Вероятно, она велась в меру формально, но пользу приносила.
Некоторым РВ повезло — их воспитывали педагоги по призванию, такие как В.А. Сухомлинский. Осенью 1951 года, загодя, он собрал родителей будущих первоклассников. Больше трети их росли без отцов, а 2 человека — без обоих родителей, унесенных или нравственно исковерканных войной. Целью В.А. было выпрямить душу, вернуть детство и этим ребятам. Им повезло. Они вступали в школу радости. Первая их встреча, в виноградной аллее, посвящалась открытию красоты природы…
Особенно ценны для нас заметки В.А. Сухомлинского о своих питомцах — РВ:
По хорошей народной традиции в семье Данька трое детей — 6,8 и 9-ти лет. Они — на хозяйстве: готовят еду, доят корову, работают на огороде…
Таня на ферме ходит за молодняком. Для нее это вроде игры, а всем — польза.
Володе слишком много дарят. А слушают его невнимательно.
У Вари отец болеет; мать-уборщица и старшая сестра вышивают на продажу.41
Не только характеры ребят, но и в значительной мере "понятийный аппарат", материал для интеллектуальной деятельно- сти будущего взрослого закладывался и складывался в детстве и отрочестве, в ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ. Сухомлинский пишет, что 7-летний ребёнок из семьи колхозника со средним образованием, из дома, где есть 3-4 сотни книг, понимает и чувствует 3 — 3,5 тысячи слов, в том числе полторы тысячи — его активный фонд. А рабочий, колхозник со средним образованием, в 45 -— 50 лет, имеет те же показатели, соответственно, 5,5 — 5 и 2 — 2,5 тысячи!42
…Политическим стержнем советского общества была Коммунистическая партия. Она имела детские и молодёжные организации, в частности, — пионерскую. О тесной связи пионерских и комсомольских организаций со школой говорит отчётность последней.
Из отчета ЛенГорОНО за 1951/52 учебный год. Работа шла, в основном, по звеньям. К 30-летию Всесоюзной пионерской организации проводились торжественные линейки с участием взрослых — пионеров 1920-х годов. Тематика сборов: "Дети Ленинграда в борьбе за мир" — с участием представителей стран народной демократии и героической Кореи, сборы по вопросам языка и языкознания (после работ Сталина — Ч.С.). Пионеры шефствовали над малышами, над семьями инвалидов воины и погибших воинов; участвовали в озеленении школьных участков, изготовлении наглядных пособий, в уборочных кампаниях в колхозах, сборе металлолома, древесных семян (последнее — для насаждения лесополос в засушливых районах. Сбор макулатуры начался позже, когда поняли, что железо тяжеловато для детей). Рост авторитета пионерской организации выразился в расширении ее рядов в Ленинграде до 98% детей пионерского возраста (8-13 лет). Успеваемость пионеров несколько выше средней43… Лукавый отчет…
Пионерская работа шла и вне школ. В России в 1948 году действовали 59 областных, краевых, республиканских (АССР) и 562 районных Дворцов и Домов пионеров и школьников, 140 станций юных натуралистов. Во многих райцентрах эти станции были единственными внешкольными учреждениями, ютившимися в комнатах при школах44.
Один из крупнейших — Ленинградский Дворец пионеров им. А.А. Жданова, обеспечивал занятия в кружках и клубах в 1952/53 учебном году 11,6 тыс. человек. Здесь обучали и старших вожатых. (Мы, вступив в пионеры, поначалу ждали очень много от старших пионеров, от старших и отрядных вожатых. Но старшие лишь председательствовали на советах дружины, и то не всегда; отрядных же мы, кажется, вовсе не имели. Видимо, не находилось комсомольцев на соседних предприятиях или в старших классах нашей школы, которые хотели или были бы вынуждены заняться нами. Может быть, по документам они и числились... Так что рассказы о хороших, интересных вожатых в газете "Ленинские искры" воспринимались мной так же, как голодными вологодскими колхозниками фильм о жизни кубанских казаков). На 57 новогодних представлениях побывало 22 тыс. детей и 9 тыс. родителей.
Да! Это было одно из самых радостных событий за всё пионерское детство. И — честь, т. к. билеты по 25 рублей классный руководитель вручал (продавал) лишь одному-двум лучшим по учебе и поведению в классе. И, вступив во Дворец, мы устремлялись к катальным горкам, настольному хоккею! А как мы помогали криками указующими добрым героям представления против злых, в частности, против противного, в подозрительном берете и темных очках американского шпиона, творившего козни, мешавшего зажечь огни на Ёлке!.
16 кружков работало в одном только секторе истории45.
Почему-то не решался в сентябре записаться ни в один. Думал: Дворец — для сверх— одарённых, не примут.
Среди исторических кружков были краеведческие, но, вероятно, работавшие с оглядкой на недавнее Ленинградское дело. Вообще же публичные признания в любви к "малой" родине появилась позже, ближе к 1970-м гг. Упоминания о попытке пионеров писать историю родного села, — редкость, тем более — для начальной школы46.
Скромнее, чем Дворцы, но доступнее были районные ДПШ (Дома пионеров и школьников). Из отчета ДПШ Фрунзенского района Ленинграда видно, что дети изучали жизнь и деятельность Ленина и Сталина, ударными были темы: "250 лет Ленинграду", "Социалистическая реконструкция в СССР", "Забота т. Сталина о Ленинграде", "Ленинград — центр технического прогресса", "Великие стройки коммунизма" ("Волго-Дон"). Упомянуты также 16 новогодних ёлок, 14 встреч с писателями, 9 утренников с рассказыванием сказок47.
Дети Москвы были в исключительном положении — они могли изучать подарки т. Сталину, стекавшиеся со всей страны в Музей Революции. Массово — к 70-летию вождя. Цель была — получить представление о силе народной любви к вождю, например, — белорусских мастериц, вышивших шелками письмо на 24 "листах"48.
VII Пленум ЦК комсомола в конце 1951 г. довольно реалистично оценил состояние 20-миллионной Всесоюзной пионерской организации: Пионерская жизнь идет неинтересно, малосодержательно. Надо превратить абстрактную гордость в конкретные дела. Сбор — не отчет с докладом учителя и содокладом пионера. Надо дать простор инициативе, и в то же время — не перегружать пионеров. На селе — не прекращать пионерские дела летом, как учат книги П. Павленко, Н. Дубова. Полезна книга о лагерях пионерских — "Яснокамское лето" Е. Пермяка49.
(Думаю, что детская литература тех лет была сильно разбавлена сладкой водицей. Впрочем, рассказы и повести П.Пав-ленко читались и перечитывались старшими детьми и подростками в своё время.) Как возможно было признание "Цекамо-лом" правды о положении в пионерских организациях? Может быть, разрешая такую оценку, партийные инстанции исходили из того, что дети, по малой искушенности в политике, лучше чувствуют скуку и фальшь?
Как и во взрослой общественной жизни, организаторы пионерской работы придавали политический смысл самым разным занятиям детей. Так, в статье о политвоспитании в отряде речь идёт не только о политинформациях ("Делегаты конференции сторонников мира", "Стройки счастья и стройки горя"), но — и об уничтожении пионерами 40 тыс. сусликов только в одном районе Орловской области, об уходе за посадками лесополосы, о помощи в учебе отстающим. Рефреном-заклинанием пионерии была тема "Мы Страны Советской дети, мы счастливей всех на свете!"50 Цитируемая статья упоминает об источниках информации о жизни страны, мира, пионеров: "Пионерской зорьке" по радио, газете "Пионерская правда", журналах "Мурзилка" и "Пионер". У нас дома не было денег на журнал, а газету ленинградскую с языческим названием "Ленинские искры" приходилось выписывать в порядке пионерской дисциплины. Там бывали занятные рассказы, повести с продолжением. Раздел же о пионерской жизни даже тогда вос- принимался как бесполезный — настолько наша отрядная формальная "жизнь" по указаниям классного руководителя не походила на ситуации из газетных материалов.
Летом, на даче, для одних РВ пионерская жизнь прерывалась. А для сотен тысяч других — продолжалась в городских и пригородных лагерях. О возможности поехать туда в нашей (с бабушкой) маленькой семье речь даже не заходила. Наверно, мне, домашнему, трудновато было бы находиться все время на людях, меньше бы читал, чем живя на даче. Но и у лагеря были свои преимущества — разнообразие занятий, режим, подчеркнутая символика, в которой была своя красота. А главное, пионерлагерь так или иначе готовил к вхождению в более взрослую, оживлённую, общественную среду. В частности — к армейской службе, хотя до неё и было очень далеко.
В лагерной жизни, начинавшей с подъёма флага на утреннем построении, особенно ярко проявлялась красивая ритуализация, объединявшая дружину и её подразделения. Психологически всё было выстроено очень точно, но, наверно, лишь для младших и средних по возрасту пионеров. Старшие, да и часть средних по возрасту ребят, этим тяготилась.
Полагаю, РВ были последним поколением, всерьез воспринимавшим на первых порах пионерскую идею, практику и символику-обрядность. Или предпоследним. А тогда, в 1950-е гг., сомнения, на которые наталкивала очевидность, всё же переплетались с верой, если не в реальность, то хоть в идею. И школа была одним из главных проводников партийных идей. В конце Перестройки и её (школу) публицисты оценивали односторонне отрицательно: "Вопреки провозглашённым партийной программой демократическим принципам образования, школу лишили самостоятельности, коллегиальности, ... а са-модеятельностъ учащихся направили только на обеспечение дисциплины и учебного труда"51. Родительским комитетам разрешалось только помогать администрации школ в осуществлении всеобуча, распределении пособий и льгот нуждавшимся и т.д.52
Помню, как бабушка штемпелевала сотни билетов на платные концерты, билетиков благотворительных лотерей в пользу самых неимущих семей учеников. Как покупала х/б-костюмчики и дешёвые ботинки тем, кому не в чем было ходить в школу. Как составляла акт обследования жилищных условий семьи Вити Маркелова, помещавшейся в подвале. От кровати к столу шли по доске, положенной на кирпичи, т.к. подвал подтопляло… Но наглец Вова Васильев жил в отдельной комнате, пусть и под отцовским плакатиком "Здесь живут 1 и 2". А толстый Леша Куликов носил новый шерстяной костям с шелковым галстуком!
Учкомы, старосты класса — всё это было таким же "самоуправлением", как какие-нибудь излюбленные головы при Иване IV или члены 6-гласной, но безголосой городской думы, — приводными ремешками к массе. Думаю, введение их в 5 — 10х классах по Положению от 4 августа 1950 г. имело лишь формальный смысл, ибо не все ученики были пионерами и комсомольцами, и прилично было иметь "непартийный" орган.
Выше были упомянуты спецшколы, в которых и не могло быть много передовиков — пионеров и комсомольцев, — там перековывали. Как?
Из отчёта Ленинградской городской школы с особым режимом за 1953/1954 учебный год:
Контингент — в основном, второ— и третьегодники, по- полнение на 11 сентября -145 чел., в том числе: за нежелание учиться — 34, воров — 86, хулиганов школьных — 47, за оскорбление учителей — 42. На уроках бывает нецензурная брань и курение. Из 209 человек оба родителя только у 46. В возрасте 8-12 лет (т.е. РВ) — 11 чел. Пополнение разлагает постоянный состав, но к середине года удается переломить дурное влияние, но не совсем, вследствие отрицательного отношения к учебе детдомовцев. Учатся только на истории — интересно-де. Читают по 17 книг в год, о войне и приключениях. Средняя экзаменационная оценка в четвёртых классах — 3,7. Прогресс есть. Снижение оценки за поведение в начале года у 96, а в конце — у 37 человек.
Пионерская жизнь: вновь прибывшие бьют, обзывают пионеров, срывают галстуки. Но организация растёт, с 32 до 49 человек, изучает жизнь и школьные годы Ленина и Сталина.
Режим: поощрение — увольнение в семью на выходной, наказания — лишение свиданий, передача на содержание в детские колонии МВД; сохранять контингент трудно, т. к. забор без колючей проволоки.
Состояние здоровья: в лазарете пробыли 105 человек 281 койко-день (травмы от ссор, выведение татуировок). Инфицированы по туберкулезу -— 65, ночной энурез — 9, мастурбация — 3…
Культработа: фильмы, 5 детских утренников…
Труд: в слесарной, сапожной и столярной мастерских; нужна помощь оборудованием и кадрами.
Связь с родителями: собрания посещают до половины ро-дителей53.
Вот, значит, как жила школа "на Верейской", коей пугали моих одноклассников — из самых отпетых. И здесь была своя борьба, чуть ли не политическая, против пионерии. Может быть, потому, что наступил уже 1953-1954-й год?
Ведь мы, в обычной школе, не боясь последствий, запели: "Берия, Берия, вышел из доверия // Раньше жил ты в Кремле, а теперь — в сырой земле. От Берии остались пух и перия … От фольклорного "еврея Берии"… до студенческого куплета "Огурчики и помидорчики// Сталин Кирова убил да в коридорчике…" оставалось 8 лет (1953-— 1961)…
А пока мы, с первых классов, из прессы и радио, узнавали о бесконечных и многообразных коварных замыслах и делах врагов мира, демократии и социализма. Таковыми были вне страны: американский империализм и его продажная агентура в правящих кругах стран-союзниц США; клика Тито, предавшая единство мирового соцлагеря; германский (западно) неофашизм. Этих я помню хорошо. Внутренние враги прошли как-то мимо сознания: космополиты (сионисты, панамериканисты, панисламисты), декаденты и формалисты, вейсманисты-морганисты. Помню только народный лозунг против евреев — кого бить, что спасать и куда отправлять. Он жил некоторое время и после закрытия "дела врачей", по инерции. Потом, в связи с девальвацией образов прежних внутренних врагов, на первый план выставляют бюрократа и несознательных сограждан, имеющих пережитки прошлого54.
К внешним врагам этих лет мы ещё вернёмся. А о внутренних...
Когда я узнал, что двоюродную бабушку Зою (З.К. Каужен) высылали на 10 лет (1938-1948 гг.) в Казахстан? Что приятель отца В.Б. Кестнер был там же как внук буржуя-кондитера и сын штабс-капитана, "прикинувшегося" в 1920-З0-е гг. мирным советским служащим и т.д.? Кажется, ближе к началу 1960-х. Об этом со мной в детстве, естественно, да и вообще дома не го- ворили. А что-то, возможно, пропускал мимо ушей. Не помню разной реакции ребят разного темперамента на одни и те же события. О политике мы, двое-трое приятелей-одноклассников, заговорили не раньше 1958 года. До этого события обсуждались почти исключительно внутриклассные, школьные. Может быть, главное, что нам, РВ, дала первая половина 1950-х, это чувство и знание нравственного и ПОЛИТИЧЕСКОГО предела, за который нельзя переходить: дома, в общении с близкими и чужими, со старшими и ровесниками, в школе.
Заканчиваю "политический" сюжет упоминанием о судьбе десятков тысяч РВ — детей "врагов народа". Сколько их было в начале 1950-х? В справке о спецпоселениях МВД СССР от 10 апреля 1953 года говорилось, что детей до 16 лет у спецпосе-ленцев было 803 тысячи. Но нас интересуют РВ. Справка гласит: "С момента расселения до настоящего времени (т.е. за 1941-1948 гг.) на спецпоселении родилось 82,4 тыс. человек, в т.ч.: у бывших кулаков — 22,2 тыс., у немцев — 22,2 тыс., у народностей Северного Кавказа — 26 тыс., у других контингентов — около 12 тыс."55.
Живого и мёртвого мемуарного материала немало в изданиях "Мемориала", в журналах 1990-х гг. Привожу лишь отрывок из воспоминаний одного из ведущих спецов НИИ ПО "Электросила" В.Домбровского:
"В 1951 году я ехал по этапу из Ленинграда в Сибирь. В общей камере одной из пересылок… увидел мальчиков 9-10 лет, детей раскулаченного литовского крестьянина. Они просидели три месяца в тюрьме МГБ и Особым совещанием высылались в Алтайский край к родителям. …У одного из них вскочил фурункул. Сидеть он не мог, а лежать ему днём не давали, хотя было разрешение врача. Каждый надзиратель поднимал его. … Палачи этих детей были уже из моего поколения и не исключено, что я на воле даже пожимал им руки. Все поколения причастны к нашей истории".56
То — тюрьма. А что же находилось между тюрьмой и домашними условиями? Правильно: спецшкола и "ремеслуха" с её общежитиями … В немалой мере они наполнялись подростками из разрушенных или уничтоженных семей.
О беспризорности, сиротстве, безнадзорностив эти годы
Судя по документам и прессе, внимание к проблеме безнадзорности и беспризорности усиливается в середине 1948 года. Подчеркивается необходимость широко привлечь общественность при домоуправлениях к работе с детьми57. Тогда же Правительство РСФСР одобрило опыт такой работы Комиссий содействия восстановлению и эксплуатации домов при домохозяйствах Ленинграда. Здесь охвачено было их работой 220 тыс. детей58.
Помню, что бабушка и несколько других пенсионерок-общественниц обслуживали в комнате, предоставленной для работы с детьми, библиотечку, показывали диафильмы, включали телевизор, распространяли льготные билеты на экскурсии по городу и на теплоходах (вокруг Кронштадта, в Невский лесопарк, в Шлиссельбург). И дети приходили, и вели себя прилично.
Из отчёта ЛенГорОНО об охране прав детей за первое полугодие 1949 года:
всего учтено детей разных категорий, нуждавшихся в охране прав, — 15 149 (в том числе РВ, вероятно, тысяч 7). Это те, которые уже были устроены в семьи, под опеку, и надо бы- ло следить за их положением там. Ведь бывали случаи истязаний, развращения опекаемых. За первое полагался срок заключения от 2 до 6-ти лет. Пособие на опекаемых и патронируемых оставалось малым, так что деньги собирали по линиям райсоветов, РОКК-а, ГК комсомола, и ГорОНО. В семьи на правах усыновлённых попало 3 тысячи из 15 тыс. детей. Устройство детей шло достаточно быстро: за полгода учли вновь 1777 человек, а сняли с учёта 1669. Сиротство сокращалось, больше становилось временно оставшихся без родительской заботы (болезнь, арест, командировки). Из 1777 устроено: под патронат — 132, под опеку-попечительство — 724, усыновлено — 507, в школы ФЗО — 78, в Детдома) — 33659.
Наряду с показательными детдомами /ДД/ было немало таких, из которых сбегали дети. Почему? Спящему надевали бумажные колпачки на пальцы и поджигали, обливали голого на морозе, дрались за зоны влияния на рынках так, что взрослые, в том числе, милиция, вмешивались лишь когда побоище начинало утихать. "Играют старшие на то, отдать ли меня педику за буханку, соседней бабке на студень или спустить в "туалет плавать". И я убегаю" , — вспоминал А.Приставкин60.
По итогам работы в детдомах Ленинграда в 1949/1950 учебном году было проведено совещание их директоров. Последние объясняли плохую успеваемость ребят материальными трудностями и предвзятым отношением учителей. Были и организационные причины: очень разный возрастной состав групп, обучение ребят одного ДД в нескольких школах. За год в городе сменили (или люди уходили сами) 21 директора ДД. В ДД "ссылали" неспособных работать в школе учителей.
Многое зависело от шефов. В 52-м детском доме шефы из Морской академии вели политбеседы (актуальные в принципе в ДД, т. к. там случались, как и в спецшколе, избиения пионеров). Люди из Большого драматического театра помогали "развивать речь" и приглашали отличников на спектакли, а фабрика им. Крупской делала конфетные подарки к дням рождения и по итогам года. Но даже такие роскошные шефы не могли одеть-обуть всю братию. В 48-м ДД не хватало одеял, подушек, и часть мальчиков была без брюк …
Методист упрекал школы, науку, физкультурников за малое внимание к ДД, а главное — указал на НЕЗНАКОМСТВО детдомовцев с жизнью (стахановцами, движением за мир). И.о. зав. ГорОНО показал распределение детдомовцев-выпускников: 520 — в ремесленные училища, 48 — в старшие классы, 7-8 — в вузы. О нехватках сказал твердо: ни подушек, ни ватных одеял нет.
Секретарь ГК ВЛКСМ критиковала ДД за слабость пионерской и комсомольской работы, признавая также вину вожатых-студентов. Директор женской школы № 409 говорила на совещании об образцовом, видимо, ДД. Питомцы отличались там упитанностью и хорошей одеждой! Помогали совхозам, занимались физкультурой, выступали с концертами в агитпунктах. И в школе детдомовцы отличались орга-низованностью61.
Далее беру за основу обычный ленинградский ДД — № 52, улица Марата, 64. На этой улице я прожил больше 30-ти лет и проходил в детстве мимо этого дома, за высоким каменным забором, с чувством острого любопытства, страха, непонимания, — как можно жить НЕ В СЕМЬЕ. (Сведения по ДД № 65 для сравнения привожу в скобках)
Из акта проверки: в доме 75 сирот и полусирот, трое — дети инвалидов, 3 ребёнка имеют родителей . (Это не много. В ДД № 65 на улице Чайковского было 100 детей, в основном — ДЕТИ ОСУЖДЁННЫХ. РВ составляли среди них около 1/3.)
Материально-хозяйственное состояние: капремонт сде- лан, но плохо. Жёсткого инвентаря — в достатке: мебель, бюст т. Сталина, пианино. Мягкого тоже хватает; но не тех размеров чулки, костюмы. Белье изношено, не закреплено за детьми. Видимо, как в тюрьме, сильные носили лучшее (из плохого), слабые — рвань. (В детском доме № 65 требовался капитальный ремонт.) На человека в спальнях приходилось 2,6 кв. м. Не хватало зимних пальто. Выходной одежды не было. Ботинки зашнуровывали тряпками…
Финансирование : 694 тыс. руб. на 1952 год, т.е., примерно 580 руб. в месяц на человека. Неплохо для начала 1950-х. Ведь это больше, чем средняя зарплата по стране. Но сюда входили и расходы на содержание здания, штата, так что на текущие нужды детей, возможно, приходилось не больше, чем у нас в семье на человека (1 тыс. рублей на троих).
Питание хорошее, с продуктами нормально. Но прием пищи проходит неаккуратно. (ДД № 65: То же. Нет дежурных, получающих пищу. Масло размазывают пальцем. ( Но и ножи им тоже не дашь… — Ч.С.).
Охрана здоровья, сангигиена. 23 воспитанника, т.е. около 1/3 детей, больны или ослаблены, у 6-ти — плохое зрение, но у 4-х нет очков. Зубные щетки и порошок есть. Баня — раз в неделю, смена постельного белья — 2 раза в месяц. Гуляют без галош и часто без пальто (как и теперь — Ч.С.). В душевой холодно и грязно. Медобслуживание хорошее. Дети жизнерадо-стные.(!) (ДД № 65: Врач работает на 1/2 ставки, медсестра — на полной ставке. Мыло есть не у всех, щётка и порошок — у некоторых старших девочек. Вещи лежат на кроватях. Вид детей нездоровый. У девочек — "загниженность" /т.е. гниды в волосах — Ч.С./. Изолятор грязный.)
Труд . Самообслуживание организовано. Учатся шитью, вышивке (девочки). Слесарная мастерская — на 6 мест и 2 станка, столярная — на 2 места. (ДД-65: есть инструктор по труду на 1/2 ставки, чинит бельё с девочками. Столярная мастерская на 6 верстаков.)
Внешкольная работа. С 13 до 18 часов дети занимаются, чем хотят: домашними заданиями, шахматами, гуляют во дворе. Праздники готовятся и проводятся, в т.ч. — дни рождения ребят и 5-летие ДД, но крайне мало идейно-политической работы. Мальчики и девочки дружат. Танцуют. (ДД № 65: Есть хор, 2 пианино, струнные. В библиотеке — газеты, журналы и 2 тыс. книг. Драмкружок. Кино — часто. Подвижные организованные игры не проводятся.)
Самоуправление. Детсовет обсуждает отстающих. (ДД-65: Планы есть. Детсовета нет. Провинившихся отчитывают на собраниях, проведен один сбор, о самодеятельности).
Шефы, попечительский совет — из Военно-морской академии, фабрики им. Крупской, Промкомбината, завода им. 2-й пятилетки. (ДД-65: шефы — из МГБ и Дома офицеров, проводят беседы по праздникам).
Состояние дисциплины. Коллектив не организован, дисциплина сознательная отсутствует. Трое воспитанников воруют. Портят электропроводку. Меры к прогульщикам за самовольные отлучки не применяются.
Составитель акта рекомендует: Запретить приносить от родственников мягкие вещи. Запретить отпуска к родственникам с ночлегом. Перестроить воспитательную работу в свете решений VII Пленума ЦК ВЛКСМ — организовать Дет-совет, включить в работу пионерский актив.
Отдельно привожу выдержки из акта проверки ещё одного, загородного, ДД, № 63, ибо тут были свои особенности. Дети всё время находятся на воздухе, организованно. Нормально с едой, одеждой, санитарное состояние удовлетворительное, глистов выводят. Воспитательная работа ведётся правильно.
Занятия: в старшей группе — разрисовывали салфетки, в средних — разучивали стихи, в младшей — читали Андерсена, но детям НЕПОНЯТНО.
Кадры: 4 воспитателя владеют коллективом, 2 — нет, 3 — не соответствуют должности62.
Итак, в лучших детских домах положение, в основном, соответствовало требованиям, в средних были отдельные нарушения, в худших — требовалось немедленное вмешательство, помощь и оргвыводы.
Из воспоминаний воспитанников ДД, из психолого-педагогической литературы известно, что дети и в семьях, и в детских учреждениях всегда нуждались не только в удовлетворении, по возможности, их материальных нужд, но и в заботе, ласке, в культурно-нравственном насыщении их души и ума.
Культурные влияния на младших школьников-РВ и их духовное становление
Оценка и самооценка. Физически и нравственно мы, РВ, тогда продолжали развиваться и в общении со взрослыми, и в играх, и читая, и слушая радио, и задумываясь о себе, о будущей обозримой жизни, и приходя в церковь, и оценивая одноклассников, ища друзей, и испытав первую влюбленность. Всё это совершалось одновременно, то в согласии, то в противоречии. Очевиден лишь стержень, на который все нанизывалось, — свое "Я", самое близкое, несовершенное, но и неизбывное, чаще — любимое, иногда — неприятное, но всегда главное. Оно (Я) оценивало себя по сравнению с сотнями других "Я" — в нравственном, физическом, культурном, умственном разрезе. Потом — по сравнению с представлениями о более далёком мире людей, с народом? Представления эти формировались и изустными сведениями, и СМИ, и искусством, и в первую голову — литературой.
Оценка и самооценка была у каждого своя, другой вопрос, — насколько осознанная. Мы (как и все /советские/ люди) знали о себе кое-что тайное, постыдное, но отношение-то к нам зависело от того, какими мы были явно и от принадлежности к общностям разного уровня. Смею предполагать, что к этому времени большинство из нас в семьях любили, жалели, так или иначе воспитывали, т.е. старались сделать нас лучше. Педагогической нормой считалось совпадение в главном домашней и школьной оценки каждого. Разногласия меж ними иногда нас утешали (дома), а чаще — портили жизнь (в школе). Но мы были не просто детьми, а — советскими, т.е. заведомо считались более сознательными и счастливыми, нужными народу как его продолжение. Т.е. ясные ориентиры оценки и самооценки были. Дальше начинались различия, проистекавшие от разной оценки нас, с одной стороны, школой, неродными людьми (соседями и пр.) и с другой — родными. Определяющее общественное значение имело мнение школы, причём оно выражалось в оценке успеваемости, поведения и прилежания. А это значит, что у нескольких процентов РВ самооценка покачивалась под толчками двоек по предметам и четверок по поведению, хоть вида наиболее сильные натуры старались не показывать. Что не всегда удавалось, и как же странно выглядел иной гроза класса, когда плакал, получив единицу или разгромное замечание с вызовом матери в школу. "Бьют дома", — понимали мы — и не злорадствовали. После родительских собраний словесные характеристики каждого обретали публичность и для взрослых. Почему для некоторых из нас определения школы не становились истиной в последней инстанции? Потому что не все родители видели в своих детях будущих инженеров, учёных и т.д., во-первых, сами не будучи ими, во-вторых, — не имея средств для платы за обучение, кою отменили позже. Что же до общественного, газетно-плакатного идеала, то в него не все мы верили. Короче говоря, явных нравственных мук даже в малоуспешной группе одноклассников по поводу их несовершенства не припоминаю. Тем более, что на труде и физкультуре они чаще всего бывали в числе первых как дети рабочих людей, умеющих владеть инструментами, да и гуляли, играли в подвижные игры они больше.
Воспитание и самовоспитание в игре. Учёные педагоги, организаторы пионерской работы признавали немалое значение игр. Сохранились описания рекомендованных массовых игр, не только спортивных. Но мы играли не по книжке, а по традиции — летом, и вообще вне школы. И прежде всего — в войну или её подобие, или во что-то, связанное с охраной выделенной зоны, или в выслеживание группы противника по стрелкам на земле, в обстреливание друг друга колючками репейника. А прятки, пятнашки, "собачки"?... Всё воспитывало ловкость, быстроту, реакцию ("Штандар"). Но не всё шло из глубины веков. И по-разному воспринималось в зависимости от характера, общей культуры. Та же игра "в ножички", когда при удачном броске-втыкании ножа у противника отрезался кусок его "владений", — ведь можно было воображать себя владетелем земель прирастающих или теряемых!
Книга о русских играх до 1-й четверти XX в. напоминает о многом, бывшем и при нас и отчасти передавшемся нынешним детям: о считалках, когда водящий определяется случайным выбором. Объективным свидетельством оценки извне, был сговор пар, примерно равных по силам участников, из которых "матери" — капитаны команд — по жребию выбирали себе по человеку.
Запрещаемое фехтование на палках, стрельба из луков… В дождь — игры в "цветы", с выбором партнёра противоположного пола, в испорченный телефон. Одной из самых удивительных была игра (с незапомнившимся названием), в которой по сигналу надо было принять красивую позу. Жаль, при этом не присутствовали студенты скульптурных классов Академии Художеств… Дразнилки, заклички, приговорки, небылицы — очень многое передавалось от поколения к поколению. Из игр — "чижик", разные виды лапты, городки63, если взрослые помогали сделать рюхи и палки. На одном из первых мест был футбол, вернее его упрощённое подобие, т.к. расчистить настоящее поле негде было и не приходило в голову. Да и отцов, старших братьев, чтобы помогли, у нас не было, или им было не до того.
Купание развивало, загар и согревание ног в горячем песке помогало от последствий рахита.
А вот лес, рыбная ловля и, конечно, огород имели не игровое, а насущное значение для пропитания. Летом настоящий обед на керосинке, потом — на керогазе, готовился не каждый день, кружка молока и краюшка хлеба — прекрасный дачный завтрак. И жаль было нести трёшки и пятерки за молоко, и — необходимо! Ужин — с огорода, редис с луком зеленым, ложечка сметаны с простокваши, хлеб. Стакан лимонада доставался лишь, если приехавшие к приятелю родители брали и меня с собой на пляж. Когда они приезжали на выходные, то нередко тоже играли, в мяч, но нас принимали в игру не всегда. А значение игры поднималось!
Государство придавало значение производству игрушек. С 1950-х гг. художественно-технические советы по игрушке появились в центре и на местах по постановлению Совета Министров РСФСР64. Но и до этого ЛенГорОНО докладывал Ленго-рисполкому /ЛГИК/: в соответствии с решением ЛГИК сняты с производства из-за низкого качества — бусы стеклянные ёлочные, трещотка, конструктор металлический…; из-за отсутствия спроса — куклы-лилипуты, мельница деревянная; из-за неверных сведений о русской технике — игра "Я знаю, кто изобрёл"; по идеологическим и педагогическим сообра- жениям отклонены игра "Взятие Берлина", резиновые куклы, копирующие зарубежные образцы — бульдог, клоун… Освоено производство игрушек десятков наименований: заводные механические животные, ёлочные украшении, детская посуда, конструкторы…65
Конечно, в младшем школьном возрасте огромную ценность в наших глазах имели доступные лишь немногим детские велосипеды, педальные автомобили. Как чудо запомнилась игрушка в доме моей ровесницы — корытце в виде порта с причалами, а в нём судёнышки с железными полосками под дном; магнитом снизу корытца их можно было водить по порту, ставить к причалам… Взрослые дарили игры настольные с путешествиями по этапам, с препятствиями — возвратами или остановками (Цирк, Альпинисты, Аттракционы и др.). Вдумчивого, скрупулёзного, редко гулявшего во дворе (меня) долго занимал конструктор металлический, из набора которого собирал то экскаватор, то грузовик и т.д. Очень много вырезали и склеивали из отдельных наборов и из приложений к детским календарям-альбомам. Венцом был крейсер "Аврора", почти как настоящий, склеенный, правда, с помощью подростка — соседа по даче. Из выпиливания ничего не вышло — быстро сорвалась резьба на зажиме лобзика, да и слово, и занятие было неприятным. Счастливцы — умельцы, или имевшие отцов-металлистов, шофёров, раскатывали на деревянных самокатах на подшипниках! Даже простые деревянные лодочки, вырезанные отцом, были радостью. С другой стороны, до сих пор помню стыд из-за мелкости, дешевизны, ненужности "подарка" соседке по даче, к которой шел на день рождения с пластмассовой свистулькой и копеечной книжкой. Зато и ей не разрешали давать нам покататься на велосипеде.
Бедность хорошо воспитывает, но тяжело переживается. Больше всяких игр и игрушек радовали нас с бабушкой конверты с 25-100 рублями, которые дарили мне на дни рождения её подруга и двоюродный брат. Отец, несмотря на ворчание бабушки, дарил КНИГИ, книжки, брошюры, но — какие! Былины, Лесков, Некрасов, Гоголь; до сих пор стоят на полках с его надписями сказки Салтыкова-Щедрина — странные, Василий Теркин — самая первая книга, прочитанная в 6 лет, автобиографическая трилогия Горького, прочитанная раз 10, рано открывшая мне одну Россию. Другую познавал из "Детства" и "Отрочества" Льва Толстого.
Книги. Открытие других миров. Телевизоров почти не было, радио давало мимолётные, хоть и накапливающиеся, представления о текущей жизни. Книги же открывали целые миры мест, времён, народов, общественных слоёв и групп, в том числе возрастных и — личностей. Такие же люди, как в книгах, возможно, жили рядом, но не открывались в обыденности.
К теме детского чтения журналы Министерства просвещения обращались регулярно. Школьный библиотекарь (московский) так расставил темы и жанры литературы по убыванию интереса к ним младших школьников в 1949 году: книги о вождях; исторические; сказки; о природе и животных; о путешествиях; о технике; о жизни советских детей; о детстве за рубежом. Политически подкованные младшеклассники при обсуждении книг давали классические формулировки: мальчик сделал вывод из книги "Разин Степан" о поражении Разина из-за отсутствия в России тогда рабочего класса (!). Ученик П.: у нас-де невозможно такое тяжелое детство, как у Вань- ки Жукова. Не уступало приведённым и высказывание ученика У. о книге Бадигина "Седовцы": советский человек честно служит Родине и в самых тяжёлых обстоятельствах, и она всегда приходит на помощь, ибо т. Сталин думает о каждом советском человеке!66
В журнале "Народное образование" положительную оценку получили книги о крымском подполье партизана-командира (И. Козлов), об уборочной страде в степном колхозе (П. Павленко), о столкновении личности и коллектива школьного (М. Прилежаева). Подчеркивалось происхождение героев войны из трудовых семей. Так, И. Кожедуб ("Служу Родине") работал с 9-ти лет. Высоко поднимали критики начатую публикацией большую повесть В.Осеевой "Васёк Трубачёв и его товарищи", "Записки офицера" Б. Изюмского. Критиковали за эстетство и гурманство литературоведов В. Шкловского и А. Ивича, — им-де мало правды в книгах, конфликтов. Льву Кассилю досталось за "клевету" на учителя — придиру и бюрократа67.
На сессии АПН и Министерства просвещения РСФСР 1952 г. называли удостоенные Сталинской премии стихи С. Маршака, книгу о Володе Дубинине (Л. Кассиль, М. Поля-новский), повесть А. Мусатова "Стожары", стихи Агнии Барто, поэму о Павлике Морозове С. Щипачева и пьесу С. Михалкова о советских детях, удерживаемых в английском приюте. Помню добрую половину названных книг. Причём — как прочитанных с интересом, но с подспудным любопытством к тому, насколько искренни авторы… Не те, кои писали о загранице. Там могло быть так плохо. А вот "внутренние" писатели — насколько?
Впечатляла количественная сторона: Госиздат детской литературы издал серию "Школьная библиотека" числом наименований свыше 1 тысячи тиражом 130 млн. экз. Но историк М.В. Нечкина сетовала на отсутствие (!) книг о Ленине и Сталине и малое количество — о революционном прошлом. Л. Кассиль "гнул" своё — не идеализировать героя68.
Литературовед Н.Н. Житомирова предлагала примирительную формулу: Конфликт нужен, но понятный детям. В её статье с одобрением названы: "Помощь идёт" Б. Житкова, "Первоклассница" Е. Шварца. Не прошла незамеченной книжка А. Голубевой о Сереже Кострикове, Е. Ильиной — о Гуле Короле-вой69.
Обобщая: главное в детских книгах — правда характеров, отношений. Прочее знание прилагается потом. Напрасно беспокоились свердловские учителя о непонимании 1-2-классни-ками деталей в сказах П.П. Бажова (де, сестёр и братьев Дарёнки отдали в детдом; драгоценные камни — это такие цветные стеклышки). Уверен: главное дети-читатели понимали: Фе-дюнька с дедом трудились, добывали золотишко, а богатые — отбирали. Своевременно для начала 1950-х звучал тезис (спорный) Павла Петровича: "Наши мастера — у немцев не учи-лись"70 . Но суть не в этом. Хозяйка Медной горы, Данило-мастер, дед Какованя и даже кошка Мурёнка — живы, и жить будут, радуя точным языком, звездными россыпями сокровищ, готовых к чудесам ребятишек новых поколений.
Так и вся лучшая советская детская литература… Достаточно просмотреть учебники о литературе для детей71, и мы вспомним с благодарностью не только крупнейших мастеров — Маршака, Чуковского, Житкова, Гайдара, Кассиля, но и писавших для взрослых, а написавших — для всего народа, в том числе — подраставшего: А. Толстого, Симонова, Твардовского.
И наоборот — многое в детской литературе открывало взрослым чистый образ Родины, детства.
Прежде, чем продолжить, я разложил на столе три десятка книг, которые сохранились из прочтённых дома, издания 1949-1954 годов. Не в забывшемся порядке прочтения, а по годам издания. Но это ничего, — ведь читались они сразу, как только попадали в дом. И в комнату вошел праздник:
с холма на холм поскакивает Бурушко-Косматушко под старым козаком Ильей Муромцем; страшные поминки творит в польских городах и местечках по Остапу полковник Тарас, и я 7-8-летний вместе с ним! Дивлюсь нерешительности Повара-грамотея из басни. Запомнились не только "сюжеты", но детали, а главное — Дух русский:
им овеян зародышек овса, мирно ждущий своего часа всю зиму ("Овсяный кисель" Жуковского); сверкание глаз Лесного царя; изумительно ясные — по-пушкински — гравюры Добу-жинского к изданию "Евгения Онегина" 1947 г. Чувства при этом были, конечно, разнообразнейшие:
-
— не знание, но ощущение, что происходящее в "Борисе Годунове" по времени где-то между былинами и горьковским "Детством";
-
— неприязнь к Ноздрёвым, чуждым по темпераменту, сочувствие так хорошо задуманной операции милого Павла Ивановича;
-
— над "Шинелью" и "Муму" я, кажется, плакал, и до сих пор боюсь их перечитывать;
-
— довольно равнодушное почтение к "сказкам" Н. Щедрина и М. Горького;
-
— сочувствие Саньке-Рыжику А.Свирского и зависть к его более "фартовому" товарищу Спирьке Вьюну;
-
- — ужас от грязи, издевательств, долбёжки в бурсе в изображении Н. Помяловского;
-
— радость при чтении детских стихов Маршака, Маяковского от того, что были, есть такие люди — для нас, детей; что уж говорить о Пришвине, Чарушине, Бианки, В.Л. Дурове — их книги были праздником без конца.
Не смущало, что в жизни не всё так хорошо, как в книгах с положительными героями и счастливым концом. Ибо в этом возрасте художественная литература — не столько отражение жизни, сколько сама другая жизнь. Потому угнетало, что не досталось прочитать про Васька Трубачёва. Потому и через 50 лет, читая дочке рассказ Житкова о маленьких человечках в кораблике, я разочарован тем, что они так и не показались. Чётко чувствовалась придуманность — например, книжки "Че-ремыш — брат героя", претендовавшей на реализм. А Николаю Носову верилось до мельчайшей детали, ибо свой Витя Малеев был в каждом классе страны. Очень симпатичны были ребята, жившие "На берегу Севана" В. Ананяна. Последний объект сострадания — это "Дети Горчичного рая" (Н. Кальма), негры США, притесняемые белыми. Так же искренне я, мы переживали голод и военные опасности греческих мальчишек, помогавших после Второй мировой войны отцам и братьям — коммунистам. Одним из лучших друзей СССР среди писателей запомнился Говард Фаст...
Но всё это верно только для активных читателей. Люди этой группы формируются как читатели уже к 15-16 годам. Далее идёт группа промежуточная, средняя, — где книги дома есть, а традиции крепкой ЧИТАТЬ нет. Традиционно отстаёт третья группа — село, ПТУ и т.д.72
Знакомство с литературным минимумом школа давала. Как? Как кому из РВ повезло. Но наша великая литература так прекрасна, что никакому чинуше в должности словесника, никакой "учительше", думавшей больше о приусадебном участке, не удавалось её засушить. ЕСЛИ ученики ЧИТАЛИ. Тогда любой отрывок из "Родной речи" жил и пел о себе сам. А то, что учи- теля работали как прозекторы, придумали бывшие ученики из второй и третьей группы по вышеприведённой классификации.
Беднее и проще дело обстояло с восприятием и с преподаванием музыки . Звучало радио, патефон, музыка, доносившаяся с танцплощадки, гармонь на сельской улице. Важнейшей частью музыкальной атмосферы была музыка к кинофильмам, которая потом долго жила самостоятельно. Ещё раздавались в деревенских клубах частушки, явление не столько музыкальное, сколько фольклорное. Для тонкой прослойки — классический музыкальный театр, филармония. Для еще более тонкой — церковное пение. Наконец, существовало домашнее музицирование в семьях профессионалов и любителей, а также — учившихся в музыкальных школах.
Начиналось же всё это почти для всех, с пения, напевания семейного, со школьных уроков пения. Предмет считался третьестепенным, и ничего, кроме названия нот и нескольких детских песенок большинство РВ из этих уроков не вынесло. Мешала, правда, техническая бедность. Даже в моих ленинградских школах мы не прослушали на уроках пения за 6 (?) лет ни одной пластинки. Может быть, где-то в стране и были учителя-энтузиасты, вдохновляемые Д.Б. Кабалевским…
Сохранились ли каталоги продукции звукозаписывающих предприятий? Крупных — возможно. Но на пластинках-малютках 1950-х гг. с записями популярных эстрадных песен и танцев часто значится как производитель "Артель такая-то". Но даже патефон был не в каждом доме. И на музыкальные фильмы ходили не каждый день. Оставалось радио, хотя и не везде. Сельская местность не была ещё покрыта сетью трансляции по проводам, а приёмники, если у кого и были, то часто молчали без питания.
Сколько музыки передавалось по радио? Какой? По объёму вещания — в несколько раз меньше, чем в нынешнюю эпоху музыкального оглушении и оболванивания, когда её подкладывают под все радиоматериалы.
О соотношении жанров. Смотрю ленинградские песенники 1950 и 1955 гг73. В каждом, примерно, по 35 текстов. Что было в обоих, т.е. что "они" (идеологи) хотели, чтобы мы пели? Или — "они" нам пели по радио, посвящая ряд программ разучиванию песен!
1 — Гимн СССР; 2 — "Широка страна моя родная..."; 3 — "Ленинские горы"; 4 — "Наш город" ("За заставами ленинградскими..."); 5 — Гимн демократической молодежи"; 6 — "Дай руку, товарищ далёкий"; 7 — "Комсомольская песня"; 8 — "Пройдут года" ("Песня трудовых резервов"); 9 — "Каховка"; 10 — "Летят перелётные птицы".
/Анекдот 1957 года: "Что осталось в Москве после Всемирного фестиваля молодёжи и студентов? Ответ: Дети разных народов"...
Из фольклорной переделки, позже: "Летят перелётные птицы://Булганин, Хрущёв, Микоян//На Кубу везут рожь-пшеницу, // а с Кубы везут обезьян..."./
Доля повторов наименований меньше 1/3, и это немало. Особенность второго сборника — адресованность молодёжи. Соответственно в нём: "Едем, мы, друзья" — о целинниках, "Орлёнок", "Это идёт молодежь", "Марш энтузиастов", "Спортивный марш", "Молодежная", "Назначай поскорее свидание", "Мы с тобою не дружили" и три песни авторов из стран "народной демократии".
Лучшие песни воспитывали и музыкальный вкус, приверженность к крепкой мелодической основе, и политическое сознание нашего величия, благородства советской миссии в мире, братства всех людей "доброй воли", безумия поджигателей войны. Песни учили любить и дружить. Но всё же это — для более старших, чем РВ тогда.
Пионерского песенного сборника тех лет нет под рукой, но кто из РВ, не помнит: "По улице шагает веселое звено…"?. Полуправду текста мы чувствовали и своё переложение пели так: "…Копейки собирает себе на эскимо // Собрали рубль 20, купили эскимо // Мальчишки все срубали, а "бабам" (т.е. девчонкам) — ничего".
Или: "Есть песенка весёлая у нашего звена ...", "У дороги чибис…". Суровость мальчишеская не терпела сантиментов, и вместо "Видишь, мы юннаты, мы друзья пернатых // И твоих, твоих не тронем чибисят" пелось "задушим чибисят". Отчаянные, на уроке пения, вместо "Жила-была пастушка, траля— ля ..." пели тихонько "п.здушка" ...
Даже песни гражданской войны мы не миловали: "По долинам и по взгорьям // Шла коза, задравши хвост, // И на Тихом океане // Разобрал её понос…" И вообще, этой песне не везло. Был вариант ".. .Шли мальчишки в огород, // Чтобы с бою взять морковки…". Заканчивалась песенка трагично: хозяйка огорода Марья обратилась в суд, "нам" дали 10 лет. … "10 лет мы отсидели, // 10 лет нам нипочём // Бабке Марье отомстили // По затылку кирпичом!".
Из исследования школьного фольклора:
Обманки: "...На палубу вышел капитан в черном фра-ке,//пуговицы — до самой сра….//…Зу видно — интеллигентный человек.
Тут же другая обманочка — первый сорт! : "Себя от холода страхуя,// Купил доху я на меху я.// Купив доху, дал маху я — //Доха не греет ни… ".
Из "испанского": "Дон Эскамильо на ходу // Схватил графиню за ...(мантилью) // Она сказала Эскамильо: //На бой быков я не пойду"74. Нашёл, кого и за что хватать, тем более — на ходу. Женщина обиделась.
Венцом песенного фольклора тех лет была балладка "В Кейптаунском порту" с кровавым сюжетом схватки атамана пиратов и молодого Гарри — из-за Мэри, разумеется. Такова была защитная реакция на "правилъные" пионерские сюжеты.
Отношение к народным песням помню двойственное. С одной стороны, все слушали с удовольствием их в исполнении по радио С. Лемешевым, Г. Виноградовым, и даже Полем Робсоном ("Ах, ты, ноченька..."). С другой, когда народные хоры затягивали не благородную народную классику, а псевдонародные поделки руководителей хоров, да ещё с взвизгами, бабушка выключала радио. Романсы, арии слушали, серьёзно — дома, но в детской среде об этом, ясно, не говорили. В классе звучали нематерные частушечки, для кого-то, может быть, и обидные, вроде: "Самолет летит, мотор работает // В кабине поп сидит, картошку лопает. // Картошка вкусная и рассыпается, // В кабине поп сидит и улыбается".
Что пели в деревне — не знаю. Сборники частушек тех лет отвратительны ходульностью текстов о богатой колхозной жизни. Но, может быть, там престижно было, наряду с бытовыми, лихими, придумывать частушки для концерта в клубе, для публикации в стенгазете? Первые строчки частушек ещё иногда узнаваемы, но дальше — продолжение в книге и в жизни — бывало разным:
Всё бы пела, всё бы пела,
Всё бы веселилася.
Меня выбрали в Совет, Всё бы с миленьким лежала,
А свекровь озлилася75. Всё бы шевелилася!
Опубликованные частушки 1950-х гг. откликались и на международные события: "Подписались под Воззваньем, // Чтобы миру тем помочь,// Громогласно заявляем: // "От Кореи руки прочь!"76.
Но в душу проникали лишь настоящие песни. Их носителями для меня были: бабушка с украинскими родными песнями, да приятель отца, В. В. Князев, из юнг Балтики, певший под аккордеон песни о море ("Золотые огоньки", "Раскинулось море широко"…).
Очень заметной была роль кино . Самое сильное киновпечатление осталось не от фильма, а от фотопанно в фойе "Колизея". То были кадры из "Мы из Кронштадта", "Чапаева". Из экранных сцен запомнились: детская коляска на лестнице в "Броненосце Потёмкине"; дикие крики Тарзана, лианы, Чита; пальба, дым из фильмов "Корабли штурмуют бастионы" и "Леди Гамильтон"; прелестная веснущатая мордочка героини фильма "Петер" и лишь название страшного фильма "Серебристо-серая пыль" — политического детектива о радиации. Один кадр из ленты "Падение Берлина" — Сталин в белом френче, галифе и сапогах; только название — "Сталинградская битва". Молодой Сергей Гурзо, скачущий в фильме "Смелые люди"…
Редчайшие для РВ посещения театров , даже в Ленинграде, не оставляли ещё большого следа. Знакомство с " изящными искусствами " для большинства из нас ограничивалось впечатлениями от цветных вкладок в тонкие популярные журналы.
Некоторая часть РВ могла испытать влияние религии , меньшая — влияние церкви в те годы.
Ещё глубже под пластами десятилетий залегают воспоминания о сфере чувств РВ. Но даже выявив все воспоминания, записанные РВ, распространять их на всё поколение нельзя. Пишущие — особый народ…
Вместо заключения
Предполагать, угадывать многое, описанное в этом очерке, можно было и до его прочтения, наверно. Так что главный итог его — наполнение живой, хоть и прерывистой, тканью наших представлений о конце 1940-х — первой половине 1950-х гг. с точки зрения ровесников Войны.
Список литературы Российские ровесники войны в младшем школьном возрасте (конец 1940-х - первая половина 1950-х годов)
- Сымонович Ч. К начальной истории ровесников Войны.//Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2013, № 1, с. 44
- Божков О. Заметки о детстве и социологии детства//Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2012, № 4, с. 22
- Попов В./алерий/Запомните нас такими. СПб.: Нзд-во журнала "Звезда", 2003, с. 32-33
- Житинский А. Типичный представитель//Звезда, 1990, № 1, с. 74-76
- Лейбович С.Р. 1941 -1991. Документы, материалы, комментарии. Пермь, 1993, с. 83-86
- Приставкин А. Рязанка//Знамя, 1991, № 3, с. 20, 72.
- Башкиров П.Н. Учение о физическом развитии человека. М.: МГУД962.
- Цейтлин А.Г., Торопова Г.К. Динамика состояния здоровья школьников за 10 лет//Известия Академии педагогических наук/АПН/РСФСР. В. 101. М., 1959, с. 337-355.
- Антропова М.В. и др. Динамика физического развития.. школьников пос. Глухово//Известия АПН РСФСР. В. 101, с. 382-390
- Собрание Постановлений и распоряжений Правительства РСФСР. 1944: № 3, ст. 16; №4, ст. 24-26; № 5, ст. 30; № 7, ст. 41; № 11, ст. 67.
- Загвоздкин Г.Г. Цена Победы. Киров, 1990, с. 229. 12 1952 год. (Передовая статья)//Народное образование/далее НО/, 1952, № 1, с. 5-8.
- Новый учебный год // НО, 1948,№ 9, с.7-8, 74-76; Наши неотложные задачи // НО, 1952, № 12, с. 8 - 10.
- Народное хозяйство РСФСР. Стат. ежегодник./далее -НХ РСФСР/М.: 1957, с. 307-308.
- Народное образование, наука и культура в СССР. Стат. сб. М.,1977, с. 7.
- Важное условие выполнения всеобуча//НО, 1948, № 7, с. 56.
- Желтов А. Усилиями школ и общественности // НО, 1950, № 1, с. 23, 63; Демин П. Учатся все дети // НО, 1949, № 12, с. 41.
- Каиров И. Некоторые итоги работы школ Российской Федерации за 1951/52 учебный год..// НО, 1952, № 8, с. 11; Совещание руководящих работников народного образования // НО, 1952, № 10, с. 75.
- Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1941-1961. М., 1988, с. 74;
- НО, 1948, № 3, с. 77; 1950, № 1, с. 64.
- Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1941-1961, с. 72.
- НО: 1948, № 7, с. 80; 1949, № 1, с. 8.
- Ленский И. Райком партии и школа//НО, 1950, № 7, с. 8-9.
- Центральный гос. архив Санкт-Петербурга/далее -Архив/, фонд 5039, оп. 3, ед. хр. 1665, лл. 16, 64, 68.
- НХ РСФСР в 1958 г. М.,1959, с. 452.
- НХ РСФСР. М., 1957, с. 313.
- Архив, ф.5039, оп. 3: ед. хр.1087, л. 29, ед. хр. 1359, л. 43, ед. хр.1294, л. 7.
- Архив, ф. 5039, оп. 3, ед. хр. 1529, л.25-226.
- Петухова О. Обучение детей с 7-летнего возраста//НО, 1948, № 4, с. 9-11.
- Соколова В. Н., Юзефович Г. Я. Отцы и дети в меняющемся мире. М.: Просвещение, 1991.
- Желтов А. Усилиями школ и общественности // НО, 1950, № 1, с. 23, 63; Демин П. Учатся все дети // НО, 1949, № 12, с. 41.
- Обухова Л.Ф. Указ. соч. с.270-272.
- Архив, ф. 5039, оп. 3, ед. хр. 1359, л.4.8.
- Сборник приказов и распоряжений Министерства просвещения РСФСР. М.,1954, № 46, с. 28.
- Архив, фонд 5039, опись 3, ед.хр. 1364, лл. 2-об., 36-48, 150-151.
- Самарин Ю.А. О системности и подвижности знаний учащихся.//Начальная школа/далее -НШ/, 1953, № 8, с. 12-20.
- Архив, указ. фонд и опись, ед.хр. 1716, л. 157, 172, 194, 233, 244.
- Степанов И. Требовательность в сочетании с доверием..//НШ, 1949, № 1, с.27.
- НШ: 1949, № 7; Климова З.И. Утренник памяти В.И. Ленина//НШ, 1949, № 1, с. 35.
- Ваничкина Н.И. К планированию воспитательной работы в 1 и 2 классах//НШ, 1949, № 7, с. 11-13
- Селиванов К. Диспуты в школе//НО, 1952, № 1, с. 58.
- Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинении. В 3-х т. Т 1. М.: 1979, с. 36-45.
- Сухомлинский В.А. Указ. соч., с. 33.
- Указ. архив, фонд и опись, ед. хр. 1529, лл. 197-201.
- Глаголев П. Некоторые вопросы внешкольного воспитания//НО, 1948, № 3, с. 9-11.
- Архив, указ. фонд и опись, ед. хр. 1695, л. 1-13.
- Голицын С.Д. Как мы писали историю своих сёл и своего края//НШ, 1949, № 11, с. 31.
- Архив, указ. фонд и опись, ед. хр. 1695, л. 42-46.
- Туманова А.М. О работе кружка по изучению подарков т. Сталину//НШ, 1949, № 12, с. 16.
- Советские пионеры//НО, 1952, № 5, с. 14
- Косарева А. Политическое воспитание в пионерском отряде//НО, 1953, № 4, с. 50 -55.
- Семин А. Политические сюжеты из жизни советской школы//Коммунист, 1991, № 9, с. 40.
- Положение о родительском комитете начальной, 7-летней и средней школы./М.: 1947/.
- Указ. архив, фонд и опись, ед. хр. 1865, лл. 1-41.
- Фатеев А.АВ. Образ врага в советской пропаганде 1945-1954 гг. Автореф. канд. дис. (ист.). М.: 1998.
- Лейбович С.Р. Указ. соч., с. 72-73.
- Домбровский В. Персональная вина и историческая неизбежность//Коммунист, 1989, № 12, с. 70.
- НО, 1948: № 7, с. 75.
- СП РСФСР, 1948, № 685 от 23 июня.
- Архив, указ. фонд и опись, ед. хр. 1281, лл. 1-14.
- Приставкин А. Ночевала тучка золотая, с. 31-38
- Архив, указ. фонд и опись, ед. хр. 1463, лл. 3-5, 9-61.
- Архив, указ. фонд и опись, ед. хр. 1882, лл. 15-22, 26-37, 135-143.
- Шангина И. Русские дети и их игры. СПб, 2000, с. 72-90, 109-179.
- НО, 1950, № 2, с. 75.
- Архив, указ. фонд и опись, ед. хр. 1087, л. 6-8.
- НШ, 1949, № 11, с. 29.
- НО, 1950, № 1, с. 70-73.
- НО, 1952, № 1, с. 75-78.
- Житомирова Н.Н. Чтение детской художественной литературы в 1-м классе//НШ: 1953, № 9; 1953, № 10, с. 27.
- Хропова Л.Д. Из опыта чтения сказов П.П. Бажова//НШ, 1953, № 10, с. 36-40.
- Советская детская литература. Учебн. пособие. М.: Просвещение, 1978; Детская литература. Хрестоматия. Учебн. пособие. М.: Просвещение, 1987.
- Васильева Е., Каганов Ю. Детская литература и проблемы социального развития молодёжи.//Детская литература. 1988. М.: 1988, с. 8-9.
- Песни. Л.: Лениздат, 1950; Песни. Л.: Лениздат, 1955.
- Русский школьный фольклор. М.: 1998, с. 458, 534.
- Русские частушки. М.: 1956, с. 254.
- Там же, с. 406.