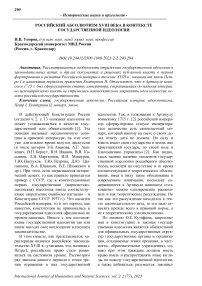Российский абсолютизм XVIII века в контексте государственной идеологии
Автор: Упоров И.В.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 2-2 (77), 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются особенности отражения государственной идеологии в законодательных актах и других документах и решениях публичной власти в период формирования и развития Российской империи в течение XVIII в., начиная от эпохи Петра I и заканчивая периодом правления Екатерины II. Отмечается, что в Артикуле воинском 1715 г. был сформулирован статус императора, сохранившийся до падения империи, но целенаправленно власть не стремилась законодательно закреплять идеологические основы российской государственности.
Государственная идеология, российская империя, абсолютизма, петр i, екатерина ii, монарх, закон
Короткий адрес: https://sciup.org/170197860
IDR: 170197860 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-2-2-290-294
Текст научной статьи Российский абсолютизм XVIII века в контексте государственной идеологии
В действующей Конституции России согласно ч. 2. с. 13 «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1]. Эта позиция вызывает неоднозначную позицию в правовой литературе, на этот счет уже длительное время ведутся дискуссии (в числе авторов Э.Б. Авакова, А.Г. Ани-кевич, В.П. Беркут, В.Н. Иванов, В.В. Касьянов, Л.Н. Мартюшов, И.Н. Мишуров, Т.Ю. Пастухов, Т.Ю. Петрова, Д.Ю. Цыганкова, В.А. Шамахов, В.Е. Шинкевич и др.). При этом, если затрагивается исторический аспект, то как правило приводится пример с СССР, где в конституционных нормах государственная (марксистско-ленинская) идеология имела соответствующее закрепление (наиболее наглядно - в Конституции СССР 1977 г.). Что касается Российской империи, то в тот период, как известно, конституции не принимались и государственная идеология официально не провозглашалась. Вместе с тем составляющие государственной идеологии так или иначе находят свое воплощение в текущем законодательстве.
В этом смысле, как представляется, характерным является российское законодательство XVIII в., учитывая, что, начиная с Петра I, российское право стало развиваться на системном уровне. Рассмотрим ряд законов данного периода с точки зрения отражения в них государственной идеологии. Так, в толковании к Артикулу воинскому 1715 г. [2] российский император сформулировал статусе императора: «его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять» [2]. Как видно, здесь налицо наличие элементов государственной идеологии российского абсолютизма, несмотря на отсутствие в то время соответствующего теоретического обоснования, имея в виду такое обоснование в современном понимании, поскольку содержавшееся в Артикуле воинском «толкование» можно одновременно расценивать и как теоретическое рассуждение. Но так как это рассуждение находится в тексте законодательного акта, то его надо относить прежде всего к правовой норме, а не к теоретическому умозаключению.
По мнению О.Е. Кутафина, закрепляемая в конституциях и законах государственная идеология является обязательной для официальных государственных структур (государственные органы и организации, создаваемые этими органами, в частности, образовательные учреждения), однако при этом граждане должны иметь право иметь и распространять иные взгляды по поводу государственной идеологии, а также добиваться, разумеется, законны- ми путями, изменения соответствующих конституционных и иных правовых норм. Иначе говоря, при идеологическом многообразии всегда должна сохраняться возможность политической борьбы за возобладание соответствующего мнения, воплощаемого в правовых актах [3, с. 117].
Соглашаясь в целом с таким подходом, вместе с тем обратим внимание на два аспекта. Первый из них касается акцента на формальную сторону, которая применительно к историческим эпохам имеет свои особенности. Так, в советских конституциях при монополии ВКП(б)-КПСС не предусматривалось инакомыслие; равным образом это относится и к периоду абсолютной монархии (как известно, инакомыслящие, диссиденты преследовались властями. И здесь возникает вопрос взаимодействия позитивного и естественного права, которое ранее имело существенный конфликтный характер [4, с. 37]. Поэтому, говоря о государственной идеологии в контексте политического плюрализма, нельзя забывать о том, что такой плюрализм в определенные исторические периоды был под запретом, причем этот запрет закреплялся законодательства. Второй аспект связан с тем, что государственная идеология может быть выражена не только в правовых актах, но и в иных формах, в частности, в решениях правящей политической партии, заявлениях должностных лиц.
А в XVIII в. существенное значение имели и иные документы, исходящие от монарха, и для примера можно назвать известный «Наказ Уложенной комиссии», написанный Екатериной II в 1767 г. [5], в котором официальная государственная идеология находила свое выражение, о чем ниже будет сказано подробнее. Оценивая далее XVIII век с точки зрения господствующей тогда государственной идеологии, отметим, что в этом столетии после Петра I приход к власти новых монархов осуществлялся, как правило, в результате интриг среди высшей аристократии и приближенных к трону высокопоставленных чиновников при активном участии гвардии (эпоха «дворцовых переворотов»), некоторые историки вторую четверть – середину
XVIII в. и вовсе определяют как «эпоху временщиков», подчеркивая, что престол занимали в основном женщины и дети, при которых огромную роль играли фавориты, временщики, чуждые стране (в числе авторов работ Т.П. Коржихина, С.Ф. Платонов, А.И. Сенин и др.).
Все эти события показывают типичную для того времени схему дворцового переворота, которая заключалась в захвате дворца с последующим провозглашением победившей группировкой всей полноты императорской власти. Обязательным следствием таких переворотов переворота было уголовно-политическое преследование побежденных соперников. Вместе с тем смена монархов не изменяла сущности абсолютизма в России. Соответственно государственная идеология оставалась прежней в своей основе, с учетом некоторых особенностей, обуславливаемых объективным ходом исторического развития цивилизации. В данном контексте можно увидеть, что эпоха Петра I явилась завершением процесса формирования российского абсолютизма, но в эту же эпоху абсолютизм был и наиболее полным его выражением. Тогда же стали упраздняться старофеодальные учреждения, а также было положено промышленному развитию страны. Одновременно расширилось и укрепилось крепостное право, в частности, в крепостное состояние были обращены многие ранее свободные люди, а тысячи крепостных людей приписывались к фабрикам и заводам. Как видно, при Петре I неограниченность власти монарха достигла максимального предела.
Последующий же, послепетровский, период стал этапом выработки пусть и не явных, но все-таки ограничителей полномочий монархов, не выходящих, однако, за рамки абсолютизма. После эпохи «дворцовых переворотов», во второй половине XVIII в., в России произошла стабилизация политической системы, были выработаны несколько обновленные формы взаимоотношений между монархией и обществом. Разумеется, это делалось не форме каких-либо законов; скорее, российскими монархами стали осознаваться пределы абсолютной власти, которые они старалась не переступать, понимая, что в противном случае политическая ситуация в стране может обостриться. Такое своего рода предупреждение для Екатерины II было, например, восстание Пугачева, и не случайно именно при Екатерине II часть государственной власти была делегирована местному самоуправлению согласно закону «Жалованной грамоте городам» (1785 г.) Вынужденность такого решения обуславливалась, как нам представляется, объективным ходом цивилизационного развития. Не забудем, что вторая половина XVIII в. знаменательна буржуазными революциями, когда значимость отдельной личности и общественного мнения были определены (наряду с другими) как высшие социальные ценности.
Эти процессы не могли не затронуть и Россию, но со своей спецификой, связанной с укоренелым абсолютизмом. Обновленный вид монархии в России можно определить как «самоограниченную». И эта самоограниченность, вероятно, во многом обусловила относительную успешность царствования Екатерины II, завершившегося без очередного дворцового переворота. С того времени необходимость считаться с общественным мнением стал проникать в содержание государственной идеологии, получившей название «просвещенного абсолютизма». Как отмечает С.М. Калашникова, одним из политикометодологическим отличием ее от традиционного абсолютизма была двойственность позиции властных структур: активно противодействуя попыткам изменить существующую политическую систему, власть одновременно делала частичные уступки требованиям общества. Так, Екатерина II в начале своего правления организовала созыв и работу Уложенной комиссии, в состав которой входили представители разных сословий. Аналогичная тенденция видна и в усилиях государства по распространению просвещения, а с середины XVIII в. и науки [6, с. 63].
Однако в XVIII в. не было ни одного монарха, который бы был последователен в своих даже незначительных устремлениях либерального толка – все рано и ли поздно становились, напротив, противни- ками либеральных изменений в стране, что проявлялось в укреплении властного централизма. Та же Екатерина II в начальный период своего правления Екатерина упразднила Тайную канцелярию как орган политического сыска с претензией на законность и справедливость государственного управления, но несколько позже создала Тайную экспедицию с теми же функциями, в том числе для преследовании инакомыслящих (например, арест Н.И. Новикова, ссылка А.И. Радищева). Как отмечается в литературе, не менее двойственный характер носила и социальная политика того времени. Так, если расширение привилегий дворянства, наиболее полно выраженное в «Жалованной грамоте дворянству» (1785 г.) выглядело естественно для абсолютизма, то покровительственная политика по отношению к предпринимательским слоям и создание городского самоуправления (упомянутая выше «Жалованная грамота городам») показывали осознание необходимости хотя бы частичных изменений в социальной системе [7, с. 224].
И все же главным направлением во внутренней политике оставалось стремление сохранить сложившиеся отношения в неизменном виде, что отражало особенность государственной идеологии того времени. Поэтому именно в XVIII в. крепостническая зависимость приобретает законченные формы рабства, превратив крестьян в бесправное сословие. Следствием этой политики стало нарастание со второй половины XVIII в. социальных конфликтов (то же восстание Пугачева). И если ранее такого рода протестные события (восстания Разина, Булавина) в советской исторической науке определялись как крестьянские войны, хотя таковыми не являлись, то восстание Пугачева можно характеризовать именно как крестьянскую войну – и по причинам, и по социальному составу участников, и по целям. Поэтому, несмотря на поражение, «пугачевское восстание стимулировало действующую власть на поиски решения крестьянского вопроса и в конечном итоге стало тем фактором, память о котором вынудила российское государство в следующем веке отменить крепостное право» [8, с. 117]. Как видно, для эпохи просвещенного абсолютизма характерно взаимопереплетение, взаимодействие и взаимное противоборство старого и нового во всех сферах жизни, либерализм и деспотизм в политике, расширение прав одних сословий и сужение прав других в социальной сфере, увеличение свободы предпринимательства и ограничение возможностей хозяйственных субъектов в экономике – везде наблюдается двойственный характер развития России в эту эпоху [9; 10].
Отмеченные особенности общественнополитического развития России в послепетровский период XVIII в. в той или иной степени проявлялись во всех сферах государственного управления и накладывали определенный отпечаток на содержание государственной идеологии. Во всяком случае, можно констатировать, что Российская империя в XVIII в., оставаясь по форме правления абсолютной монархией, вместе с тем по отдельным аспектам эволюционировала от петровского «абсолютного абсолютизма» до екатерининского «просвещенного абсолютизма», что создало определенные предпосылки для последующих изменений в соответствии с общецивилизационным развитием. Другое дело, что в России эти процессы происходили очень медленно, и постепенное отставание государственной идеологии от требований демократизма в итоге привело, уже в начале ХХ в., к крушению России как государства и появлению нового советского государства с новой государственной идеологией.
Список литературы Российский абсолютизм XVIII века в контексте государственной идеологии
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС "КонсультантПлюс" (дата обращения: 28.02.2023 г.).
- Артикул воинский // Российское законодательство Х-ХХ веков: в 9 т. - М.: Юрид. лит-ра, 1986. Т. 4. 511 с.
- Кутафин О.Е. Российский конституционализм. - М.: Норма, 2008. - 542 с.
- Рябченко Е.В., Палазян А.С., Рябченко А.Г. Теоретические и методологические особенности "возрожденного" естественного права в России конца XIX - начала ХХ века. - Краснодар: КУ МВД РФ, 2006. - 106 с.
- Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / Под ред. Н.Д. Чечулина // Памятники русского законодательства 1649-1832 гг., издаваемые императорской Академией Наук. - СПб, 1907.
- Калашникова С.М. Исторические аспекты формирования различных типов политического сознания в России во второй половине XVIII века: дис. … канд. ист. наук. - Воронеж, 2006. - 233 с.
- Марасинова Е. Н. Идеологическое воздействие политики самодержавия на сознание элиты российского дворянства второй половины XVIII века: по материалам законодательства и переписки: дис. … д-ра ист. наук. - М., 2008. - 531 с.
- Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII века: Очерки истории. - М.: АН СССР, 1982. - 288 с.
- Сорокин Ю.А. Российский абсолютизм в последней трети XVIII в.: дис.. д-ра ист. наук. - Омск, 1999. - 481 с.
- Омельченко О.А. Монархия просвещенного абсолютизма в России: Политическая доктрина, правовая политика, государственные реформы: дис.. д-ра юрид. наук. - М., 2001. - 389 с.