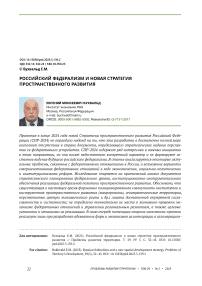Российский федерализм и новая стратегия пространственного развития
Автор: Бухвальд Е.М.
Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac
Рубрика: Пространственное развитие
Статья в выпуске: 5 т.29, 2025 года.
Бесплатный доступ
Принятие в конце 2024 года новой Стратегии пространственного развития Российской Федерации (СПР-2024) не оправдало надежд на то, что эта разработка в достаточно полной мере восполнит отсутствие в стране документа, определяющего стратегическое видение перспектив ее федеративного устройства. СПР-2024 содержит ряд интересных и важных инициатив в этом направлении, но они носят недостаточно конкретный характер и не формируют системное видение будущего российского федерализма. В статье анализируются некоторые актуальные проблемы, связанные с федеративными отношениями в России, и возможные варианты совершенствования федеративных отношений в ходе экономических, социально-политических и институциональных реформ. Исследование опирается на критический анализ документов стратегического планирования федерального уровня, институционально-инструментального обеспечения реализации федеральной политики пространственного развития. Обосновано, что существующая в настоящее время формально позиционированная совокупность институтов и инструментов пространственного развития (макрорегионы, геостратегические территории, перспективные центры экономического роста и др.) лишена достаточной внутренней согласованности и системности; не определено окончательно их место в экономико-правовом механизме федеративных отношений и управлении региональным развитием, а также целевые установки и механизмы их реализации. В свою очередь потенциал опорных населенных пунктов реализуем лишь при разработке адекватных форм и механизмов их интеграции в агломерационные процессы в регионах России, наличия условий и источников обеспечения их саморазвития как экономических центров для прилегающих территорий. Показано, что достижение баланса приоритетов выравнивания и экономического роста регионов России возможно только на основе разработки и реализации долговременной стратегии российского федерализма и его пространственных характеристик. Научная новизна исследования связана не только с проведенным анализом, но и с разработанными автором приоритетами реализации данной стратегии с учетом стоящих перед страной вызовов
Федеративные отношения, пространственное развитие, регулирование и его институты, развитие территорий, местное самоуправление
Короткий адрес: https://sciup.org/147251814
IDR: 147251814 | УДК: 332.14; 342.24 | DOI: 10.15838/ptd.2025.5.139.2
Текст научной статьи Российский федерализм и новая стратегия пространственного развития
Федеративные отношения, пространственное развитие, регулирование и его институты, развитие территорий, местное самоуправление.
Федеративные отношения – ключевой элемент политики пространственного регулирования и развития территорий
В последнюю четверть века, несмотря на существенное усложнение внутренних и внешних факторов развития российской государственности, устойчиво сохраняется представление о том, что именно система федеративных отношений остается ведущим условием сохранения целостности, поддержания экономической и социальной стабильности. Такая позиция сохраняет доминирующее положение даже на фоне заметного сокращения числа публикаций на эту тему в научной литературе (Валентей, 2025; Корольков, 2025). Можно заметить, что в настоящее время практически выпали из поля зрения многие вопросы, ранее активно привлекавшие внимание российских и зарубежных исследователей: соотношение симметрии и асимметрии федеративных отношений (противоречие между формальной симметрией и глубокой экономической асимметрией отношений), особая роль в составе федерации национально-государственных и административно-территориальных образований, соотношение конституционно-законодательных и договорных основ российского федерализма; соотношение трендов федералистского централизма и децентрализации и пр. Такая ситуация, действительно, создает впечатление, что круг наиболее острых проблем развития российского федерализма в основном уже исчерпан и конструктивно отрегулирован. Более того, складывается мнение, что многое в трактовке российского федерализма сейчас вообще склонилось к чисто формальной стороне дела, не имеющей прямой проекции на актуальные процессы в обществе и государстве. Особенно это касается периодического обновления институциональной и правовой основы федеративных отношений (Коротина, 2021; Одинцова, 2022; Институциональные основы…, 2023; Буз, 2025; Кузнецова, 2025; Уваров, 2023; Швецов, 2024).
Но, конечно, это далеко не так. Российский федерализм по-прежнему содержит в себе многие элементы традиционных формально-правовых конструкций. Однако новые условия политического и социально-экономического развития страны закономерно порождают новые проблемы, и они также должны находиться в поле зрения науки с точки зрения осмысления их сути и поиска путей их решения. Как здесь не вспомнить замечание В.И. Ленина в его статье «О значении золота теперь и после полной победы социализма»: «Лучший способ отпраздновать годовщину великой революции – это сосредоточить внимание на нерешенных задачах ее» (Ленин, 1921, с. 221).
Таким образом, несмотря на существенное усложнение внутренних и внешних факторов развития Российской Федерации, устойчиво сохраняется представление о том, что именно система федеративных отношений на деле остается ведущим условием сохранения целостности российского государства, поддержания его экономической и социальной стабильности. Однако сегодня говорить об исчерпывающем решении этих задач развития начал российского федера- лизма явно преждевременно. Конечно, круг наиболее злободневных проблем российского федерализма не остается неизменным и многие из них все еще не решены или с течением времени наполняются новым содержанием. В статье предпринята попытка выделить проблемные аспекты дальнейшей эволюции федеративных отношений в России, которые по-прежнему значимы для устойчивого социально-экономического развития страны, ее регионов и отдельных территорий, прежде всего на основе использования методов стратегического планирования и управления.
Федеративные отношения как объект регулирования
В российских условиях федеративные отношения – основа формирования и функционирования всей системы институтов публичной власти, а также «вертикали» стратегического планирования, в том числе пространственного стратегирования. Проблемы федеративных отношений, а в более узком смысле – сферы практической актуализации экономико-правового механизма федеративных отношений в целом – закономерно оказываются в центре широкого круга реформационных процессов в стране, определяют их последовательность и итоговую результативность (Валентей, 2025). Многими зарубежными исследователями также рассматриваются различные аспекты и проблемы трансформации федеративных отношений в разных странах мира, в том числе с точки развития институциональных структур (Lockner, 2013; Sosar, 2018; Chauhan, Mohanty, 2024; Demerev et al., 2025), влияния данных трансформаций на региональное и пространственное развитие (Hoffman, 1981; Dudek, Zademach, 2023).
Однако, как нам представляется, к настоящему времени сформировать стратегическое видение путей решения наиболее значимых проблем российского федерализма не удалось, нерешенных задач в этом направлении остается немало. С целью преодоления подобной ситуации за последнюю четверть века неоднократно делались попытки сформировать некую долгосрочную концепцию или стратегию российского федерализма, даже в рамках различных международных проектов. Неоднократно принимались программы развития бюджетного федерализма. В настоящее время действует такой документ, как «Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»1, уже, конечно, устаревший и во многом совпадающий со Стратегией пространственного развития России до 2025 года (СПР 2019 года) Некоторые аспекты пространственного развития отражены в Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (Указ № 309)2. Наконец, в конце 2024 года была принята новая Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года (СПР-2024)3, а в августе 2025 года утвержден план ее реализации.
Однако в случае с СПР 2019 года принимавшийся документ едва ли мог в полной мере рассматриваться именно как «план реализации». Скорее, он представлял собой план подготовки нормативно-правовых, методических программных и иных документов, отвечающих за реализацию СПР 2019 года. Конкретные ожидаемые результаты этой работы в плане не отра- жались. Примерно та же ситуация видится сегодня с планом реализации СПР-2024. Примечательно, что в обоих случаях документами предусматривалось проведение ежегодного мониторинга выполнения как самой стратегии, так и плана ее реализации. Тем не менее на деле исчерпывающие итоги такого мониторинга если и готовились, то не обнародовались.
Эти и иные документы как бы с разных сторон «рисуют» картину развития российского федерализма, его перспектив, но целостного видения проблемы, ее правовых, институциональных и экономических составляющих все же не дают. Результатами являются сохраняющаяся нечеткость в изложении принципиальных основ и задач государственной политики регионального развития, слабая аргументированность в определении основных институтов и инструментов этой политики, а также их специфических задач. Федеральную политику регионального развития и пространственного регулирования – квинтэссенцию экономико-правового механизма – по-прежнему характеризуют недостаточная институциональная и даже просто слабая понятийная проработанность и весьма трафаретно сформулированная целевая ориентированность. Это заметно даже при определении целевой функции самой СПР-2024, а именно – «формирование сбалансированной территориальной организации экономики». Но что значит «территориальная организация экономики»? Это ее административнотерриториальная структура в разрезе субъектов федеративной государственности? Или нечто иное? Какую структуру экономики в данном случае нужно считать «пространственно сбалансированной»; как и за счет чего она достигается? Есть ли прямая взаимосвязь сбалансированности территориальной (пространственной) организации экономики с эволюцией федеративной структуры российской государственности?
Ситуация неопределенности в этой сфере неизбежно проецируется на ключевые институты и инструменты политики регионального развития. Взять хотя бы такой принципиально важный институт, как геостратегическая территория – территория (по определению, данному в СПР), имеющая существенное значение для обеспечения территориальной целостности и национальной безопасности, развитие которой требует дополнительных ресурсов в связи со специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной деятельности (Распоряжение № 4146). Однако практически «уловить» и измерить смысл этого «существенного значения» весьма непросто. Справедливо задаться вопросом: а есть ли у нас вообще территории, не отвечающие этим признакам, т. е. территории, не имеющие существенного значения для обеспечения территориальной целостности и национальной безопасности, развитие которых не требует дополнительных ресурсов и пр.? На деле такие определения-пустышки крайне затрудняют разработку и реализацию государственной политики в сфере федеративных отношений и пространственного развития.
В связи с этим хотелось бы остановиться на ряде проблем системы федеративных отношений, которые сегодня нуждаются в последовательном решении. Прежде всего, в настоящее время постоянно обращается внимание на неразрывную связь процессов пространственного развития и системы управления ими на всех уровнях публичной власти с развитием экономико-правового механизма федерализма, с возможностью и даже необходимостью нового этапа федеративной реформы. При этом речь идет не о реформе в виде череды значимых, но разовых преобразований, а о системе концептуально осмысленных, логически взаимосвязанных преобразований, имеющих вполне определенные количественные и качественные критерии. Только такая реформа может сформировать надежную основу государственной политики пространственного развития. По сути, это определяется тем, что федерализм, федеративные отношения представляют собой основную институционально-правовую «оболочку» политики пространственного развития и регулирова- ния. Федерализм как бы формализует пространственно-управленческую структуру государства и управления, включая, конечно, и систему местного самоуправления (Бухвальд и др., 2023). На сегодня эта структура, по нашему мнению, представляется чрезмерно усложненной, трудно управляемой ввиду отсутствия четкой определенности относительно каждого из звеньев, в частности с точки зрения их особого места и целевой функции в экономическом механизме федеративных отношений.
В настоящее время пространственная структура российской экономики представлена различными территориальными образованиями, в той или иной мере выступающими в качестве объектов государственного регулирования, а именно макрорегионами, федеральными округами, геостратегическими территориям (субъекты Федерации и отдельные муниципальные образования). Также обозначена целая палитра «перспективных центров экономического роста»; имеются агломерации, в том числе около 40 крупных и крупнейших (Манаева, Мельников, 2025). Правительством РФ обозначено около 2 тыс. (2160 ед.) так называемых опорных населенных пунктов; действует 321 моногород; 14 федеральных наукоградов; имеется примерно 800 малых городов. Действуют 53 федеральные особые экономические зоны (ОЭЗ), из них 34 промышленно-производственных, 7 техниковнедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые, также имеется несколько десятков региональных ОЭЗ. Есть несколько «свободных» экономических зон (в новых субъектах РФ), один свободный порт (в составе двух муниципальных районов – Ванино и Совгавань). Создано почти 100 ТОСЭР, причем примерно половина из них – в моногородах.
При этом, однако, хорошо заметно, что эта формально позиционированная совокупность институтов пространственного развития лишена достаточной внутренней согласованности и системности. Ее отдельные элементы не отмечены четкостью целевых установок и своими особыми механиз- мами их практической реализации. Это ставит задачу оценки адекватности системы управления пространственным развитием в условиях государства федеративного типа, главный вопрос которой заключен в том, является ли эта система отношений сама по себе объектом централизованного регулирования – как с формальной точки зрения, так и с экономической. Мы полагаем такое регулирование не только возможным, но и необходимым, и оно должно осуществляться с позиции целостности этих отношений, их реальной симметрии, системности, прозрачности, эффективной управляемости, баланса централизации и децентрализации. Другими словами, социально-экономическое пространство должно быть реально управляемым на основе четкой определенности относительно функциональной роли всех его составляющих институтов, безальтернативности их места в системе федеративных отношений в целом.
Пока это удается далеко не всегда. Вот, например, застарелая проблема. Документы по проблематике федеративных отношений и политике регионального развития постоянно делают акцент (я почти цитирую) на «дифференцированный подход к реализации мер государственной поддержки регионов и муниципальных образований в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей». Наверное, это правильный и даже единственно возможный подход к политике регионального развития. Но остается неясным, как этот подход комбинируется с конституционно установленной нормой о равноправии всех субъектов Федерации во взаимоотношении с федеральным центром? В чем тогда принципиальный смысл этого равноправия? Где та грань, за которой это равноправие превращается в формалитет?
Тут, можно сказать, «роковое» противоречие политики пространственного регулирования. Если обеспечивается равномерность развития регионов, значит, консервируются разрывы в их социально-экономическом развитии. Если темпы диффе-ренцируются¸ значит, есть опасность¸ что в дальнейшем разрывы в социально-экономическом развитии регионов могут как сократиться, так и увеличиться (Ворошилов, 2023; Ускова, 2025).
Другой пример: в СПР-2019 заявлялась система так называемых «макрорегионов» и «геостратегических территорий» нескольких типов, а также перспективных центров экономического роста. Однако конкретный смысл и функциональная роль этих институций, их место в экономико-правовом механизме федеративных отношений и управления региональным развитием практически не конкретизировались. В частности, в СПР-2024 институт макрорегионов вообще оказался практически без внимания. В ней в качестве федеральных округов и в состав макрорегионов страны без всяких мотиваций просто добавляются Арктическая зона Российской Федерации и ее новые субъекты.
Еще один пример, может быть, не самый яркий, но вполне характерный, это запуск в 2020 году института так называемых «федеральных территорий» (Пичканин, 2023). При создании федеральной территории «Сириус» декларировалось, что это очень перспективное начинание, которое ждут многократные продуктивные повторения в различных регионах России. Однако этого не случилось, федеральная территория так и осталась единственной, хотя сам этот институт получил конституционный статус, чего не имеют ни федеральные округа, ни макрорегионы, ни геостратегические территории. Но главное, нет ответа на самый простой вопрос: зачем вся эта суета с федеральной территорией? По нашему мнению, в сложившихся условиях те важные задачи, которые поставлены перед территорией «Сириус», вполне могли бы быть решены в рамках уже действующих структур территориального управления, в частности на основе уже апробированной в российских реалиях модели особой экономической зоны.
Самым последним примером институциональных новаций, вводимых вне серьезной социально-экономической мотивации, следует считать систему опорных населенных пунктов (ОНП). Позитив этой практики заключен в актуальных попытках восстановить, учитывая опыт прошлых лет, принцип опорности или приоритетности в качестве одного важных регуляторов формирования институтов пространственного развития, прежде всего на региональном и субрегиональном уровне. В свою очередь негативный контекст видится в отсутствии на данный момент детальной проработки условий и механизмов практической реализации принципа опорности в рамках тех или иных ситуаций пространственного развития, в том числе с учетом многообразия регионов и территорий России.
Действительно, в новой Стратегии система ОНП отнесена к числу двух наиболее значимых приоритетов для определения долговременных ориентиров пространственных изменений в российской экономике. Однако ряд имеющихся здесь постановок вызывают некоторые сомнения. Так, современный зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что ключевую роль в пространственном развитии в современном мире по-прежнему играют крупные поселения, агломерации, мегаполисы и пр., а не те населенные пункты, которые в нашем представлении могут быть отнесены к «опорным» в городской или сельской местности. В этом смысле «аванс», выданный СПР в адрес института ОНП, реализуем лишь при разработке адекватных форм и механизмов интеграции ОНП в агломерационные процессы в регионах России, в том числе в качестве «опорных» по отношению к малым населенным пунктам. Далее, нельзя не заметить, что в трактовке воспроизводственной роли ОНП СПР явно делает избыточный упор на решение социальных проблем поселений. Эта мотивация так или иначе адресуется 1548 из 2160 общего количества ОНП в рамках пунктов Единого списка.
В результате из задач, решаемых на уровне ОНП, неоправданно «вымывается» приоритет достижения условий и источников обеспечения предпосылок «саморазвития» соответствующего круга муниципальных образований. Вне активной инвестиционно- экономической работы функция таких поселений как «опорных» приобретает формально-трансфертный характер передачи финансовых ресурсов на нужды «опекаемых» муниципалитетов, в том числе социального характера. Сегодня очевидно, что решение всего комплекса задач пространственного развития экономики невозможно без дальнейшего уточнения стратегических перспектив и задач российского местного самоуправления и последующей доработки федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».
Федерализм и проблема единства экономического пространства
Исключительно важной представляется та мера воздействия, которую модель российского федерализма оказывает на общее пространственное развитие страны и производительных сил в ее регионах. По нашему мнению, эта мера определяется как общими темпами роста национальной экономики, так и трендом межрегиональной экономической дифференциации. Наши исследования, о которых мы уже писали ранее, показывают, что тренда постоянного усиления или сокращения межрегиональной дифференциации в России не существует ( рис. ).
Данные рисунка свидетельствуют о том, что за последнюю четверть века показатели рассматриваемой дифференциации остаются относительно стабильными: межрегиональные разрывы не сокращаются, но и значительно не увеличиваются. При этом примерно до 2018–2019 гг. просматривался тренд волнообразного изменения этой дифференциации (нарастание разрывов в период роста экономики; уменьшение – в период стагнации и спада). Однако в последующем этот тренд был существенно деформирован условиями пандемии COVID-19, а затем и санкций в отношении России ввиду их специфического воздействия на экономику отдельных регионов страны. Но в целом уровень пространственной дифференциации в экономике страны по-прежнему не только высок, но и продолжает расти.
Так, по данным СПР-2024, доля девяти экономически ведущих субъектов РФ (включая Московскую и Санкт-Петербургскую городские агломерации) в совокупном ВРП России увеличилась с 50,2% в 2016 году до 53,2% в 2022 году. Такая дифференциация остается барьером интеграционных процессов в национальной экономике, в том числе ее развития как единого инновационного пространства. Складывается картина, что дифференциация нарастает за счет ускоренного продвижения ограниченной группы регионов-лидеров. А это, несомненно,

Рис. Децильные коэффициенты экономической дифференциации регионов России по ВРП и инвестициям на душу населения
Источник: расчеты сделаны к.э.н. А.В. Кольчугиной.
угроза для устойчивых темпов экономического роста страны на основе утверждения высокой национальной конкурентоспособности.
Строго говоря, нет достаточных доказательств, что сокращение межрегиональной дифференциации – обязательное следствие и индикатор продуктивной работы экономического механизма федеративных отношений, хотя прямая связь с решением проблемы поддержания единого экономического пространства здесь явно просматривается. Единое пространство не является исключительным свойством экономики федеративных государств, но в этих государствах достижение и поддержание такого пространства связано с целым рядом дополнительных условий как экономического, так и внеэкономического характера. Можно сделать вывод о том, что достижение целей позитивного экономического выравнивания выступает одним из наиболее важных критериев эффективности функционирования всего экономико-правового механизма федеративных отношений – как на федеральном, так и на субфедеральном уровне.
Но при этом есть очевидное противоречие для государственной политики пространственного развития. Так, при нацеленности государственной региональной политики на равномерное развитие субъектов Федерации и, соответственно, при неизбежном «сжатии» соответствующих стимулов их «саморазвития» последовательное сокращение межрегиональных разрывов невозможно. Если же это развитие складывается неравномерно, то межрегиональные разрывы могут как сокращаться, так и увеличиваться. Значит, в разработке государственной политики регионального развития необходимо опираться на принцип баланса ее основных целевых установок – ставки на дальнейшее опережающее развитие регионов-лидеров и особых мер, нацеленных на «подтягивание» регионов, устойчиво отстающих по темпам социально-экономического развития (Катонин, 2024). Пока в этой стратегической партии явно наблюдается «ничейный исход», поскольку в последние два десятилетия тренда постоянного усиления или сокращения межрегиональной экономической дифференциации в России не существует.
Сложность этой проблемы заключается в том, что истоки подобной дифференциации носят объективный характер, а возможности ее преодоления (нивелирования), очевидно, имеют экономически осмысленные границы. Как отмечалось одним из исследователей, межрегиональная экономическая дифференциация есть во всех странах как федеративного, так и унитарного типа. И вопрос не в том, как ее полностью ликвидировать, потому что это, по-видимому, невозможно, да и неправильно, а в том, в каких рамках и какими средствами эта дифференциация регулируема.
При этом достижение баланса приоритетов выравнивания и экономического роста регионов возможно только на основе разработки и реализации долговременной стратегии российского федерализма и его пространственных характеристик. Ранее и я, и многие коллеги высказывали мысль, что эту роль может выполнить система дополнений к СПР. Но сейчас приходится признать эту позицию ошибочной. Настоятельно необходима самостоятельная целевая стратегия развития экономико-правовых и институциональных основ российского федерализма. Наряду со стратегическими документами по местному самоуправлению это сформирует институционально-правовую основу политики пространственного развития России, позволит более четко структурировать институты публичной власти и определить наиболее целесообразные рамки политики социально-экономического выравнивания на межрегиональном и внутрирегиональном уровне. Как мы полагаем, эти документы должны сосредоточиться на следующих ключевых вопросах, системно отражающих все стороны современной практики публичного управления в условиях современной России.
-
1. Уточнение институционально-правовой структуры российской государственности с конкретизацией функций каждого из действующих в этой системе институтов на основе практики институционального стратегирования. Все округа, особые территории и прочие институты должны быть
-
2. Уточнение статуса и роли субфедеральных институтов территориальной организации и управления.
-
3. Уточнение рамок и процедур государственного регулирования системы местного самоуправления с более четким и развернутым изложением регулятивных полномочий федерации и ее субъектов.
-
4. Новая модель российского бюджетного федерализма с акцентом на самостоятельность регионов и самообеспеченность муниципальных образований.
-
5. Включение основных слагаемых федеративных отношений в круг объектов практики стратегического планирования (институциональное стратегирование). Обоснование федеративных отношений и их слагаемых одновременно как объекта и инструмента стратегического планирования.
-
6. Определение и постоянное поддержание предпосылок эффективного функционирования «вертикали» стратегического планирования на основе согласования стратегий развития всех входящих в регион территорий.
-
7. Особое внимание должно быть уделено территориальным образованиям, в той или иной мере выступающим на местах субъектами централизованного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания населения и пр.
«вписаны» в структуру российской федеративной государственности, а не числиться где-то «сбоку» от нее.