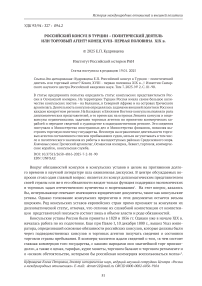Российский консул в Турции – политический деятель или торговый агент? Конец XVIII - первая половина XIX в.
Автор: Кудрявцева Е.П.
Рубрика: История международных отношений и внешней политики
Статья в выпуске: 2 т.7, 2025 года.
Бесплатный доступ
статье предпринята попытка определить статус консульских представительств России в Османской империи. На территории Турции Россия имела самое большое количество консульских постов – на Балканах, в Северной Африке и на островах Греческого архипелага. Деятельность консулов определялась задачами внешней политики России в каждом конкретном регионе. На Балканах и Ближнем Востоке консулы выполняли роль дипломатических представителей, в то время как на островах Леванта консулы и вицеконсулы ограничивались задачами торговых агентов по принятию коммерческих кораблей и передаче сведений о судоходстве в подведомственном регионе. Эти сведения поступали в Министерство иностранных дел и Министерство финансов, позволяя выстроить торговую политику государства. Несмотря на ограничение деятельности торговых агентов составлением списков прибывавших судов, нельзя не учитывать в том числе и политического значения их работы в малодоступных районах Средиземного моря.
Греческий архипелаг, Османская империя, Левант, торговля, коммерческие корабли, консульская служба
Короткий адрес: https://sciup.org/148331451
IDR: 148331451 | УДК: 93/94:327:094.2 | DOI: 10.37313/2658-4816-2025-7-2-81-90
Текст научной статьи Российский консул в Турции – политический деятель или торговый агент? Конец XVIII - первая половина XIX в.
В XVIII в. консульства подчинялись коммерц-коллегии, куда должны были регулярно отправлять подробные отчеты3.
Обязанности российских консулов на Востоке имели свои отличительные черты: консулы имели там гораздо большую важность, нежели в Европе, и занимались политическими делами. Известный юрист-международник Ф.Ф. Мартенс в своем труде «О консулах и консульской юрисдикции на Востоке» утверждал, что консулы в этих регионах фактически выполняют обязанности политических агентов, защищая интересы своих стран4. В 1808 г. шла подготовка «генеральных инструкций» для российских консулов на Востоке. Коллегия иностранных дел была обязана учредить консульский пост, назначить консула и привести его к присяге, выдать патент и паспорт, а также сообщить о новом посте российскому дипломатическому представительству. В 1807 г. вышла книга Ф. Бореля, назначенного главой Экспедиции консульских дел российского МИД, в которой была сделана попытка упорядочить консульские обязанности5. В 1808 г. сотрудник Константинопольской миссии, которая крайне нуждалась в консульских правилах, сделал перевод инструкций, предложенных Борелем, с французского языка на русский6. «Звание консула связано непосредственно со всем, что касается до торговли» - говорилось в инструкциях. Ему также предписывалось оказывать «всевозможное пособие… купеческим российским кораблям»7, для чего следовало вести журнал «портовых движений», передавать сведения о товарах, тарифах и пошлинах, о «состоянии торговли, фабрик и хлебопашества» в подведомственных округах и доставлять эти сведения в Министерство коммерции каждую треть года. В параграфе 6 говорилось: «Как скоро приплывает к порту какое-либо судно под российским флагом, консул немедленно посылает на оное вице-консула или канцелярского служителя для отобрания письменно, кто на оном корабельщик, какое число экипажа, как называется корабль, откуда прибыл и какой на нем груз»8. Консулы должны были оказывать покровительство своим соотечественникам: «Если какое-либо судно русское потерпит крушение, то консул… должен употребить все старание о спасении всего, что спасти возможно» - говорилось в параграфе 10. Вскоре последовали уточнения и замечания на этот проект. Так, в вышедшем в 1816 г. «Проекте предписания российским консулам» имелось важное дополнение: консулы должны были сообщать о политических событиях зарубежной страны9. А в «Замечаниях на проект консульской инструкции» за тот же год добавлялись статьи о правилах продажи российских судов в иностранных портах и уведомлении министерства внутренних дел России о распространении «заразительных болезней»10.
В 1818 г. российский посланник в Константинополе Г.А. Строганов разработал проект консульского устава, который не был официально утвержден, но, безусловно, послужил основой для принятого в 1820 г. Устава для консулов. Документ имел название «Проект положения для российских консулов и драгоманов в Турецкой империи» и датирован 1 (13) апреля 1818 г.11 В 89-ти параграфах «Проекта…» подробно объяснялись обязанности консулов, и несмотря на то, что документ так и остался в черновиках посольства, эти правила de facto соблюдались в практике представителей России в консульских учреждениях Турции. Поскольку не все правила консульской практики содержались в консульском Уставе 1820 г. и Строгановских проектах, служащим приходилось обращаться к более старым документам. Так, параграф 54 консульского Устава говорил о том, что консул должен разбирать ссоры шкиперов судов с командой и начальством «сообразно с правилами, изложенными в Уставе мореходства, изданном Людовиком XVI в 1781 г.»12. Ссылка на французский устав говорит об отсутствии в российском законодательстве какого-либо более позднего и подходящего к российским законам документа в области мореплавания.
Обязанности российских консулов на Востоке имели свои отличительные черты и не ограничивались покровительством торгово-экономической сферы.
Прежде всего это касалось консулов России на Балканах – официальные документы МИД признавали за своими консулами в Балканском регионе преимущественное значение их политической миссии в качестве дипломатических представителей России. «По существующим с Турциею трактатам консулы имеют там гораздо большую важность, нежели в Европе, ибо они занимаются политическими делами» - говорилось в одном из МИДовских документов 1841 г.13 На Востоке консулы имели и другие функции, а именно: наблюдение за внутренней ситуацией, настроениями и политическими симпатиями местного населения . Прежде всего это касалось регионов, имевших важное политико-стратегическое значение для России – это были Балканы, Дунайские Княжества, Ближний Восток.
Балканское направление внешней политики России получило свое развитие вслед за появлением в конце XVIII в. т.н. Восточного вопроса, который включал в себя проблему Черноморских проливов, борьбу османских христиан за свое освобождение и противостояние России политике европейских держав в регионе. Уровень политического присутствия России в Европейской Турции и регионе Греческого Архипелага был достаточно высоким и поддерживался развитием как уже существовавших, так и основанием новых консульских постов. Обширная территория Османской империи предполагала присутствие российских представителей не только в столице государства, но и в других важных в политическом и коммерческом отношении регионах. Российские консульства были учреждены на Балканах, в Северной Африке, Малой Азии, на островах Средиземноморья и южном берегу Черного моря. Всего Россия имела в Турции в первой половине XIX в. 14 представительств – больше, чем в любой другой стране, с которой Российская империя поддерживала политические отношения. Все они подчинялись российскому посольству в Константинополе.
Структура консульской сети в Османской империи претерпевала многочисленные трансформации вслед за изменением политической обстановки в регионе. Исчезали некоторые представительства, выполнявшие в Леванте чисто торговые функции, и открывались новые. Это было связано с расширением коммерческих связей российских черноморских портов, а также с новыми внешнеполитическими задачами России. В 30-е гг. перемены последовали вслед за получением независимости Греции и установлением дипломатических отношений между Россией и Грецией.
Следует сказать, что в важнейших пунктах сплетения международных интересов Россия стремилась иметь опытных, хорошо образованных консулов. Они обучались в Отделении Восточных языков при Азиатском департаменте МИД, являлись выходцами из дворянской среды, знали несколько европейских и редких языков. Зачастую представители аристократических семейств, не имея возможности получить высокую должность при посольстве, начинали свою деятельность в качестве консулов.
Российское консульство в Белграде было открыто в 1838 г.14 Оно выполняло роль политического учреждения на всем пространстве Балканского полуострова. Первым российским консулом в Сербии, получившей к тому времени статус Княжества, стал Герасим Васильевич Ващенко, прошедший хорошую школу политической работы, служа в Константинопольском посольстве с 1821 г. Его донесения в Российский МИД имели важное значение для знакомства с общей обстановкой в регионе и носили характер глубоких аналитических записок. Все записки составлены прекрасным литературным языком и свидетельствуют о хорошей ориентации в весьма запутанной в это время обстановке внутриполитической борьбы в сербском обществе. Кроме того, Ващенко тесно общался с консулами Англии и Австрии, был в курсе той политической игры, которую вело английское правительство с целью привлечь сербское руководство на сторону Великобритании. Его переписка с российским посланником в Константинополе, а также с сербским вождем Милошем Обре-новичем заслуживает отдельной публикации как пример деятельности ответственного и опытного политического представителя России в регионе, представляющем интерес для целого ряда европейских держав.
Ващенко прибыл в Белград, когда Сербия с помощью России уже получила статус автономного Княжества. Ее лидер Милош Обренович стремился сделать свой княжеский титул наследственным и прилагал для этого много усилий, заигрывая с турецкими властями. Его деятельность шла вразрез с интересами российского руководства, принося ощутимый вред политике Княжества. Милош, ранее добивавшийся учреждения в Белграде российского консульства, после прибытия Ващенко в Белград стал больше доверять английскому представителю, который поддерживал авторитарные устремления князя. Ващенко внимательно следил за перипетиями сербской политики, объединив вокруг российского консульства противников Милоша. В российский МИД поступали от него подробные сведения обо всех изменениях в настроении князя и предпринимаемых им действиях. Все это помогало российскому руководству лучше ориентироваться в изменчивой ситуации Сербского Княжества, еще недавно представлявшего собой оплот политики России на Балканах.
Еще одним регионом международной заинтересованности был Ближний Восток - Сирия и Палестина. В 1839 г. в Иерусалиме было открыто консульство, преобразованное в 1844 г. в генеральное. Его возглавил Константин Михайлович Базили. Писатель, признанный современниками, исследователь истории Сирии и Палестины, Базили оставил большое эпистолярное наследие. Его многочисленные записки о положении христианских народов в Палестине внимательно изучались в российском МИД. Значение бейрутского генерального консульства возросло в конце 40-х гг. ХIХ в., когда стали отчетливо вырисовываться контуры будущего политического противостояния великих держав на Святой Земле. К.М. Базили неожиданно оказался в центре событий, к которым было приковано внимание европейских политиков. Его донесения в Петербург содержали самые свежие сведения о разгоравшемся конфликте и помогали разобраться в сложных хитросплетениях предпринятых Портой шагов, приведших к военному столкновению. В 1840 г. Базили разработал «Правила для русских православного исповедания поклонников, прибывающих в Иерусалим». В 55-ти параграфах «Правил» излагались основные принципы поселения и проживания путешественников в Палестине15. При разработке «Привил…» Базили опирался на уже имевшийся документ, который ранее был подготовлен российским посланником в Константинополе Г.А. Строгановым, но расширил и конкретизировал эти правила. Базили являлся автором двух книг «Очерков Константинополя» и научного труда о Сирии и Палестине, которые были высоко оценены современниками и Н.В. Гоголем, с которым Базили учился в Нежинской гимназии и поддерживал дружеские отношения.
Особую важность имели донесения Базили о состоянии Иерусалимской церкви. Эти известия представляли особый интерес в связи с усиливающейся ролью лютеранских и католических миссионеров в Святой Земле. Паломническое движение из России расширялось с каждым годом. В России выходили настоящие «путеводители», содержавшие подробные сведения о том, как добраться в Иерусалим, какие деньги придется израсходовать, где поселиться и какие приношения необходимо принести. Базили принимал непосредственное участие в приеме паломников, а позже встречал представителя православной церкви, который был направлен в Святую Землю для усиления роли православия в этом важном для России регионе. В условиях активного экономического и культурного наступления западных держав на Ближний Восток в России было принято решение об отправке в Иерусалим русского священника под видом простого паломника – так начала свою деятельность первая русская духовная миссия, возглавляемая архимандритом Порфирием.
Другим важным пунктом, сведения из которого имели важное значение для российского правительства, были Дунайские Княжества – Молдавия и Валахия. Они обладали ав- тономией, но входили в состав Османской империи. Именно в Княжества вступала русская армия, когда объявлялась очередная русско-турецкая война. Должность генерального консула в Бухаресте являлась ответственной, ему подчинялись отделения в Яссах, Орсове, агентства в Галаце и Адрианополе16. Донесения консула ложились на стол российского императора. Если с Белградом и Бейрутом Россия не имела никаких экономических отношений и должность генерального консула в этих провинциях была целиком политической, то Княжества поставляли в Россию сельскохозяйственные продукты, будучи заинтересованными получать взамен готовую фабричную продукцию.
Генеральное консульство России было учреждено в Бухаресте, а в Яссах находилось консульство, которое имело подчиненный характер и не занималось «большой политикой». Судьба ясского консула Н.К. Безака свидетельствует о том, что жизнь в захолустье, каковым являлась столица Молдавии Яссы, была весьма трудной. Отчаявшись получить хоть какие-то инструкции от Министерства иностранных дел, Безак стал умолять директора Азиатского департамента МИД К.К. Родофиникина отозвать его из «этой гадкой земли». «Мы с женой ежедневно молимся перед иконою с лампадою, – писал несчастный директору Азиатского департамента, - чтобы Вы сотворили благо и освободили нас отсюда»17.
Среди значительных, политически значимых мест присутствия российских представителей можно упомянуть консульский пост в Александрии, который приобрел важное значение в годы турецко-египетского кризиса 1832-1833 гг., когда Россия стремилась как можно больше узнать о делах в Египте и посылала туда своих опытных дипломатов – А.О. Дюгамеля, а позже - А.И. Медема. Кроме политической составляющей они должны были осуществлять связь с Александрийским патриархатом, который наряду с Иерусалимским и Антиохийским неизменно находился в фокусе внимания российских властей. Внимание к Египту определялось и активной политикой Франции, которая традиционно имела значительное влияние в этом регионе Османской империи и подогревала сепаратистские устремления египетского паши Мухаммеда Али. Россия, не заинтересованная в развале турецкой империи, не поддерживала правителя Египта, хотя и была заинтересована в развитии торговых связей с регионом.
Одновременно Россия имела многочисленные консульства и торговые агентства на Греческих островах Архипелага, в портах, где велась активная торговля с Россией. Первые российские консулы на островах Архипелага столкнулись с враждебным отношением местных властей, а после объявления войны в 1787 г. им было предписано покинуть пределы Турции18. Одесса и Таганрог имели торговые связи с островами Сира, Санторини, Милос, с портами Наварин, Патрас, Пирей. Торговый агент мог не иметь дипломатического статуса, не принимать присяги, не получать жалованья от Российского МИД. Консулами здесь в основном были выходцы из Леванта – греки, итальянцы. Их обязанности ограничивались принятием торговых судов и предоставлением сведений об их количестве и грузе, которые они обязаны были отправлять своему генеральному консулу для дальнейшей передачи в российское посольство. Деятельность таких консулов и агентов не имела политической составляющей и представляла ценность из-за их хорошего знакомства с местными законами и обычаями и знания турецкого и греческого языков. Однако их сведения о торговых оборотах, представляемые в департамент внешней торговли, имели значение для составления общих планов торговли России.
В 30-х гг. XIX в. одновременно с деятельностью Ващенко в Сербии, Базили - в Сирии и Дюгамеля - в Египте в вице-консульствах и торговых агентствах Архипелага вели свою деятельность многочисленные выходцы из Леванта. В обязанности консула или торгового агента входило представление отчета обо всех российских судах – или судах под русским флагом, заходивших в подведомственный порт с товарами. Списки этих судов отправля- лись генеральному консулу на Поросе Дж. Власопуло, а тот в свою очередь передавал их в российское посольство в Константинополе для представления в департамент внешней торговли министерства финансов. В списках указывались: даты прибытия и отбытия судна, имя капитана и хозяина судна, число команды, название корабля и его принадлежность стране, порт отбытия и следования, а также характер груза и его количество. Иногда отдельные бумаги составлялись на каждое судно. Остров Сира (совр. Сирос), лежащий в центре Кикладского архипелага, являлся центром оживленной средиземноморской торговли. Торговые корабли, следовавшие из средиземноморских портов к Черноморским проливам, неизменно делали остановку в порту Сиры. Российский торговый агент на острове Лука Свиларич регулярно отправлял в российский МИД списки прибывавших кораблей. Так, с января по сентябрь 1831 г. остров посетили 79 русских торговых судов с грузом вина, деревянного масла, морских губок. Корабли «Святой Спиридон», «Роза», «Леонида», «Ахиллес», «Пенелопа» и др. следовали на Санторини, Смирну, Александрию, Венецию, Ливор-но19. Корабли принадлежали Джованни Захарову (Захар Захаров, константинопольский купец), Николо Кристодуло, Теодоссио Киладино, Луке Скараманго. Торговый агент на о. Санторини Джованни Лапопуло сообщал в 1831 г. о прибытии на Санторини 35 торговых судов, следовавших в Константинополь, на Крит, Смирну и Сиру с грузом вина, являвшегося основным продуктом, вывозимым с острова и имевшего отличный сбыт в черноморских портах20.
Вице-консул России в Патрасе Каллогераки составлял список судов, прибывших в порт, указывая, что среди них на протяжении всего 1833 г. не было ни одного русского. Лишь в 1834 г. в Партас прибыл торговый корабль «Il Cedro», груженный зерном и следовавший на Корфу, имевший портом приписки Измаил21. Капитаном числился Дионисио Сангусси, который предъявил патент, выданный в Санкт-Петербурге, и паспорт, подписанный 16 мая 1833 г. посланником в Константинополе А.П. Бутеневым. Несмотря на отсутствие русских торговых кораблей в порту Патраса отчет о прибытии иностранных судов был вовремя представлен российскому посланнику. Следует иметь в виду, что торговые суда, принадлежавшие грекам, выполняли рейсы с товарами, назначенными к черноморским портам.
Вице-консулы и торговые агенты выполняли указания, поступавшие не только от вышестоящих консульских работников и посланника в Константинополе, но и от начальников черноморских портов. Так, в феврале 1831 г. Управляющий одесской конторы Петр Иветт направил российскому консулу в Морее Власопуло указание продать находящееся в Сире судно «Новая Россия». Он объяснял это требование тем, что судно, принадлежавшее торговому дому Сарато и Вераки, требовало серьезной починки, которая могла обойтись в 400500 испанских талеров22. Без починки судно не смогло бы дойти до Одессы, в связи с чем одесская контора полагала более выгодным продажу судна в Сире. Этим тоже должен был заняться российский консул, что соответствовало обязанностям консула согласно Уставу.
Торговые корабли, проходившие Константинопольский канал и направлявшиеся из Черного моря в Белое (название Средиземного моря) и обратно, должны были получать паспорта в российском посольстве. 12 декабря были опубликованы правила судоходства через Босфор, подписанные российским посланником в Константинополе Г.А. Строгановым. Они были изданы на итальянском и греческом языках – основных языках средиземноморского судоходства. Согласно этим правилам суда, следовавшие через Проливы, должны были получить разрешение в посольстве. Следовало также учредить морскую полицию для защиты от пиратов23. Строганов сообщал также и о необходимости иметь санитарное разрешение на проход судна, во избежание «заразительных болезней». Особенно это касалось судов, следовавших из Египта и Турции, где свирепствовала чума. Паспорта подписывались посланником и заверялись управляющим коммерческой канцелярии. В январе
1818 г. Строганов циркулярным письмом сообщал всем российским консулам и агентам в Леванте новые правила навигации и торговли в регионе24.
На протяжении всех 30-х годов паспорта подписывали А.П. Бутенев и П.П. Пизани. Их подпись стоит на выданных паспортах греческим судам «Аспазия» под управлением капитана Дмитрия Гризлова, «Святой Николай» капитана Дмитрия Питагули, «Леонида» капитана Антонио Манолоруло, «Пенелопа» (А.Мангана), «Святой Дмитрий» (Микеле Скандали), «Евангелиста» (Джоржо Мавруди), «Афины» (Джерже Хриссули)25. На корабле «Афины» паспорта были выданы российским подданным - членам команды, однако все фамилии моряков были иностранными: Эммануил Дандрелли, Константил Папандопуло и т.д. Российский подданный Иван Пападаки - грек, проживавший в Керчи - объяснялся в Константинополе о цели плавания принадлежавшего ему судна «Пенелопа». Пападаки, подписавший документы по-русски, свидетельствовал о том, что его торговая компания ведет свои коммерческие дела в Черном море с 1775 г., т.е. с даты заключения Кючук-Кай-нарджийского мира26.
Все эти сведения коммерческого или бытового характера отправлялись в российское посольство в Константинополе и в департамент внешней торговли Министерства финансов в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что связь с российской столицей осуществлялась непросто - депеши шли долго, по нескольку месяцев, и предавались «с оказией». Получить указания и быстро отреагировать на сложившуюся обстановку было невозможно. Так, 23 июня 1830 г. консул в Морее Власопуло запросил из министерства финансов копию консульского Устава от 1820 г. И хотя ответ из министерства, подписанный Бибиковым, последовал достаточно быстро, 21 августа, он был получен Власопуло только 2(14) ноября27. Одновременно инструкции генеральному консулу в Морее из министерства финансов, отправленные 29 июля 1830 г., достигли адресата только 7 января 1831 г.28 Очевидно, для того, чтобы попасть в порты Архипелага или континентальной Греции, использовали попутные коммерческие суда, которые следовали по своему собственному маршруту.
Кроме этих обязанностей консулы должны были регулярно снабжать посольство сведениями об экономическом состоянии подведомственного консулу края, основных культурах его сельского хозяйства и основных статьях торговли. В посольство поступали ежегодные отчеты вице-консулов и торговых агентов из самых удаленных уголков Османской империи, где присутствовали российские представители, о состоянии торговли и основных продуктах сбыта. В 1847 г. Титов получал отчеты о торговле из Бейрута от К. Базили, из Трабзона – от Дендрино, из Дарданелл – от Фонтона, из Эрзерума - от Жабы, из Адрианополя – от Ващенко, из порта Галлиполи - от Христофора Зафираки Иоанну. Конечно, на островах Архипелага основным продуктом сбыта было вино, которое ценилось в России и через порты Черного моря распространялось по всей территории империи. Не всегда сведения, поступавшие от консулов, были достоверными. Это подтверждает т.н. «винное дело», которое оказалось в центре внимания МИД и министерства финансов в 40-х гг. XIX в.
Оно было связано с подлогом, который осуществлялся при закупке французских вин, выдававшихся на российской таможне за греческие 29. Подлог производился в нескольких местах Турции – в Сире, Смирне и Константинополе. Греческие купцы, имевшие торговые дома в Одессе и Таганроге, при отправлении своих судов из России нагружали их пустыми греческими бочками, которые потом и наполнялись европейскими винами. Заходя потом в Сиру, эти суда брали на борт некоторое количество греческих вин, которые и показывались на таможне30.Расследование продолжалось во Франции и в Греции. Как оказалось, в деле были замешаны российские торговые агенты на островах Архипелага. Для распутывания этого дела были привлечены как посланник в Константинополе, так и ряд консулов в Северной Греции. Вся переписка по данному вопросу была засекречена. Министр финансов, обращаясь к Нессельроде, указывал на огромный ущерб пошлинного сбора, который следовал за ввозом в Одессу французских вин под видом греческих, поскольку таможенные пошлины на иностранные вина вдвое превышали пошлину на греческие31.
Таким образом, российский генеральный консул на Востоке – в центрах присутствия европейских держав и сплетения международных интересов, выполнял дипломатические функции по проведению в жизнь важнейших внешнеполитических задач своего правительства. Его донесения имели важнейшее значение для ознакомления российского МИД с обстановкой в регионе. Инструкции консулам также ставят перед ними политические задачи.
Однако вице-консулы в самых удаленных местах на Балканах или на островах Архипелага, обремененные, казалось бы, только пересылкой в Россию таблиц с именами прибывающих кораблей, не заслуживают имени лишь торгового агента. Прежде всего потому, что сведения торговых представителей становились ценным материалам для составления общего торгового баланса и учета коммерческой активности иностранных держав в регионе. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что само присутствие представителя России в том или ином уголке Османской империи так или иначе служило к расширению знаний местного населения о России и укреплению его неявного влияния на обстановку в регионе, в том числе влияния политического характера.