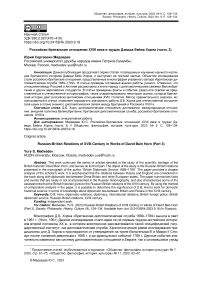Российско-британские отношения XVIII века в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 3)
Автор: Медведев Ю.С.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2023 года.
Бесплатный доступ
Данная публикация продолжает серию статей, посвященных изучению научного наследия британского историка Давида Бейн Хорна, и выступает ее третьей частью. Объектом исследования стали российско-британские отношения, представленные в монографии указанного автора «Британская дипломатическая служба 1689-1789». В статье приведен поглавный анализ работы ученого. Отмечено, что отношения между Россией и Англией рассмотрены в книге наряду с дипломатическими связями Великобритании и других европейских государств. В статье приведены факты и события, редко или совсем не представленные в отечественной историографии, также охарактеризованы некоторые оценки, которые британский историк дает российско-английским отношениям XVIII столетия. Метод сравнительного анализа, использованный в статье, позволяет определить значимость работы Д.Б. Хорна для отечественной исторической науки в плане знаний о дипломатических связях между Британией и Россией в XVIII в.
Д.б. хорн, дипломатические отношения, дипломатия, международные отношения, внешняя политика великобритании, британская дипломатическая служба, российско-британские отношения, xviii в
Короткий адрес: https://sciup.org/149143475
IDR: 149143475 | УДК: 930.2:327(470+410) | DOI: 10.24158/fik.2023.9.18
Текст научной статьи Российско-британские отношения XVIII века в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 3)
Монография Д.Б. Хорна «Британская дипломатическая служба 1689–1789» вышла в свет в 1961 г. (Horn, 1961) Данное исследование стало едва ли не первым трудом английских историков второй половины ХХ в., в котором всесторонне рассматривался такой специфический государственный институт, как дипломатическая служба. Хронологические рамки исследования традиционны для Д. Хорна и простираются от утверждения на троне Вильгельма III и Марии II Стюарт после «славной революции» 1688 г. и до французских событий 1789 г. Данные события значительно изменили как систему дипломатических отношений в Европе, так и сложившийся уклад внешнеполитического ведомства Великобритании. Проблемно-хронологический метод исследования позволяет всеобъемлюще осветить исследуемую автором тему. Источниковой базой монографии послужили документы различных британских архивов и библиотек, в том числе хранящаяся в них разнообразная переписка английских государственных деятелей, состоявших на дипломатической службе в интересующий нас период. Необходимо отметить, что многие документы, приводимые историком, не были опубликованы ранее и остаются труднодоступными для исследования спустя более полвека после выхода монографии.
Цель настоящего исследования – ввести в научный оборот материалы по истории российско-британских отношений XVIII в., в частности, отраженных в обозначенной монографии Д. Хорна. Это особенно актуально, поскольку ни одна из работ британского историка не была переведена на русский язык. Некоторые из них были проанализированы нами в предыдущих публикациях (Медведев, 2020 а, б). Наряду с проблемно-хронологическим подходом мы будем использовать сравнительный метод.
В каждой из пятнадцати глав, рассматривающих отдельные аспекты дипломатической службы, материал изложен в хронологическом порядке, с примерами по всем значимым странам Европы с 1689 по 1789 гг.
В первой главе «Внешняя политика и дипломатическая служба» Д. Хорн описывает эти явления в начале исследуемого им периода.
Во второй главе «Анатомия дипломатической службы» историк дает краткую характеристику дипломатических отношений между Великобританией и основными европейскими странами, в том числе и Россией. Он пишет, что возрастающая значимость отношений с ней видна в том, что Вильгельм III не считал необходимым иметь дипломатических представителей в России до 1699 г., и отношения между двумя странами могли быть полностью разорваны с 1719 по 1730 гг.1, в то время как после 1740 г. дипломатические представители в Петербурге часто назначались в высшем ранге посла – амбассадор2. Затем автор развивает свою мысль: «Единственным послом между 1689 и 1743 гг. был лорд Уитворт, который был специально направлен в ранге “амбассадора”, для того чтобы принести извинения за оскорбление русского посла в Лондоне… в правление королевы Анны», «наши отношения с Австрией были намного теснее, чем с Россией, вплоть до 1756 г., но послы высшего ранга направлялись ко двору императоров (германской нации) крайне редко» (Horn, 1961: 21). Несмотря на то, что Екатерина II в начале своего правления выступила против, послов высшего ранга продолжали присылать к её двору (Horn, 1961: 21). По мнению историка, это делалось для того, чтобы польстить российской императрице и подчеркнуть значимость для Лондона торгово-дипломатических отношений с Петербургом. Далее с английским юмором Д. Хорн как бы нивелирует привлекательность подобных миссий в Россию: «Конкуренция за назначение в Петербург была крайне редка. Когда в 1754 г. Джозефа Йорка предложили перевести из Гааги в Петербург, тот ответил: “Я не слишком хорош во многих делах, но я, правда, слишком хорош для этой страны”» (Horn, 1961: 22).
После этого автор резюмирует: «И Британия, и Россия получали выгоду от взаимной торговли, и она значительно выросла в течение XVII в. Многочисленные попытки обеспечить эффективное политическое сотрудничество, особенно в середине XVIII столетия, провалились; но взаимные экономические интересы помогли избежать реального разрыва дипломатических отношений. Нет причин сомневаться, что симпатии Британии были на стороне России во время русско-турецких войн в правление Екатерины, но попытки Англии избежать оказания существенной помощи против Турции стали одной из причин того, что политический союз не был реализован. Очаковский кризис, наступивший сразу после 1789 г., стал предвозвестником перехода от дружественных, если не сказать, тесных отношений к явной враждебности и скрытым подозрениям, которые характеризовали англо-русские отношения в XIX и XX веках» (Horn, 1961: 21–22).3
В третьей главе «Чины и жалованье» Д. Хорном детально рассматриваются вопросы, связанные с денежными выплатами сотрудникам дипломатического ведомства Великобритании, а также секретарям посольства. Представлены размеры жалования в зависимости от ранга дипломатов (Horn, 1961: 44). Указываются суммы, выделяемые на особые нужды, такие как: найм экипажа, покупка столовой утвари, вина для приема гостей, письменных принадлежностей, почтовые расходы и т.д. Так, если говорить о дипломатах ранга амбассадора, то им выплачивалось 100 фунтов стерлингов (ф. ст.) в неделю или, что практиковалось чаще, 10 ф. ст. в день. Посол меньшего ранга получал 8 ф. ст. в день (Horn, 1961: 46).
Помимо этого, в главе затронут вопрос о получении дипломатами отдельных пожалований от представителей иностранных держав. Нужно указать, что в XVIII в. было в традиции награждать подарками послов по окончании их миссии. Так, практически все британские дипломаты получали памятные подарки различной ценности перед отбытием на родину, например, лорд Форбс получил 6 тыс. руб. и брильянтовое кольцо стоимостью 1100 ф. ст.1, а лорд Бакингем – гобелен от Екатерины II (Horn, 1961: 59). Также упомянут сэр Р. Саттон, посол Британии в Константинополе, которого за помощь в улаживании русско-турецких разногласий в 1712 г. отблагодарили 6 тыс. руб., соболиной шубой от русского представителя и подарками от самого царя (Horn, 1961: 58).
Несомненно, что сотрудники посольства могли получать денежные суммы от представителей иностранных государств и не по официальным каналам. Это могли быть как регулярные выплаты от иностранного двора («пенсии»), так и отдельные случаи подкупа с целью получения конфиденциальной информации. Д. Хорн приводит отрывок из дневников посла в России Дж. Гарриса, который сообщает, что ему приходилось запирать секретаря посольства, когда он писал реляции, но не потому, что он ему не доверял, а потому, что тот оставлял дверь открытой, и кто-либо из прислуги мог узнать содержание письма (Horn, 1961: 68). Тем не менее британский историк не упоминает никаких фактов того, что со стороны российского двора были попытки получать информацию из британского посольства незаконными способами.
В главе указываются и дополнительные, говоря современным языком, не совсем легальные источники доходов дипломатов – такие как, например, покупка дорогих товаров и провоз их с дипломатическим багажом без уплаты пошлин, займы в стране пребывания и даже игра на бирже. Относительно российских представителей Д. Хорн сообщает, что в последней активно участвовал русский посол в Лондоне И. Симолин (Horn, 1961: 59)2.
Название главы «Расходы на дипломатическую службу» говорит само за себя. По мнению историка, с 1689 по 1789 гг. подобные выплаты неуклонно росли и едва ли поддаются сегодня точной оценке. Тем не менее он приводит средние ежегодные расходы на дипломатическое ведомство по правлениям: Яков II – 32 687 ф. ст.; Вильгельм и Мария – 32 063; Анна – 57 390; Георг I – 67 539; Георг II – 62 430; Георг III (до 1789) – 79 939 (Horn, 1961: 81). Более подробная роспись расходов на внешнеполитическое ведомство Великобритании с 1783 по 1789 гг. дается в приложении (Horn, 1961: 301).
Содержание шестой главы «Союзный элемент», базируется на ранней работе Д. Хорна «Шотландские дипломаты» (Horn, 1944), которую мы анализировали в первой части серии публикаций по данной теме (Медведев, 2020 а).
Образование и обучение британцев, исполнявших обязанности дипломатов, стали предметом рассмотрения в седьмой главе, имеющей соответствующее название.
Две последующие главы монографии посвящены отбору сотрудников на дипломатическую службу. Д. Хорн исследует вопрос о том, кто осуществлял этот выбор и каковы его причины. Информация о российско-британских отношениях в данных главах отсутствует.
В начале десятой главы «Обязанности и сложности» историк описывает принципы деятельности дипломата в конце XVII–XVIII в. По мнению современников, он должен выполнять свою работу в интересах государя согласно данным ему инструкциям, действовать предусмотрительно в том русле, когда его собственные оценки совпадают с мнением его повелителя. И данная точка зрения воспринималась действующими дипломатами как аксиома (Horn, 1961: 182– 183). Несомненно, для каждого правила есть свои исключения, в каждой профессии существуют свои сложности. Однако не все дипломаты могли мириться со своей довольно ограниченной ролью и пытались оказывать влияние на позицию внешнеполитического ведомства. Также многим из них приходилось сталкиваться с пренебрежением к их деятельности и донесениям со стороны руководства. Д. Хорн приводит такой показательный пример: во время «дипломатической революции» британский посол в Мадриде не был извещен о разрыве Лондона и Вены и продолжал поддерживать с австрийским дипломатом «сердечные и доверительные отношения», что было неоправданно в новой ситуации (Horn, 1961: 186–187). Кроме этого, секретари департаментов не считали необходимым информировать своих дипломатов об общей направленности и новых трендах во внешней политике в целом. Еще одной сложностью было отсутствие строгого перечня обязанностей дипломата, как и разграничения их с функционалом консула. Например, послу Уитворту пришлось доставать для Джона Говарда курьерский пропуск для использования ямщицких станций во время путешествия последнего в Крым в 1789 г. (Horn, 1961: 190)3.
Периодически главы стран пребывания заставляли британских дипломатов поработать «каналами связи» между монархом и британским правительством. Екатерина II обратилась к Аллейну Фитцгерберту1, когда ей понадобился мощный телескоп наподобие того, который известный астроном Гершель сделал для Георга III, так как ученый отказывался выполнять заказ Екатерины без королевского разрешения (Horn, 1961: 192).
Еще одной сложностью в деятельности внешнеполитического ведомства Великобритании Д. Хорн называет отношения британских дипломатов с оппозицией в стране пребывания. Впрочем, английскому руководству приходилось сталкиваться с подобной ситуацией и у себя «дома». В начале 1760-х премьер-министр Дж. Гренвиль считал, что у русского посла А. Воронцова слишком доверительные отношения с главой оппозиции Питтом (Старшим), о чем он послал соответствующий отчет в Форин-офис (Horn, 1961: 194). Еще дальше зашел брат упомянутого дипломата – Семен Воронцов. Во время Очаковского кризиса он не только активно противодействовал планам Питта Младшего в Британии, но даже выдал Роберту Адаиру рекомендательные письма к русскому двору (Соколов, 2002)2. Деятельность Адаира была направлена против планов официального Лондона и «нанесла, по мнению современников, ущерб успеху британских усилий в Петербурге» (Horn, 1961: 196–197).
В главе «Церемониал и привилегии» Д. Хорн пишет, что аспекты этикета и соблюдения определенных правил поведения были по-прежнему важны в XVIII в., как и ранее. Однако возникший в этот период вопрос о признании за российскими самодержцами императорского титула вносил определенные сложности в процесс соблюдения церемониала. По мнению историка, «русские дипломаты испытывали значительные сложности в том, чтобы “вписаться” в мир западноевропейской дипломатии» (Horn, 1961: 205). Он приводит в пример случай, когда в 1768 г. на придворном балу в Лондоне французский посол увидел, что российский дипломат занял почетное место рядом с послом Австрии, влез между ними и потом дрался с российским послом на дуэли, на которой последний был ранен (Horn, 1961: 205).
Большая часть главы посвящена трудам по международному праву и дипломатическому этикету, которыми руководствовались современники в XVII и XVIII вв.
В следующей, двенадцатой, главе «Коммуникация» рассмотрена связь Лондона со своими дипломатическими миссиями и представителями. Корреспонденция в Балтику шла через Хелле-вутслёйс (Голландия), откуда раз в неделю уходила в Гамбург, Данциг и Ригу. Из Риги раз в десять дней – в Москву. При благоприятных условиях переход до Стокгольма занимал 21 день (Horn, 1961: 218). «Если официальный курьер был недоступен, то обычной практикой являлась пересылка диппочты с членами семьи посла, атташе посольства или с доверенным слугой. Если же письмо было больше конфиденциальным, чем срочным, то британские дипломаты могли доверить его капитану британского судна или даже британскому туристу, которому случилось проезжать через иностранные столицы в подходящее время» (Horn, 1961: 219). Что касается оплаты услуг курьеров, то выплаты в конце XVIII в. были такими же, как и в период Реставрации, и составляли 459 ф. ст. 3 шиллинга и 4 пенса туда и обратно (Horn, 1961: 222–224). Впрочем, данную деятельность можно назвать довольно прибыльной. Так, курьер Лэм (Lamb) признавался, что поездка в Константинополь или Петербург приносила ему сто гиней чистой прибыли (Horn, 1961: 223).
Д. Хорн также затрагивает вопрос об использовании шифров в дипломатической переписке. Он упоминает, что коды для корреспонденции выдавались лорду Престону еще в 1682 г., а «когда Ч. Вильямс был направлен послом в Россию, ему предоставили новый двойной шифр и ключи к нему, которых не было ни у кого из дипломатов короны, кроме г-на Кейта» (Horn, 1961: 234)3. Это при том, что создание новых шифров обходилось британской казне в конце XVIII в. в 150 ф. ст. (Horn, 1961: 234). Сумма для того времени весьма солидная. Например, чиновник департамента королевской почты Жан Лефевр имел официальное жалование в 50 ф. ст. в год4. Данный факт указывает на ту значимость, которую Лондон придавал начинаемой им кампании по созданию антифранцузской коалиции перед началом Семилетней войны, фундаментом которой было подписание субсидной конвенции в Петербурге1.
В первом предложении главы «Дипломаты и консулы» британский историк пишет, что «история британской консульской службы в XVII–XVIII вв. еще только должна быть написана». Глава посвящена в большей степени функциям этой структуры за рубежом в многочисленных консульских представительствах в европейских и «варварских» странах. Относительно России он пишет следующее: «Назначаемые в Петербург в первой половине XVIII в. британские постоянные представители занимались почти столько же консульской деятельностью, сколько и дипломатической. Первый назначенный после 1689 г. агент был и дипломатом, и генеральным консулом, а несколько из его преемников, будучи назначенными генеральными консулами, позднее получали повышение до должности “министр-резидент”. Но когда Вольф, бывший генеральным консулом с 1744 г., чтобы польстить канцлеру Бестужеву, приобрел этот статус, он был отстранен “от любых поводов вмешиваться в (дипломатическую) деятельность”, а его преемникам в должности генерального консула Самюэлю Своллоу и Уолтеру Шарпу и вовсе не предлагали такого повышения» (Horn, 1961: 242).
Глава «Дипломаты и секретные агенты», несмотря на интригующее название, содержит мало информации, которая не была бы известна российским историкам. В основном это данные из донесений британских дипломатов об их тратах при дворах пребывания. «От случая к случаю требовали значительные суммы, не в качестве взятки, а как некое вознаграждение за помощь, которую они оказали бы в любом случае. Продажность российского двора не требовала доказательств у современников» (Horn, 1961: 262). Целый пассаж посвящен событиям в России, связанным с подобными выплатами со стороны лорда Гиндфорда, барона Вольфа и Ч. Вильямса А.П. Бестужеву-Рюмину и Екатерине Алексеевне в бытность её Великой княгиней (Horn, 1961: 262–263). Однако, говоря о деятельности посла Р. Кейта, Д. Хорн не упоминает, что дипломат делал запрос о судьбе 100 тыс. ф. ст., которые, вероятнее всего, предназначались для оказания влияния при дворе (Лабутина, 2019: 52). Бόльшая часть главы посвящена противостоянию секретной службы Британии с её главным соперником в XVIII в. – Францией.
В заключительной главе монографии «Дипломаты и авторство» историк, по его словам, ставит себе задачу «в общих чертах показать довольно хрупкую связь между дипломатией и литературной деятельностью и отметить основные области (последней), в которую дипломаты внесли значительный вклад в XVIII веке» (Horn, 1961: 285). Как образно сформулировал Д. Хорн, «крайне мало писателей было дипломатами, но все дипломаты были писателями» (Horn, 1961: 285). Справедливости ради, стоит отметить, что многие британцы, не принадлежавшие к дипломатическому корпусу, оставили довольно большой корпус воспоминаний о России в XVIII в. (Кросс, 2005: 357–418).
Д. Хорн дает развернутую картину литературных трудов британских дипломатов. Он группирует их по странам пребывания, срокам выхода воспоминаний относительно времени пребывания их авторов на том или ином посту и жанрам. Среди произведений были публикации, связанные с профессиональной деятельностью дипломатов, научные труды и даже поэтические произведения.
Среди различных «писем», «записок» и «анекдотов» наибольший интерес вызывают так называемые «отчеты» о стране пребывания. Д. Хорн сообщает, что практика написания подобных текстов восходит к временам Карла II2, по указу которого дипломаты должны были предоставлять «точные описания (проводимых) переговоров, состояние двора пребывания, характер министров и важнейших лиц при данном дворе» (Horn, 1961: 292).
Говоря о такого рода «аккаунтах», Д. Хорн отмечает, что часть этих произведений была опубликована ещё в XVIII в. Он перечисляет следующие работы: труд Ч. Уитворта «Account of Russia as It Was in the Year 1710»3, который был издан не ранее 1758 г., когда он уже стал, по словам исследователя, «историческим документом» (Horn, 1961: 291)4; доклад Дж. Маккартни «An Account of Russia : 17675», который, напротив, увидел свет менее чем через год после возвращения дипломата из Петербурга (Horn, 1961: 291); сочинение о России У. Ричардсона (W. Richardson) «Anecdotes of the Russian Empire in a Series of Letters Written a Few Years Ago»6, которое не было опубликовано до 1784 г. (Horn, 1961: 291). Кроме того, хорошо известное в России произведение жены британского резидента в Петербурге 1730-х гг. Клавдии Рондо впервые было опубликовано анонимно под названием «Письма из России» («Letters from a Lady Who Resided Some Years in Russia to Her Friend in England»)1 только в 1775 г.
Интересно, что другая часть сочинений британских дипломатов не опубликована и поныне, хотя, по словам Д. Хорна, они ходили в списках и снискали известность своим авторам (Horn, 1961: 292–293). Среди таких работ – «отчеты» о событиях в России: Эдварда Финча о «революциях» 1740 и 1741 гг., а также Роберта Кейта о низложении Петра III в 1762 г.2 Д. Хорн также упоминает сочинение Дж. Эварта «Соображения о природе связей, существовавших доселе между Великобританией и Россией» («Observations on the Nature of the Connection Which has Hitherto Subsisted between Great Britain and Russia»)3, которое он частным образом опубликовал в самый разгар Очаковского кризиса – в 1791 г. (Horn, 1961: 293). По мнению историка, данная работа преследовала цель не только проявить знания по определенному вопросу, но и оказать влияние на внешнюю политику собственного государства (Horn, 1961: 293)4. Корреспонденция Дж. Бэкингема в главе не упоминается, поскольку она внесена в список часто цитируемых источников5.
Заключение в монографии отсутствует.
Несмотря на то, что российско-британские отношения XVIII в. не являются непосредственным предметом рассмотрения в монографии Д. Хорна, в книге содержится достаточное количество информации о российско-британских дипломатических связях. Историк не мог не использовать корреспонденцию британских дипломатов в России, содержание которой хорошо известно отечественным историкам, занимающимся историей дипломатии и международных отношений XVIII в. Тем не менее в монографии присутствуют данные, позволяющие российским исследователям дополнить картину взаимоотношений между Лондоном и Петербургом XVIII столетия.
В целом, следует заключить, что монография Д.Б. Хорна представляет собой полномасштабный, всесторонний труд по интересующей нас теме. Разнообразные историографические ссылки на произведения авторов исследуемого времени и работы современных Д. Хорну историков, использование многочисленных архивных материалов представляют собой пример серьезного исторического труда, который не может не представлять интерес для современных историков.
Список литературы Российско-британские отношения XVIII века в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 3)
- Кросс Э. Британцы в Петербурге: XVIII век. СПб., 2005. 528 с.
- Лабутина Т.Л. Британские дипломаты и Екатерина II. Диалог и противостояние. СПб., 2019. 458 с. EDN: TTBCEZ
- Медведев Ю.С. Российско-британские отношения XVIII столетия в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 1) // Общество: философия, история, культура. 2020 а. № 7 (75). С. 61-65. DOI: 10.24158/fik.2020.7.10 EDN: AVDMEE
- Медведев Ю.С. Российско-британские отношения XVIII столетия в трудах Дэвида Бейна Хорна (часть 2) // Общество: философия, история, культура. 2020 б. № 11 (79). С. 62-66. DOI: 10.24158/fik.2020.11.10 EDN: XZUMMB
- Соколов А.Б. "Очаковское дело". Англо-российский конфликт 1791 г. // Отечественная история. 2002. № 4. С. 3-22. EDN: RKZCAQ
- Horn D.B. British Diplomatic Service. 1689-1789. Oxford, 1961. XV, 324 р.
- Horn D.B. Scottish Diplomatists. 1689-1789. L., 1944. 18 р.