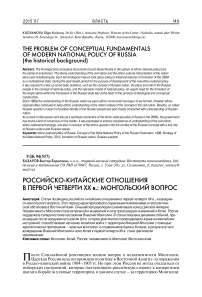Российско-китайские отношения в первой четверти ХХ в.: монгольский вопрос
Автор: Базаров Виктор Борисович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена российско-китайским отношениям в первой четверти ХХ в., касающимся монгольского вопроса. Этот период характеризовался серьезными изменениями в геополитической обстановке в Восточной Азии. Синьхайская революция ознаменовала конец Цинской империи. Независимость Монголии стала актуальной и возможной в силу происшедших изменений в Китае. Россия поддержала сепаратистские настроения Внешней Монголии. В статье показана динамика событий, происшедших после вооруженного взятия Урги, которое фактически спровоцировало взрыв антикитайских настроений, способствовало изгнанию китайских войск с территории Внешней Монголии с помощью идеологических противников - «красных монголов» и сподвижников барона Унгерна, в результате чего возвращение Внешней Монголии в лоно Китая в первой четверти ХХ в. стало фактически невозможным.
Монголия, китай, Россия, независимость монголии, восточная азия
Короткий адрес: https://sciup.org/170168010
IDR: 170168010 | УДК: 94(517)
Текст научной статьи Российско-китайские отношения в первой четверти ХХ в.: монгольский вопрос
П осле Синьхайской революции возник вопрос о независимости Монголии.
Царская Россия вела осторожную политику в Восточной Азии из-за поражения в Русско-японской войне 1904–1905 гг. Но при этом Россия не могла отказаться от имперских настроений, которые подталкивали российскую сторону к конкретным шагам в борьбе за узловые территории, в данном случае – за территорию Монголии.
В декабре 1911 г. русский посол в Пекине внес предложение правительству Китая о заключении формального договора с Внешней Монголией. Царское правительство хотело, чтобы китайская сторона официально признала особые права России на монгольской территории и отказалась от проведения любых мероприятий в этой стране без согласования с правительством России. При этом царская администрация не могла рассчитывать на одобрение таких намерений со стороны Китая. И все же российская сторона решилась на самостоятельный шаг, подписав 3 ноября 1912 г. Ургинское соглашение с Монголией [Батунаев 2015: 79]. Соглашение было составлено таким образом, что в нем с дипломатической точки зрения амбициозные планы России проходили «по лезвию бритвы», не пересекая опасного рубежа. В отношении Внешней Монголии в документе было введено понятие «автономия», позволявшее ей иметь свои войска и не допускать войска Китая на территорию Внешней Монголии.
Монгольская сторона была разочарована таким решением, хотя название «Внешняя Монголия» свидетельствовало о том, что территория Внутренней Монголии не входит в состав автономии. Но сам факт заключения подобного рода договора имел важное политическое значение для Монголии. Он означал, что правительство богдо-гэгэна вступило в договорные отношения с Россией, что позволило Монголии заявить о себе на международной арене в качестве самостоятельной силы.
23 октября 1913 г. была подписана русско-китайская Декларация о признании автономии Внешней Монголии. В русском тексте документа Монголия не признавалась независимым государством. Настроения же в правящих кругах Внешней Монголии были бескомпромиссные, атмосфера пьянящей свободы подталкивала к конкретизации статуса Монголии. 2 декабря 1913 г. дипломатическому представителю России в Урге была вручена нота монгольского правительства о том, что оно категорически отказывается признать русско-китайскую Декларацию.
25 мая 1915 г. в Кяхте было заключено трехстороннее соглашение России, Китая и Монголии об автономии Внешней Монголии [Батунаев 2015: 89]. Это соглашение было результатом длительной подготовительной работы, т.к. требования сторон не совпадали: Монголия требовала статуса независимого государства; Китай видел Монголию своей провинцией; позиция России – автономия Внешней Монголии.
По сути, данный международно-правовой акт не носил революционный характер, ибо Монголия не получала независимость. Но зато он обозначил роль России как арбитра во взаимоотношениях Монгольской автономии и Китая. Не следует забывать, что Внешняя Монголия была интегрирована в хозяйственные связи с Китаем больше, чем с Россией. Доминирующее присутствие китайского капитала было серьезным основанием для Китая бороться с автономией Монголии.
Летом 1919 г. силами китайских революционеров был создан документ «64 пункта об улучшении будущего положения Монголии», который был представлен на рассмотрение правительству богдо-гэгэна. Под «улучшением» подразумевалось упразднение автономии Монголии, назначение должности китайского наместника в качестве соправителя с богдо-гэгэном. Проект был отвергнут монгольской стороной. Китайское правительство попыталось решить вопрос вооруженным путем. 22 ноября 1919 г. президент Китая издал декрет о ликвидации автономии Внешней Монголии. Такое грубое нарушение статей Кяхтинского соглашения 1915 г., на наш взгляд, было во многом связано с Октябрьской революцией и Гражданской войной в России, которые сковали действия нашего государства во внешней политике.
Ликвидация автономии спровоцировала всплеск национально-освободительных настроений в Монголии, а усиливающиеся антикитайские настроения в Монголии в начале 1920-х гг. приобрели характер открытой борьбы и военных столкновений.
Под лозунгом национально-освободительного движения, направленного против китайского господства, барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг, начальник конной Азиатской дивизии, сподвижник атамана Семенова, выдвинулся на Ургу. Унгерн был одержим идеями монархизма, а также превосходства восточной культуры, буддизма и их спасительной миссии по отношению к западной цивилизации.
Теснимая наступавшей Красной армией Азиатская дивизия пересекла монгольскую границу в начале октября 1920 г. Унгерн неустанно пропагандировал свои идеи: выбить китайские республиканские войска из Монголии, восстановить автономию, возродить монархию богдо-гэгэна. Используя антикитайские настроения, барон Унгерн набирал силы и популярность среди местного населения, в результате чего он накопил достаточные силы для взятия Урги: в январе 1921 г. у него было около 3 тыс. бойцов. 3 февраля после ожесточенных боев город перешел в руки объединенных сил Унгерна и монголов. Побежденные китайские войска во главе с наместником Чэн И бежали на север, в кяхтинский Маймачен, под крышу местного китайского гарнизона.
Унгерн, его ближайшее окружение, офицеры были щедро награждены богдо-гэгэном. Сам богдо-гэгэн вновь получил ханский трон; 26 февраля 1921 г. состоялась торжественная коронация и образовано правительство во главе с одним из высших церковных иерархов – Д. Жалханз-хутухтой. Советскому правительству была выслана нота с предложением о восстановлении дипломатических отношений: «Монгольское правительство с радостью извещает Правительство Великой России, что его святейшество Богдо-Джебзун-Дамба-Хутухта Хан Монголии вступил в свои законные права. Монгольское правительство позволяет напомнить себе Правительству Великой России, что Россия всегда покровительствовала монгольскому народу и помогала ему добиваться автономии Монгольского государства... Монгольское правительство будет счастливо, если представители Правительства Великой России прибудут в Ургу для переговоров и заключения договоров...» 1 Однако ответ НКИД РСФСР на эту ноту, отправленный 29 марта 1921 г., был жестким и конкретным: «...мы не считаем возможным вступать в какие-то ни было сношения с монгольскими организациями в Урге до тех пор, пока в этих организациях будут присутствовать белогвардейцы ‹...› слагаем с себя ответственность, если вместе с белым грабителями от действий наших войск пострадают и монголы, которые находились в сношениях с русскими контрреволюционерами» 2 . Такого рода ответ на предложение восстановления дружественных отношений делал Унгерна фактически единственным союзником хана. Поэтому верховным правителем, диктатором Монголии в течение четырех месяцев был «бог войны», «борец за веру», «великий батор», «хан» Унгерн. Его влияние на Монголию в те месяцы было определяющим, и ни одно серьезное решение не принималось без его согласия. Монголам импонировали идеи Унгерна об объединении монгольских племен, образовании федерации кочевых народов Центральной Азии, воссоздании державы Чингисхана. Однако зверства и беспорядки, которые чинили подчиненные барона, настроили местное население против него [История Монголии... 2007: 59].
В это же время на севере страны происходили не менее важные события. Монгольская народная партия возглавила нараставшее революционное движение за освобождение Монголии от иноземцев, за приход к власти новых общественных сил. Она активно использовала идеологическую, организационную, военную поддержку со стороны Советской России и Коминтерна. 10 ноября 1920 г. в Иркутске вышел первый номер газеты МНП «Монголын унэн» на монгольском языке с эпиграфом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» На границе с Монголией расширялась сеть официальных и нелегальных представителей Коминтерна, РСФСР, ДВР. В резиденции представителя НКИД О.И. Макстенека в Троицкосавске 1–3 марта 1921 г. состоялось партийное совещание, которое позже, в 1924 г., было объявлено первым Учредительным съездом МНП. Он был немногочисленным: 26 участников на заключительном заседании. Всего партийцев тогда насчитывалось около 150 чел. [История Монголии... 2007: 61]. Съезд избрал Центральный комитет в составе С. Данзана, Ц. Дамбадоржа, Д. Лосола (первым председателем ЦК стал С. Данзан) и утвердил партийную платформу (программу) «10 принципов» [История Монголии... 2007: 61]. В платформе четко прослеживается сильное влияние идей и практики Коминтерна (власть народа, интернационализм, нетерпимость к другим течениям, политическая жесткость и др.). Вместе с тем на съезде проявились и иные настроения участников съезда, в частности по отношению к вопросу об объединении всех монгольских племен в одно государство.
Для укрепления сотрудничества с Советской Россией съезд постановил просить Дальневосточный секретариат ИККИ назначить своего постоянного представителя при ЦК МНП. И вскоре состоялся обмен представителями: С.С. Борисов при ЦК МНП и С. Буяннэмэх при ДВСК. МНП вступила в Коминтерн в качестве сочувствующей организации, в июле 1921 г. ее делегаты уже участвовали в работе конгресса III Коминтерна.
И на съезде, и после него на передний план выдвинулись, естественно, военные вопросы – борьба с китайскими милитаристами и бароном Унгерном. Был образован штаб партизанских отрядов – Народной армии, руководимый главкомом Д. Сухэ-Батором. 13 марта было сформировано Временное народное правительство во главе с Д. Чагдаржавом, которого вскоре заменил Д. Бодо.
В марте 1921 г. в Монголии возникло двоевластие: народное правительство на севере, пользовавшееся советской поддержкой, и правительство богдо-хана в Урге, оккупированной белогвардейцами. На первых порах у них оказался один и тот же противник – китайские войска. В кяхтинском Маймачене, т.е. в сфере действий отрядов Д. Сухэ-Батора, скопились китайские солдаты из местного гарнизона и те, кто бежал из Урги, ополченцы, беженцы – всего свыше 10 тыс. чел. Молодая Народная армия 18 марта одержала первую крупную победу, и г. Маймачен был освобожден. Китайцы устремились на юг в надежде выбить Унгерна из Урги. Произошли два крупных сражения между объединенными силами Унгерна и присоединившимися к нему монголами, с одной стороны, и китайскими войсками – с другой. В обоих сражениях победу одержал барон Унгерн.
15-тысячная китайская армия, которая еще недавно наводила страх на всю Монголию, к началу апреля перестала существовать. Отряды Сухэ-Батора также внесли свой вклад в победу. По мнению исследователя С.К. Рощина, барон Унгерн, преследуя собственные цели, сыграл весьма важную роль в очищении Монголии от китайских войск и тем самым невольно, сам того не желая, облегчил выполнение задач Народной армии [История Монголии... 2007: 61]. Впоследствии Унгерн был разбит, и в июле 1921 г. в Монголии произошла революционная смена власти, к руководству государством пришли новые общественные силы – сторонники МНП.
Таким образом, российско-китайские отношения в первой четверти ХХ в., касающиеся Монголии, были напряженными. Синьхайская революция 1911 г. способствовала началу борьбы за независимость Монгольского государства, которую поддержала сначала царская, а затем советская Россия.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда «Монгольский мир в условиях взаимодействия России и Восточной Азии в ХХ–ХХI вв.». Проект № 15-21-03006.
Список литературы Российско-китайские отношения в первой четверти ХХ в.: монгольский вопрос
- Батунаев Э.В. 2015. Борьба за независимость Монгольского государства. Улан-Удэ.: Изд-во БНЦ СО РАН. 160 с
- История Монголии. ХХ век. 2007. М.: Институт востоковедения РАН. 448 с
- Российско-монгольское военное сотрудничество (1911-1946): сб. документов. Ч. 1. 2008. М.-Улан-Удэ. С. 135.
- Российско-монгольское военное сотрудничество (1911-1946): сб. документов. Ч. 1. 2008. М.-Улан-Удэ. С. 135.