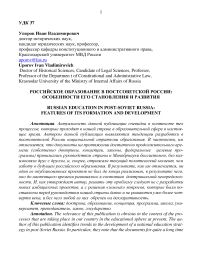РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Автор: Упоров И.В.
Журнал: НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ/SCIENCES. EDUCATION. ТHE PRESENT.
Статья в выпуске: 1, 2023 года.
Бесплатный доступ
Актуальность данной публикации очевидна в контексте тех процессов, кото-рые проходят в нашей стране в образовательной сфере в настоящее время. Автором данной публикации выявляются тенденции разработки в постсовет-ской России национальной стратегии образования. В частности, им отмеча-ется, что документы на протяжении достаточно продолжительного времени (собственно доктрины, концепции, законы, федеральные целевые программы) принимались руководством страны и Минобрнауки бессистемно, без взаимо-связи друг с другом, и, скорее, отражали текущий политический момент, чем заботу о будущем российского образования. В результате, как им отмечается, ни один из опубликованных проектов не был до конца реализован, в результате чего, оно до настоящего времени развивалось в состоянии доктринальной не-определенности. И, как утверждает автор, решать эту проблему следует не с разработки новых амбициозных проектов, а с решения «земных» вопросов, ко-торые были поставлены перед руководством нашей страны давно и не реша-ются уже более четверти века, и без чего любой из них обречен на деклара-тивность.
Короткий адрес: https://sciup.org/14126249
IDR: 14126249
Текст статьи РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Ни для кого из участников образовательного процесса в нашей стране не является открытием мнение многочисленных представителей педагогического сообщества, что образование в России со времени, прошедшего после распада СССР в 1991 г., находится в перманентно-нестабильном состоянии, о чем свидетельствуют непрекращающиеся дискуссии о месте, содержании и принципах реализации этого социального института в жизни современного российского общества, причем, это касается всех уровней образования (за исключением дошкольного образования в детсадах, однако, для большинства жителей страны пребывание детей в детсадах не является образовательным процессом и, соответственно, актуальность дошкольного образования не проявляется). Указанная нестабильность, как нам представляется, исходит из неопределенности самой доктрины системы образования, которая меняется настолько часто, что само понятие «доктрина» теряет свое значение. В свое время, еще при СССР, президентским указом Б.Н. Ельцина была обозначена возможность негосударственного образования [1], что, в то время, представляло революционное решение в системе образования (эта позиция позже была закреплена и на конституционном уровне - ст. 43 Конституции России 1993 г.). Также, была провозглашена приверженность международным принципам организации образования, которые сформулированы ЮНЕСКО, деятельность которого «нацеливает международное сообщество на предоставление образования всем, на всех уровнях и на протяжении всей жизни, потому что образование играет главную роль в становлении и развитии личности человека, экономическом росте и укреплении социальных связей» [2, с. 19]. При этом «несколько стратегических задач, связанных с образованием, были включены в список Целей развития ООН на рубеже тысячелетия:
-
- бесплатное и обязательное начальное образование и равенство полов в начальной и средней школе;
-
- содействие образованию в качестве одного из основных прав человека;
-
- повышение качества образования путем диверсификации его содержания и методов;
-
- содействие экспериментам, новаторству, публикациям и обмену данными и передовым опытом, а также развитию диалога по вопросам политики в области образования» [2, с. 20].
Указанные принципы являются универсальными, и их принятие российскими властями в качестве основополагающих, заслуживает поддержки. Позже, эти принципы стали трансформироваться в российское образовательное законодательство. Первый федеральный закон был принят в 1992 г. Согласно ст. 3 этого акта, «государственная политика в области образования основывается на следующих принципах:
-
а) на гуманистическом характере образования, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности и любви к Родине;
-
б) единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты системой образования национальных культур и региональных культурных традиций в условиях многонационального государства;
-
в) общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
-
г) светском характере образования в государственных, муниципальных образовательных учреждениях;
-
д) свободы и плюрализма в образовании;
-
е) демократического, государственно-общественного характера управления образованием. Автономность образовательных учреждений» [3].
Можно еще отметить возможность формирования разноуровневой системы высшего образования, что явно выступало новеллой.
Здесь обращают на себя внимание последние пункты, по поводу которых, собственно, и ведутся до сего времени как теоретические дискуссии, так и сталкиваются различные подходы в праворегулирующей и правоприменительной деятельности в сфере образования. В этом контексте (после вхождения России в Совет Европы в 1996 г.), в октябре 2000 г. на правительственном уровне была утверждена первая полноценная Национальная доктрина образования в Российской Федерации, подготовленная Министерством образования, в которой, в частности, указывается, что «Доктрина отражает новые условия функционирования образования, ответственность социальных партнеров - государства, общества, семей, работодателей -в вопросах качества общего и профессионального образования, воспитания подрастающего поколения» [4] (вызывает определенные вопросы тот факт, что несколько раньше был принят закон об утверждении Федеральной целевой программы развития образования [5], где подробно расписываются направления образовательной политики, а более общий акт в виде Доктрины был принят позже и его уровень был ниже, хотя, на наш взгляд, должно было быть ровно наоборот, но мы в данной статье рассматриваем доктринальные документы).
Помимо этого, Доктрина-2000 в разделе о целях и задачах государственной политики, содержит ряд заслуживающих внимание положений. Так, в связи с указанными «новыми условиями» предполагалось обеспечить: «академическую мобильность обучающихся .., свободный выбор направлений и форм образования с учетом потребностей, возможностей граждан, а также ситуации на рынках труда и образовательных услуг ., создание правовых условий получения образования как за счет средств бюджетов всех уровней, так и за счет средств обучающихся и их семей, предприятий и организаций» [4]. Не меньший интерес представляет намерение «довести долю образовательных программ в сетке вещания государственных и муниципальных средств массовой информации не менее чем до 15% ., обеспечить интеграцию российской системы образования в мировое образовательное пространство с учетом отечественного опыта и традиций» [4]. Кроме того, «уже на первом этапе, оплата труда педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего профессионального образования будет приближена к удвоенному размеру средней заработной платы работников промышленности в Российской Федерации» [4].
Следует признать, что на тот период времени, с учетом тяжелейшего состояния экономики, только-только отошедшей от дефолтного кризиса 1998 г., это были просто грандиозные планы, как и в равной степени - невыполнимые. Но, в то время, на еще сильной волне постсоветской эйфории от слома советско-социалистического государства и провозглашения европейских ценностей, были именно таким образом провозглашены и закреплены основы образовательной системы в России. Более того, власть торопилась продвигать образовательную систему России по европейскому вектору - уже в 2001 г., то есть, спустя чуть больше года после принятия Доктрины-2000, появляется Концепция модернизации образования на период до 2010 г. [6], направленная на интеграцию с евро-образованием, и соответствующее присоединение России к Болонскому процессу началось в 2003 г. Сомнений в правильности такого подхода у российской власти не было - в отличие от научной среды, где высказывались некоторые сомнения. И уже в новой ФЦП (принята в 2005 г.) [7] предполагалось (до 2010 г.):
-
- «увеличить количество программ профессионального образования, получивших международное признание, в 1,3 раза по сравнению с 2005 г. .;
-
- повышение рейтинга России в международных обследованиях качества образования до уровня, являющегося средним .;
-
- увеличить долю учебных заведений, реализующих программы двухуровневого профессионального образования, с 15 до 70%. .;
-
- поднять удельный вес вузов, выдающих европейское приложение к диплому до 15%» [8].
И здесь, как показало время, было немало «наполеоновских», несбыточных целей.
Затем, практика образовательного процесса в школах и вузах России несколько охладила активность авторов его модернизации в контексте европейской интеграции, поскольку российские реалии функционирования образовательных учреждений существенно, можно сказать, разительно отличались тогда и отличаются до сих пор от европейских реалий (материально-техническое обеспечение, инфраструктура, заработок профессуры, финансирование и т.д.).
Блиц-криг вхождения образовательной системы России в международную университетскую систему не состоялся, и, на наш взгляд, не мог состояться в столь короткие сроки. Это нашло отражение в новой Концепции национальной образовательной политики, разработанной Минобрнауки РФ в 2006 г. [9], в которой, заметим, нет упоминания о принятой незадолго до этого ФПЦ-2005, кроме того, эта Концепция была утверждена на уровне ведомства, что вызывает некоторое недоумение. Концепция носит общий характер, в ней акцентируется внимание на обеспечение права на образование в отдаленных районов, жителей малочисленных народов и т.д. Европейская интеграция здесь отсутствует, неприятие которой - на политико-идеологической основе - еще более возросло после известного экономического кризиса 2008 г.
В очередной ФЦП-2011 развития образования (на период 2011-2015 гг.) [10] про международную интеграцию в сфере образования, похоже, и вовсе забыли – акцент делается:
во-первых, на школьном образовании;
во-вторых, на развитии различных типов образовательных учреждений;
в-третьих, на материально-техническом и финансовом обеспечении образовательных учреждений, включая более широкое использование информационных технологий с учетом новой демографической проблемы (уменьшение численности школьников и студентов).
Такой подход мы поддерживаем, поскольку он, в большей степени, был направлен на улучшение реального положения в образовательной среде. Казалось бы, нужно, наконец, сосредоточить усилия на реализации этой ФЦП. Но нет - через год появляется Указ Президента России о государственной политике в области образования и науки (известен как один из «майских» президентских указов 2012 г.), призванный, среди прочего, «подтянуть» ряд отстающих показателей, в том числе, полностью обеспечить (к 2016 г.) доступность всеобщего дошкольного образования (этот показатель так и не был достигнут), разработку новых образовательных стандартов и др. Здесь, мы обращаем внимание на то обстоятельство, что в этом акте ФЦП-2011 даже не упоминается - как будто ее не было вообще, что также (как и в случае с ФЦП-2005) вызывает большой вопрос с точки зрения эффективности государственного управления. Разработанный и принятый , в соответствии с прези- дентским указом новый федеральный закон об образовании (2012 г.), уже не содержит каких-либо принципиально новых новелл, и его, очевидно, можно расценивать как «технологический», то есть закрепивший достигнутый уровень развития образования в России. В литературе не без оснований, как недостаток, отмечается, что образовательная доктрина, которая должна иметь «главенствующую роль» как один из источников образовательного законодательства, в этом законе отражения не нашла [11, с. 43].
Затем, в 2015 г. утверждается последняя ФЦП об образовании, суть которой заключается в том, чтобы:
-
- «обеспечить эффективное управление системой образования в ее новых качественных параметрах;
-
- реализовать инвестиционные проекты по строительству объектов социальной, учебно-лабораторной, физкультурно-спортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры .., инновационное развитие системы образования, внедрение новых образовательных технологий;
-
- обеспечить развитие кадрового потенциала системы образования в рамках реализации скоординированных задач федеральной государственной образовательной политики» [12].
Здесь мы видим много повторений из предшествующих программ по той простой причине, что они выполнялись лишь в незначительном объеме.
Не прошло, однако, трех лет, как Правительство России вновь утверждает новую государственную программу «Развитие образования» [13]. Этот документ, в основном, регулирует вопросы финансирования образовательной деятельности и определяет индикаторы, позволяющие оценивать такую деятельность. Практически одновременно происходит ротация министра образования, при этом прежний и нынешний министры придерживаются едва ли не противоположных взглядов на будущее российского образования, что лишь подтверждает неопределенность стратегического развития этого важнейшего социального института.
В целом, официальные акты об основных направлениях развитии образования в последние годы, включая последний-очередной национальный проект «Образование», носят скорее технический характер и изобилуют постоянно повторяющимися общими фразами («обеспечение конкурентоспособности», «внедрение новых методов обучения», «внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников» и т.д.), а доктринальные, концептуальные позиции постепенно растворились - прежние, из 1990-х гг., по умолчанию не принимаются образовательным сообществом, а новых, в достаточно четких формулировках, пока не просматривается. Отсюда неудовлетворенность таким положением со стороны как ученых, так и практикующих педагогов, учитывая, ко всему прочему, что отмеченная выше Доктрина-2000 без объяснения мотивов в марте 2014 г. была признана недействующей [14].
Соответственно, появляются альтернативные доктрины. Так, в одной из них, разработанной в 2016 г. группой ученых под руководством В.И. Слободчикова, указывается, что «стратегическая цель образования - создание условий становления гражданина России, устремлённого в своём развитии к национальному образовательному идеалу, способного к воспроизводству базовой российской общности – единого многонационального народа России, укреплению и развитию созданных им государства и общества на принципах, положенных в основу образа будущего России.
Реализация стратегической цели образования осуществляется посредством:
-
- устроения единого уклада жизни общества, основанного на традиционных российских ценностях;
-
- важнейшим условием созидания такого уклада является:
-
- переход к национально ориентированной модели образования;
-
- восстановление и развитие многообразия моделей государственно-общественных и общественно-государственных образовательных институтов, профессиональной подготовки и профессионального развития педагога как детоводителя, вводящего растущего человека в отечественное и мировое культурное пространство;
-
- культивирование детских и детско-взрослых образовательных общностей;
-
- проектирование развивающих инновационных моделей обучения и воспитания» [15].
По сравнению с официальной Доктриной-2000, данный проект группы ученых представляет собой, по основным принципам полную ему противоположность (достаточно назвать, например, один из основополагающих постулатов - «народность, патриотизм, державность», отказ от еврообразования и т.п.).
Вышеприведенная хаотическая деятельность государства по определению стратегии развития образовательной системы России . в итоге, привела российское общество, по сути, на исходную позицию рубежа 1990 г. И теперь предстоит, видимо (собственно, он уже начался), новый этап осмысления этой проблемы. Но начинать, как нам представляется, следует не с разработок новых и новых проектов доктрин национального образования, а с анализа предшествующих такого рода документов - что получилось, что не получилось, по каким причинам. Обязательно должно быть сделано сопоставлением с реальным положением дел в образовательных учреждениях, где имеются проблемы, решение которых, на наш взгляд, должно предшествовать окончательным доктринальным выкладкам. Речь идет, прежде всего, о заработной плате педагогов и преподавателей, которая в настоящее время имеет унижающие профессиональное и человеческое достоинство размеры (вспомним планы по Доктрине-2000 удвоить оплату труда по сравнению со средней зарплатой в промышленности). При этом важно не лукавить и вести речь об оплате труда из расчета на 1 ставку, и исключить, наконец, порядок, когда директор школы
- ректор может получать едва ли не в 10 раз больше, чем учитель-преподаватель. Заметим, что этот вопрос поднимается не первый год, и все вроде соглашаются, но сдвигов-то не происходит. Если уж этот вопрос государство не в состоянии решать в течение уже почти 20 лет (а абсолютное большинство образовательных учреждений являются государственными и муниципальными), тогда нет смыла вообще вести речь об образовательной доктрине, поскольку любая их них при таком положении дел обречена на декларативность. Безусловно, в школах должны быть прекращено поборы с родителей на разного рода «ремонтные дела», а это означает, что необходимо улучшить финансирование деятельности образовательных учреждений, в том числе направленное на исправление такого позорного явления, как школьные туалеты на улице без удобств.
Как видно, доктрина национального образования должна начинаться не с высоких слов (их сказано уже с излишком), не с содержания образовательных программ и стандартов (они в целом на достаточно высоком уровне), а с самых земных потребностей тех, кто учит, и тех, кто учится.