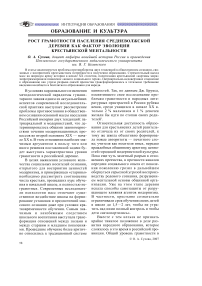Рост грамотности населения средневолжской деревни как фактор эволюции крестьянской ментальности
Автор: Сухова О.А.
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Образование и культура
Статья в выпуске: 2 (47), 2007 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется проблема противоборства двух тенденций в общественном сознании, связанных с восприятием крестьянством потребности в получении образования. Стремительный выход масс на широкую арену истории в начале XX столетия, политизация крестьянской «картины мира» запрограммировали появление «нового социального героя». Патриархально-недоверчивое отношение к образованию как угрозе разрыва связей преемства трансформировалось в тотальное требование введения всеобщего и бесплатного образования для народа.
Короткий адрес: https://sciup.org/147136351
IDR: 147136351
Текст научной статьи Рост грамотности населения средневолжской деревни как фактор эволюции крестьянской ментальности
В статье анализируется проблема противоборства двух тенденций в общественном сознании, связанных с восприятием крестьянством потребности в получении образования. Стремительный выход масс на широкую арену истории в начале XX столетия, политизация крестьянской «картины мира» запрограммировали появление «нового социального героя». Патриархально-недоверчивое отношение к образованию как угрозе разрыва связей преемства трансформировалось в тотальное требование введения всеобщего и бесплатного образования для народа.
В условиях кардинального изменения методологической парадигмы гуманитарного знания одним из актуальнейших аспектов современной исследовательской практики выступает рассмотрение проблемы противостояния в общественном сознании основной массы населения Российской империи двух тенденций: патриархальной и модернистской, что детерминировалось общими закономерностями течения модернизационных процессов во второй половине XIX — начале XX в. В этом отношении наиболее значимым аргументом в пользу того или иного решения поставленной задачи будет выступать характеристика уровня грамотности в российской деревне.
В целях выявления условного количества социальных носителей сознания, открытого для восприятия ценностей модернизма, и приверженцев «старины» необходимо рассмотреть соотношение числа крестьян, прошедших курс обучения в начальной школе, и полностью неграмотных. Современные исследователи психологии масс отмечают существенное воздействие школы на формирование установок и предпочтений массового сознания даже при условии кратковременности обучения. Самым значимым и неизбежным следствием школьного воспитания выступала трансформация отношений между полами и между старшим и младшим поколениями. Прошедшие обучение более критично относились к традиционной системе ценностей. Так, по данным Дж. Брукса, посвятившего свое исследование проблемам грамотности и народных литературных пристрастий в России рубежа веков, среди учащихся в начале XX в. только 2 % мальчиков и 1 % девочек желали бы идти по стопам своих родителей1.
Относительная доступность образования для крестьянских детей разительно отличала их от своих родителей, к тому же школа объективно формировала новые авторитеты — печатного слова; учителя как носителя иных, нередко враждебных общинному архетипу, ценностей городской модернистской культуры. Пока еще чуть заметный разрыв в отношениях преемства, в прочности каналов передачи социального опыта от поколения поколению грозил в дальнейшем обернуться серьезной угрозой воспроизводству родового сознания, разрушением ментальной основы общинной организации. Уже на этом этапе деревня искала способы самозащиты от разрушающего влияния агентов модернизма. В частности, крестьяне сознательно ограничивали срок обучения своих детей в школе до 1,5—2 лет, чтобы не утратить над ними полный контроль и чтобы дети «не испортились».
Вместе с тем нельзя не признать крайне тяжелое положение в деле развития народного образования, которое сложилось в это время в российской провинции. Общий уровень грамотности в
губерниях Среднего Поволжья оставался низким на протяжении всего пореформенного периода. Кардинальных изменений в этом вопросе не произошло и в первые десятилетия XX в. В частности, в первой половине 1880-х гг. грамотность сельского населения Самарской губернии составляла 13,4 %, к 1913 г. этот показатель увеличился лишь на 6,1 %. В Симбирской же губернии за те же годы уровень грамотности даже снизился (с 15,7 до 15,6 %), в то время как в Московской он превысил 41 %. Обращает на себя внимание почти всеобщая безграмотность женского населения поволжской деревни. В целом в первые десятилетия XX в. общеимперские показатели давали такую картину: 9/10 всех женщин, проживавших в сельской местности, никогда не посещали школы. По подсчетам А. Г. Рашина, в трех губерниях России (Вологодской, Пензенской и Симбирской) складывалась особо тревожная ситуация: число грамотных среди женщин здесь было в семь-восемь раз меньше, чем среди мужчин. Женская грамотность в этих губерниях в начале 1910-х гг. составляла всего 3,8 %, тогда как в Московской — почти 26 %2.
Можно легко предположить, что в будущем эта часть населения деревни в наименьшей степени испытает на себе влияние модернистских ценностей. Более того, при сохранении семьи как базовой ячейки крестьянского хозяйственного типа главным борцом за неизменность этических приоритетов и воспроизводство традиций преемства будет именно такая женщина.
С другой стороны, в пореформенный период прослеживается весьма устойчивая тенденция к значительному росту грамотности среди молодых россиян, призванных на военную службу. Это позволяет не только прогнозировать переоценку ценностей в молодежной среде в ближайшем будущем, но и вести речь о формировании целого поколения молодых пассионариев, не скованных верностью традиции и готовых к восприятию радикальной идеологии. Так, по данным А. Г. Рашина, в 1867—1904 гг. число грамотных среди ратников в Пензенской губернии выросло с 3,4 до 49,0 %. В целом же к 1904 г. количество лиц, прошедших школьный курс обучения, по четырем губерниям Среднего Поволжья составило 53,5 % от всех призывников3. Причем особенно ощутимые сдвиги в этом отношении пришлись на 1880— 1890-е гг. По сообщениям корреспондентов Саратовской земской управы, в 1902 г. такие оценки, как констатация «заметного» или даже «весьма заметного» возрастания грамотности среди крестьянского населения, являлись преобладающими и достигали 85,7 % всех ответов, поступивших из сел и деревень губернии4.
Первые ростки нового мироощущения стали проявляться и в читательских пристрастиях крестьян. Несмотря на то что религиозная литература по-прежнему доминировала при распространении кни-гопродукции (до 60 %), изменилась содержательная сторона художественных произведений. С начала XX в. в народной литературе взгляды на жизненный успех стали ассоциироваться с богатством и комфортабельной жизнью в городе, а отнюдь не с подвигами во имя царя и церкви5. Следует оговориться, что осуществленный Дж. Бруксом анализ произведений лубочной литературы лишь косвенным образом свидетельствует о существенных изменениях в крестьянском мировосприятии. Согласно данным, представленным в материалах саратовского земства, крестьяне по-прежнему приобретали большей частью книги духовного содержания, «божественные». Практически в каждой семье, где были грамотные, имелись Евангелие и Псалтырь. В некоторых сообщениях подчеркивалось, что «... покупать книги крестьяне неохотники — разве календари и сказочки мелкие»6. С другой стороны, в начале XX в. служители причта также зафиксировали изменение читательских пристрастий: в направлении
«от религиозной литературы к произведениям легкомысленного содержания». Показательно, что причиной подобной трансформации называлось распространение грамотности в крестьянской среде7.
По всей вероятности, подобная двойственность восприятия легко объясняется утилитаризмом восприятия, весьма характерным для когнитивной карты крестьянского сословия. И в дальнейшем, по мере актуализации проблемы образования в крестьянской среде, роста социального интереса к печатному слову, осознания востребованности просвещения как гарантии участия крестьянства в политической жизни страны, можно будет прогнозировать качественные изменения, произошедшие с содержанием ментальности в средневолжской деревне.
Еще одной стороной процесса крестьянской эмансипации становилось формирование такой существенной характеристики модернизированного сознания, как открытость, готовность к восприятию новой культуры. В данном случае речь идет о процессах трансляции и усвоения образов городской субкультуры, что, безусловно, играло далеко не последнюю роль в изменении отношения крестьян к школе и образованию. Появление в деревне носителей новых социокультурных характеристик неоднозначно оценивалось современниками по причине возможной маргинализации корпоративного сознания, что служило дополнительным фактором роста социально-психологической напряженности в деревне. С точки зрения защитников патриархальных традиций, разрыв преемства создавал самую непосредственную угрозу нравственному благополучию сельских обывателей в том отношении, что лишал отдельного человека защиты перед лицом пороков, порожденных «чуждой» крестьянскому естеству городской культурой. Так, по свидетельству пензенского духовенства, главными разрушителями народного благочестия, носителями де виантных образцов поведения считались либо крестьяне, утратившие связь с обществом, либо постоянно живущие «в приходе», но «успевшие заразиться „сво-бодами“... волчатники-пропойцы, разнорабочие, мастеровые-плотники, швецы, сапожники, возвращающиеся со стороны... приходящие на побывку или в запас солдаты, особенно так называемые флотские...»8 и т. д.
История Ивана Босых, описанная в очерках Г. И. Успенского, представляет собой типичный пример распространения в деревне маргинальной культуры. На вопрос писателя: «Отчего пьянствуешь?» Иван отвечал: «Так избаловался, так избаловался... и не знаю даже, что и думать... Отчего? Да все оттого, что... воля! Вот отчего... от своевольства! Все от непривычки, от легкой жизни»9.
Отходничество, дающее легкий заработок, по мнению крестьянина, губительно сказывалось на «трудовой», «мужицкой» природе. По мере того как ослабевала связь с землей, размывалось и значение традиционных этических установок.
В условиях разрыва традиций социокультурного преемства новые ценности буржуазной, городской, культуры легко усваивались личностным сознанием, а затем транслировались, вживлялись в сознание родовое, подтачивая, разрушая его изнутри. Многие современники с сожалением констатировали рост расчетливости, эгоизма, утрату прежних нравственных ориентиров как основных мотивов поведения крестьян.
В конце 1880-х гг. первые признаки проявления модернистского сознания, распространения «духовных болезней» среди крестьянской молодежи были зафиксированы саратовским духовенством. «Образ жизни простолюдина изменился, — сетовал благочинный 5-го округа Балашовского уезда И. Кедров. — Вместо прямодушия и откровенности замечаются обман и лукавство... вместо истинной любви христианской видятся ненависть и житейские расче- ты...» Эти изменения, по мнению священника, крайне негативно сказывались на семейных отношениях, что проявлялось в ослаблении «семейных начал»: в непослушании власти родителей, в неуважении к старшим10.
Благочинный 4-го округа Вольского уезда П. Полянский в отчете за 1889 г. дал развернутую характеристику нового психологического типа деревенского жителя с позиций защитника патриархальной старины. Он написал портрет расколотой деревни, расколотой на стариков, по-прежнему «благочестивых», и молодое поколение, зараженное нравственными пороками. К симптомам «духовной болезни» благочинный отнес следующее: непочтение к родителям и старикам; предосудительную роскошь; легкое отношение к религии и уставам церкви, к узам семейной жизни, к собственности ближнего; сквернословие; пение «безнравственных» песен; усиление пьянства11. Для того чтобы вычленить из этого перечня пороков признаки модернистского сознания, позволим себе привести высказывание благочинного 3-го округа Царицынского уезда, который в числе причин упадка благочестия в пастве, особенно среди молодежи, отмечал «пьянство, воровство, лакомство и щегольство — страсть к нарядам, страсть к играм и зрелищам, употребление гармоники»12. Если пьянство, сквернословие и воровство традиционно входили в список негативных характеристик поведенческой практики крестьянства и 10—15 лет назад, то «легкое» отношение к устоям патриархальной жизни, щегольство, расчетливость, стремление к «предосудительной роскоши», страсть к развлечениям ранее духовенством не фиксировались.
Образцы «иной» культуры транслировались повсеместно: в сборных избах, кузницах, под навесами сараев, в крытых проулках между избами и т. д. Ее знаковые образы воспринимались крестьянами поверхностно, равнодушно, как непонятные, но модные веяния времени. Так, автор великолепных зарисовок сельской действительности начала XX в. Е. Куликов, описывая в уже цитировавшихся выше «Записках сельского священника» молебен во время празднования Пасхи, приводит весьма показательную реплику крестьян на замечание по поводу присутствия в домашнем интерьере сельских обывателей «иллюстраций из журналов порнографического пошиба». «Ну, а то мы не понимаем, батюшка, — говорили прихожане, — мы — темный народ, вот и лепим на стены всякую несуразь. Да мы и не покупаем эти грамотки, а молодые ребята приносят со стороны, от господ»13.
Данное высказывание акцентирует наше внимание на существовании еще по меньшей мере двух аспектов проблемы: зарождения конфликта двух поколений и определения чуждой по социальной принадлежности культуры. Однако поверхностное «усвоение» знаковых символов культуры грядущего индустриального общества влекло за собой сначала распространение новых образцов поведения, утверждение их в качестве привычных, а затем и появление соответствующих стереотипов сознания, формирование новой духовной традиции. Секуляризация сознания постепенно захватывала даже последние островки патриархального быта — селения старообрядцев. Самые рьяные из «ревнителей древнего благочестия» вынуждены были признать девальвацию прежних идеалов: «Ох, не те уже времена ныне: ослабла и старая вера, одна ералаш пошла и у нас, все спуталось, не знай лишь когда распутается; есть у нас теперь и трубокуры, и бритоусы, и пиджачники, и калошники — все завелись»14.
В. Никольский назвал прямым следствием крестьянской эмансипации и соответствующее изменение содержания песенного творчества народа. «Поют все женщины в один голос, довольно сильно, с разными вариациями, приятных и тонких голосов не слышно, а замечается какая-то отвага, смелость, сила. Это влияние свободы. Не таковы были старинные песни, петые во время крепостного права. Заслушаешься и наплачешься, — так отзываются об них сами крестьяне. Оне (песни. —О. С.) были степенные, смиренные, жалобные, а в нынешних только и слышишь: „купчов люб-ливала, сама гуливала... в трактире была, водочку пила“»15.
Контент-анализ моделей успеха и средств его достижения, произведенный Б. Н. Мироновым по материалам лубочной литературы (т. е. на основе читательских пристрастий крестьянства в целом по России) начала XX в., показал, что жизненное благополучие теперь мало зависело от судьбы и Божественного провидения, а обреталось в результате приложения личных усилий. Достижение успеха обеспечивали образование и чтение (15 % случаев), труд, смелость, ум, хитрость (35), страдание, терпение и честность(более 12), судьба (менее 9 %)16.
Словом, если в 60—70-е гг. XIX в. родовое сознание еще не ощущало серьезных вызовов извне, не был затронут необратимыми изменениями процесс воспроизводства традиционных представлений, на что отчасти указывают относительная статичность мыслительных конструкций и минимальная рефлексия общинного мироустройства, то в дальнейшем, особенно в 1890-е гг., ситуация начинает меняться.
По мере возрастания угроз витальности крестьянского бытия и в связи с расширением горизонтов информационного поля российской деревни потребность в получении образования становится ярко выраженной. Корреспонденты текущей статистики в Саратовской губернии отмечали появление существенных различий между грамотными и неграмотными крестьянами в вопросах ведения хозяйства, в мирской жизни и т. д. Из 372 сообщений, поступивших в адрес губернской земской управы, в 173 содержались указания на положительное влияние распространения грамотности на быт и нравственность сельского населе ния: «грамотные крестьяне живут легче»; «из неграмотных гораздо больше сквернословцев и охальников»; «в мирских делах грамотным отдается преимущество» и т. д.17
Самыми значительными по степени своего воздействия факторами, повлиявшими на процесс формирования определенного социального интереса, стали Русско-японская война и ситуационные условия, вызвавшие к жизни так называемое приговорное движение. Кампания подачи документов петиционного характера в адрес I и II Государственных дум, Всероссийского крестьянского союза и других инстанций создает прецедент оформления, письменной фиксации одного из важнейших требований крестьянской программы в период революции 1905—1907 гг. — введения всеобщего бесплатного обучения.
По подсчетам Е. И. Кирюхиной, проанализировавшей значительную часть приговоров, направленных в адрес Всероссийского крестьянского союза, частота высказываний данного показателя полностью совпадает только с требованием уничтожения частной собственности на землю и передачи всех земель крестьянству (146 из 182)18. Включение аналогичных высказываний в петиционные документы говорит о существовании непосредственной зависимости между возникновением нового для патриархального крестьянства способа реализации своих нужд и чаяний и получением образования. В рамках приговорного движения происходило не просто «развитие сознания своего положения» крестьянством, но и серьезная трансформация прежних социальных представлений. Косвенным свидетельством этого служит крайне возросшая потребность деревни в получении информации, ведь думская деятельность была призвана полностью соответствовать интересам крестьянского сословия. Как отмечали корреспонденты саратовского статистического комитета, «газеты читаются с большим интересом, истирают их до невозможности и стро- го следят за ходом действий в Государственной Думе» (с. Камаевка Петровского уезда Саратовской губ.); «нужда в газетах невообразимая, крестьяне, несмотря на полевые работы, аккуратно следят за приходом земской почты»19.
Стремление обрести доступ к информации, желание соответствовать новым формам социальной активности, рожденным, в частности, под непосредственным воздействием деятельности партийных организаций,актуализировали в сознании крестьян требование введения всеобщего бесплатного образования.