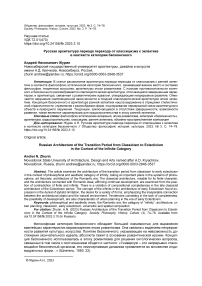Русская архитектура периода перехода от классицизма к эклектике в контексте категории бесконечного
Автор: Журин Андрей Николаевич
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена архитектура периода перехода от классицизма к ранней эклектике в контексте философско-эстетической категории бесконечного, занимавшей важное место в системах философов, теоретиков искусства, архитектуры эпохи романтизма. С позиции противоположности конечного и бесконечного рассматриваются классицистическая архитектура, отличающаяся завершенным характером, и архитектура, связанная с романтическим идеалом, утверждающим непрерывное развитие. Отмечается нарушение композиционной законченности в поздней классицистической архитектуре эпохи эклектики. Концепция бесконечного в архитектуре ранней эклектики нашла выражение в отрицании стилистической ограниченности, стремлении к разнообразию форм, подчеркивании неразрывной связи архитектурного объекта и природного окружения. Тенденции, заключающиеся в отсутствии завершенности, возможности развития, также являются характерными для градостроительства в эпоху ранней эклектики.
Философско-эстетические воззрения, эпоха романтизма, категория «бесконечность», архитектура, градостроительство, классицизм, ранняя эклектика, объемно-пространственная композиция
Короткий адрес: https://sciup.org/149142232
IDR: 149142232 | УДК: 72.01(470) | DOI: 10.24158/fik.2023.3.10
Текст научной статьи Русская архитектура периода перехода от классицизма к эклектике в контексте категории бесконечного
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, Новосибирск, Россия, ,
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts named after A.D. Kryachkov, Novosibirsk, Russia, ,
Последовавший за стилистикой барокко русский классицизм в архитектуре второй половины XVIII – начала XIX в., основанный на стилистике итальянского Возрождения и канонически воспринятых ордерных форм Античности, нес в своих архитектурных сооружениях, парках, планах городов черты не бесконечности, а идеальной законченности. Достаточно обратить внимание в лучших классицистических образцах на идеальную симметрию планов архитектурных сооружений, композиционную статичность их главных фасадов. В центре фасадной центричной композиции выступали, как правило, величественные ордерные портики, которым соответствовали главные помещения плана здания. Их фланкировали с двух сторон менее значимые по иерархии помещения, соответственно, и их выражение на симметричном фасаде и плане было более скромным по пластике и декору по сравнению с центральной частью композиции всего архитектурного сооружения.
Исследователь творчества мастера русского классицизма Д. Кваренги В.Н. Телепоровский отмечает: «Уравновешенность общих масс частей здания, их пропорциональность подчеркивались в членении фасадной схемы. Все, вместе взятое, действовало на зрителя как ясное, глубоко уверенное, безошибочное решение, как своего рода доказанная геометрическая теорема» (1954: 68). «Доказанная теорема» в архитектурном композиционном плане по своей сути является законченной, нет возможности представить бесконечное развитие проектного решения в сознании и мироощущении воспринимающего зрителя.
Классицистическое внутреннее пространство загородного дворца, помещичьего дома также обычно соответствовало их геометрически выверенным фасадам и регулярным парковым пространствам. Строгая геометрия планов, выстроенная на приоритете главного и второстепенного, порождала ощущение статичности и законченности. Однотипные приемы декорирования, узаконенная в своих принципах колористика, единые нормативно трактованные ордерные формы выступали как противоположность идеи бесконечного развития. Цветовое решение декора интерьера соответствовало принятой в классицизме окраске фасадов. В.Н. Телепоровский, характеризуя интерьеры архитектурных произведений Д. Кваренги, подчеркивал, что эффект ощущения неожиданности, переменчивости, множественности разнообразия их трактовки отсутствовал: «Интерьеры Кваренги, благодаря масштабности деталей и их пропорциональности, создают впечатление глубокого равновесия и спокойствия… Входя в интерьер Кваренги, хочется сказать, что здесь вы уже бывали» (1954: 90).
Сложные стилистические процессы перехода от классицизма к ранней эклектике в архитектуре несли в себе черты романтического мироощущения, признавая равноправными классицизму широкий спектр иных исторических стилей прошлого. Сам классицизм с его единственным каноническим рационалистическим идеалом, выражавшемся в виде строгой нормативной ордерной архитектуры Античности и Ренессанса, в эпоху ранней эклектики под влиянием идей, связанных с мироощущением романтизма, обретал новые стилистические черты, характеризующиеся динамикой, разнообразием и стремлением к безграничности (Кириков, 2003: 127).
Идея развития архитектурного ансамбля отмечается в реальной архитектурной практике позднего классицизма. М.З. Тарановская, описывая классицистические постройки К.И. Росси в Санкт-Петербурге, подчеркивает, что «несмотря на обилие декора, здание Сената и Синода, как ни странно, вблизи кажется “суховатым”» (1980: 91). Однако, если взглянуть на это стилистическое явление с точки зрения «новой» архитектуры ранней эклектики, обилие декора многодель-ностью, «сухостью» и измельченностью разрушает статичность и законченность восприятия его формы, создает ощущение композиционного движения. Восприятие зрителем динамичности общей композиции усиливается закруглением угла здания при выходе к Неве, формируя чувство безостановочного развития. Это нетипичное для классицизма ощущение бесконечности усиливает триумфальная арка в композиционном центре главного фасада, она устремлена в нескончаемую протяженность прямолинейной Галерной улицы.
В архитектуре ранней эклектики 1830–1840 гг. обновление стилистики коснулось изменения основополагающих понятий архитектурного формообразования. Архитектурная композиция стала тяготеть к асимметричности, объемно-пространственная статичность обращалась в динамичную трактовку формы. Для этого времени характерно стилистическое противостояние между классицистическим идеалом и динамичным образом средневековой готики, живописных в композиционном развитии планов соборов, монастырей, жилых и оборонительных зданий и сооружений.
Интерес к изучению многочисленных исторических аналогов, ставших востребованными в архитектуре полистилистики, видение непрерывности и устремленности в будущее этого процесса характеризуют архитектурную теорию и практику этого периода. Осознание динамики и бесконечности исторического процесса приобрело в интерпретации Н.В. Гоголя конкретные архитектурные формы. В знаменательной статье 1831 г. «Об архитектуре нынешнего времени» он описывает видение города, в котором присутствуют исторические примеры стилистического разнообразия, при этом в качестве характеристики готической архитектуры, ярко выражавшей мироощущение романтизма, он подчеркивает бесконечное стремление ввысь: «Пусть в нем будут видны: и легко выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша италианская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск» (Гоголь, 2009: 270).
Разнообразие и кажущаяся бесконечность смены впечатлений в движении, связанные с различными стилистическими идеями прошлого, были достигнуты в стилистике восстановленного после пожара 1837 г. Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Интерьеры были выполнены архитекторами в различной стилистической направленности – классицизм, неоготика, архитектура эпохи Возрождения, барокко и рококо, мавританская архитектура. Такие же исторические путешествия совершали гости великокняжеских дворцов, возведенных архитектором А.И. Штакен-шнейдером в Санкт-Петербурге.
В отличие от произведений позднего классицизма, в которых присутствуют черты, отходящие от идеала окончательной завершенности, постройки и проекты архитекторов «нового» поколения – А.И. Штакеншнейдера, А.П. Брюллова, Г.А. Боссе и других мастеров ранней эклектики – несут принципиально новые объемно-пространственные решения. Г.А. Боссе в 1850 г. проектирует собственный особняк в Петербурге. Его уличный фасад имеет горизонтальную композицию, вынесенную на красную линию улицы, и состоит из девяти одинаковых крупных оконных проемов, так называемых «брамантовых» окон с полуциркульным завершением и прямоугольным ордерным обрамлением. Композиционный центр никоим образом не выявляется фасадом, что характерно для классицистической архитектуры. Вследствие этого возникает зрительное впечатление композиционной возможности его продолжения, ограниченной только размерами приобретенного земельного надела. За этим нейтральным фасадом возникает собственный мир развития пространства с выходом в природное окружение – терраса и сад со свободной пейзажной планировкой.
В целом планы зданий, характерные для архитектуры эпохи эклектики, подразумевают ощущение бесконечного изменения, безграничности, принципиально лишены статичной жесткой геометрической рациональности и органично сливаются с природным окружением. Такой подход к планировке применен в собственном доме архитектора А.И. Штакеншнейдера на Миллионной улице Санкт-Петербурга, где геометрическая незамкнутость внутреннего пространства особняка постепенно сливается с пространством земельного участка благодаря зимнему саду, размещенному на первом этаже дома.
Такие же нарочито асимметричные, динамичные объемно-пространственные принципы построения архитектурной формы в ее бесконечном движении отмечаются в парковых павильонах Нового Петергофа 1840-х гг., возведенных по проектам архитектора А.И. Штакеншнейдера. Павильон «Озерки» (Розовый) (1845–1848 гг.), павильон на Царицыном острове (1842–1846 гг.) в архитектурном решении фасадов и планов характеризует тенденция к безграничному изменению и незавершенности композиции, «к неожиданным ракурсам при обходе здания, к пространственной связи его с окружением» (Борисова, 1979: 61–62).
Композиционный принцип проектирования в духе идеи бесконечно развивающегося, безбрежного архитектурного пространства блестяще достигается архитектором Г.А. Боссе в проекте загородного дворца великого князя Михаила Николаевича (1857–1862 гг.). Большой и малый дворцы совмещены в плане и соединены в единую объемно-пространственную живописную структуру. Удивительное впечатление оставляют сохранившиеся исторические фотографии этого загородного дворца, его фасадов, демонстрирующих неограниченное разнообразие. Исследователь архитектуры эпохи эклектики Е.А. Борисова отмечает, что «в отличие от замкнутых в “себе” композиций классицизма с их центростремительной направленностью эта композиция словно нарочито незамкнута, незавершена, “центробежна”, она может быть продлена, продолжена в любом направлении, практически до бесконечности» (Борисова, 1979: 68).
Практика составления асимметричного плана, состоявшего из разновеликих объемов, имела в основе композиционные принципы формирования зданий и сооружений средневековой Европы и допетровской Руси. Сложение плана «палатным способом» было хорошо знакомо архитектору А.И. Штакеншнейдеру, который разработал проект в «русском стиле» Коломенского дворца в Москве, эти же стилистические приемы реализовал архитектор К.А. Тон в проекте Большого Кремлевского дворца в Москве (1838–1839 гг.). За его главным фасадом с композиционно неограниченными поэтажными рядами одинаковых оконных проемов находился живописный, сложный и несимметричный структурный план, включавший в себя парадные залы, в том числе размещенные под углом к основному объему дворцового ансамбля императорские апартаменты, конюшенный двор и древние постройки допетровской Руси – Теремной дворец, Грановитую палату, Собор Спаса на Бору.
Источником вдохновения для живописных, асимметричных по построению планов дворцов, особняков, парковых павильонов также явились замковые и коттеджные строения Западной Европы, в частности постройки немецкого архитектора К.Ф. Шинкеля, характеризующиеся средневековыми мотивами. Кроме того, на творческую деятельность отечественных зодчих эпохи романтизма оказали влияние римские виллы с их живописностью планов и открытостью к внешней окружающей среде. Пенсионеры Императорской академии художеств в Италии, как и русские путешественники, были хорошо знакомы с этими постройками.
Философско-эстетическая концепция бесконечного развития организма, характерная для романтического мироощущения, проявившаяся в архитектуре отечественной эклектики, также начала опосредованно реализовываться в те же годы в градостроительстве. При этом следует отметить, что классицистическая идея композиционной законченности городского пространства, возникшая в проектной практике тех лет, продолжала сохраняться в годы ранней эклектики. Государственные градостроительные идеи перепланировки во многом стихийно сложившихся в эпоху русского средневековья городов формировались на принципах композиционной законченности. Стилистическое единство и замкнутая геометричность генеральных планов не способствовали реализации идей бесконечности, развития. Разработанные архитектором В.И. Гесте в первой трети XIX в. типовые приемы строгих геометрических форм в русском градостроительстве являлись законченными и идеальными в своей сути. Например, им было предложено семь вариантов планировочного решения городских площадей, основанных на строгих геометрических замкнутых формах: квадрате, круге. В.И. Гесте также разработал геометрически выверенные типовые жилые кварталы в форме квадратов, треугольников, трапеций, замкнутых в композиционной структуре, не несшей идею бесконечного развития. Этой же композиционной законченности способствовала реализация «образцовых», типовых проектов, разработанных и внедряемых в отечественную градостроительную практику первой трети XIX в.1
В то же время композиционно замкнутое классицистическое городское пространство в реальности переходило в ощущаемую в своей бесконечности окружающую природную среду европейской России и Сибири. Бескрайние и доступные для горожан лесные массивы, акватории рек с их беспрерывным транспортным движением в летний период разрывали регулярную и законченную суть городского ландшафта и устремляли ее в бесконечность. Это ощущение беспредельности мы видим на многочисленных изображениях городов Российской империи с их перспективами уличного пространства, переходящего в безбрежное ландшафтное окружение. Городские пейзажи, изображая столичные и провинциальные города, расширяют до бесконечности и оживляют их статичные регулярные пространства, включая в них большое переменчивое и бескрайнее небо, туман, своеобразное состояние природы (Борисова, 1999: 205–206).
Во второй половине XIX в. в связи с расширением городского пространства происходит замещение композиционных приемов его организации в духе законченных классицистических геометрических схем прямоугольной сеткой кварталов с возможностью ее бесконечного развития. Такими «открытыми в бесконечность» являлись новые районы исторических городов и новых поселений типа Ново-Николаевска (совр. Новосибирск) в Сибири.
Понятие «бесконечность» занимало важную роль в художественном мировоззрении эпохи романтизма и было материализовано в отечественной архитектуре эпохи эклектики в виде отрицания стилистической ограниченности, композиционных решений зрительно «бесконечных» фасадов, центробежных, развивающихся планов архитектурных сооружений, новом восприятии городского пространства. Эта трактовка вступила в противоречие с законченностью, рациональностью и статичностью классицистической архитектуры и градостроительства.
Список литературы Русская архитектура периода перехода от классицизма к эклектике в контексте категории бесконечного
- Борисова Е.А. Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб., 1999. 316 с.
- Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX в. М., 1979. 318 с.
- Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем. В 17 т. Т. 7.
- Юношеские опыты. Первоначальные редакции. М., 2009. 813 с.
- Кириков Б.М. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. Стили и мастера. СПб., 2003. 247 с.
- Кукольник Н.В. Реставрации русских художников. О реставрациях вообще // Художественная газета. 1840. № 10. С. 1-7.
- Тарановская М.З. Карл Росси. Архитектор. Градостроитель. Художник. Л., 1980. 223 с.
- Телепоровский В.Н. Кваренги. Материал к изучению творчества. Л.; М., 1954. 114 с.
- Шеллинг Ф. Философия искусства. М., 1966. 496 с.
- Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. В 2 т. Т. 1. М., 1983. 479 с.