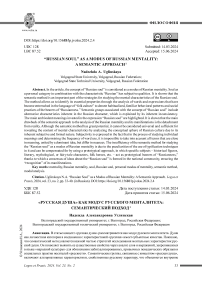«Русская душа» как модус русского менталитета: семантический подход
Автор: Углинская Н.А.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье концепт «русская душа» рассматривается как модус русского менталитета. Душа как личностная категория в соединении с характеристикой «русская» имеет субъектные качества. Показано, что семантический метод является важной частью стратегий исследования ментальных характеристик русской души. Он позволяет выявить ее существенные свойства через анализ слов и выражений, закрепившихся в языке «народной культуры» для обозначения хабитуализированных, привычных поведенческих образцов и социальных практик носителей «русскости». Семантические группы, связанные с концептом «русская душа», включают альтернативные характеристики, свойственные русскому характеру, что объясняется внутренне присущей ему противоречивостью. Выделены основные амбивалентные смыслы, вкладываемые в выражение «русская душа». Показано, что основным недостатком сематического подхода к анализу русского менталитета и его проявлений является отрыв от реальности. Хотя семантический метод обладает большим потенциалом, он не может рассматриваться как универсальный и достаточный для раскрытия содержания ментальных характеристик путем анализа концептосферы русской культуры в силу присущего ему субъективного и формального характера. Субъективность выражается в том, что в процессе исследования отдельных значений и определения частотности употребления слов невозможно учесть все близкие по значению термины, объединенные доминантной идеей, но различающиеся нюансами. Недостаточность семантического метода для изучения «русской души» как модуса русского менталитета обусловлена особенностями использования в нем приемов типизации и может быть компенсирована за счет применения прототипического подхода, при котором конкретные субъекты - исторические личности, литературные, мифологические или сказочные персонажи, народные герои и т. д. - выступают в качестве прототипических носителей «русскости», благодаря которым в национальном сообществе формируется консенсус представлений о «русской душе», обеспечивающий «узнавание» ее проявлений.
Менталитет, русский менталитет, душа, русская душа, личностный модус менталитета, семантический метод, модальный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/149146832
IDR: 149146832 | УДК: 128 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.2.4
Текст научной статьи «Русская душа» как модус русского менталитета: семантический подход
DOI:
Цитирование. Углинская Н. А. «Русская душа» как модус русского менталитета: семантический подход // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 33–40. – DOI:
Концепт «русская душа» является многогранным, включающим в себя широкий спектр смыслов, в которых зачастую видят наиболее яркое выражение русского менталитета, для исследования которого широко применяется семантический анализ. Его эвристические возможности и преимущества для выявления специфики «русской души» через изучение языка «народной культуры» были отмечены в ряде работ, посвященных анализу семантики наиболее употребляемых русских слов [Вежбицкая 1996; Гачев 2008; Колесов 2006].
Понятие «душа» обладает множеством коннотаций, к важнейшим из которых относятся: внутренний, психический мир человека и его сознание («радостно на душе», «душа меру знает»); свойство характера («добрая душа»), сверхъестественное, бессмертное начало в человеке («души умерших»), самого человека («в доме ни души», «мертвые души») [Ожегов, Шведова web]. Семантический анализ слова «душа», проведенный А.Д. Шмелевым, показал, что его изначальный смысл отождествлялся с человеком как единицей населения («считать по душам», «на душу населения» – от лат. per capita, буквально «на (одну) голову») [Шмелев 2005а, 137]. В английском языке существуют примеры прямого отождествления тела и души, например, местоимения «anybody» (дословно «любое тело») и somebody (дословно «какое-то тело»), которые переводятся как «кто- нибудь. Однако в русской культуре связь души с понятиями «дух», «сознание», «человек», «тело» не предполагает отождествления ее с ними.
Обыденное сознание интерпретирует душу, как невидимый орган в груди человека, вмещающий в себя его внутренние состояния («на душе», «в душе», «лезть в душу», «раскрыть душу», «плевать в душу»). Концептуализация души в качестве «органа» переживания различных состояний – растерянности, пресыщения, «горения», сосредоточенности, лени, тоски и т. д. – прослеживается на примере широкого спектра словосочетаний, описывающих их через телесные метафоры («голова идет кругом», «сыт по горло», «кровь закипела», «сила разлилась по телу», «не вешать нос», «сидеть в печенках»).
Душа связана с душевностью. «Душевность есть явленная духовность, но все же “вещна” она, через чувство и опыт вглубля-ется в жизнь» [Колесов 2006, 269], – отмечает В.В. Колесов. Таким образом, в отличие от духа, существующего в энергийном поле, на уровне волеизъявления, и не концептуализирующегося в качестве органа, душа находит свое воплощение на онтологическом уровне, и, тем самым, непосредственно связана с личностью. Являясь личностной категорией, душа в соединении с характеристикой «русская» «дает представление об идеальном инварианте (символе) “народного Я”» [Колесов 2006, 277], то есть представляет собой кон- цепт, выступающий личностным модусом русского менталитета.
Идея связи русского менталитета с русской душой разрабатывалась представителями русской религиозной философии Н.А. Бердяевым, Н.О. Лосским и Б.П. Вышеславцевым, которые привнесли в культурологическое поле концепты «русский национальный характер», «душа народа», «характер народа», «социальный характер», «психология русского народа» [Бердяев web; Вышеславцев web; Лосский web], выражающие типичные эмоционально-психологические характеристики «русскости».
Рассмотрим основные амбивалентные смыслы, вкладываемые в выражение «русская душа» посредством анализа его семантических компонентов.
Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин и другие выделяли в качестве типичного свойства русского народа религиозность, понимаемую в самом широком смысле. Она находит отражение, с одной стороны, в таких мирских свойствах русской души как «совесть», «смирение», «простота», «самоотверженность», «кротость», в приоритете духовных ценностей над материальными, ведущими к телесным удовольствиям, а с другой – включает признание абсолютных ценностей и сакрализацию России в народном самосознании (что выражается в фольклорном образе «Святой Руси»). При этом Л.П. Карсавин отмечал, что наряду с религиозностью русскому народу свойственен воинствующий атеизм, возникающий как противовес пассивности и бездействию. По мнению Н.О. Лосского, миропонимание советских коммунистов, так яростно отрицающих религиозные ценности и пропагандирующих материалистические, не противоречит русскому характеру, так как руководствуется идеалами «искания добра для всего человечества» [Лосский web], и, более того, их рвение в установлении таких идеалов, сопровождаемое сакрализацией вождей и их трудов, подобны религиозности особого рода. Н.А. Бердяев также усматривал религиозность русского атеизма, видя его проявления в героических поступках во имя абсолютных идей.
Свойственное русскому человеку «чуткое различение добра и зла» [Лосский web] выливается в претензию русского самосознания на нюансирование хорошего и плохого, распознавание в них тончайших оттенков, для выражения которых в русском языке есть целый арсенал уникальных семантических средств. Так, например, В.В. Набоков выделяет непереводимое на другие языки русское слово «пошлость»: «Пошлость – это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Припечатывая что-то словом “пошлость”, мы не просто выносим эстетическое суждение, но и творим нравственный суд» [Набоков 2010, 431]. Свой- ственное русскому менталитету стремление различать оттенки при вынесении моральных суждений находит отражение также в области сниженной лексики: так, слова «подлец», «мерзавец» и «негодяй» имеют особенный смысл при сходстве общего значения морального порицания. По этой причине В.В. Колесов критикует методику А. Вежбицкой выводить заключения о русском менталитете на основе распространенных выражений без учета вариативности конструкций и в сравнении с английской формой строения речемысли (где, по его замечаниям, еще больше слов сниженного стиля) [Колесов 2006, 43].
Отражение и типизация социально-психологических черт русского характера в художественной литературе приводит не только к их нюансированию, но и к появлению лексических форм с обобщающими, собирательными значениями. Так, безволие, лень, пассивность, откладывание дел на потом собраны И.А. Гончаровым в емкое понятие «обломовщина». Это свойство русской души фиксируется в обыденном и просторечном языке словами «лень», «неохота», «лодырь», «лоботряс», «кое-как», «постараюсь» (в отличие западного «сделаю») и др. Также на своеобразное безволие и отказ от приложения усилия указывают триады «получилось-вышло-сло-жилось» и «довелось-посчастливилось-повез-ло», выделенные А.А. Зализняком и И.Б. Левонтиной [Зализняк, Левонтина 2005] как обозначающие неподвластность результата воле человека, зависимость от внешних обстоятельств. Неконтролируемость событий видна в типично русском слове «авось». По мнению А. Вежбицкой, сама семантическая структура русского языка предполагает перекладывание ответственности на внешние обстоятельства, что выражается в широком использовании возвратных глаголов с окончанием на -ся («хочется», «думается», «раз на раз не приходится» и т. п.) снимают с человека ответственность за его действия. В условиях неконтролируемости человеком событий его жизни важнейшее значение приобретают лексемы «удача» и «удаль», не рассматриваемые филологами как связанные между собой словообразовательной связью, но отражающие объективную и субъективную стороны благоприятных событий, случающихся с челове- ком. Удаль, то есть «храбрость в широком движении» [Лихачев 2014, 15] в русском характере гипертрофируется и может трансформироваться в «безбашенность». О том, что в понимании представителей других культур русским людям свойственна такая черта характера, свидетельствует, например, то, что самую экстремальную в мире игру, ставкой в которой является жизнь, принято называть «русская рулетка».
На фоне безволия как отказа от активного действия контрастно проявляются такие качества как активная реакция на несправедливость, активное (действенное) отвержение, неприятие мира, нигилизм. Рассматривая их, Б.П. Вышеславцев использовал в качестве примера стихийную реакцию Ильи Муромца на обиду за то, что его не пригласили на княжеский пир: «Это не революция западно-европейская с ее добыванием прав и борьбою за новый строй жизни, это стихийный нигилизм , мгновенно уничтожающий все, чему народная душа поклонялась, и сознающий притом свое преступление, совершаемое с “голью кабацкой”» [Вышеславцев web]. Идея неприятия мира, которая находит себя в терминах «странник» («Странник – свободен от “мира”, и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах» [Бердяев web]), «скиталец», «путник», «отщепенец», «юродивый», «неприкаянность». Неприятие мира также выражается в особенности русского человека стыдиться счастья, как будто он не достоин быть счастливым («На свете счастья нет, но есть покой и воля» (А.С. Пушкин), «Человек создан для счастья, только счастье не всегда создано для него» (В.Г. Короленко)). А. Вежбицкая отметила, что если в английском языке счастье – это повседневная эмоция, русское счастье труднодостижимо, оно не является нормой для человека, а поэтому не имеет эквивалента в западноевропейских языках [Wierzbicka 1992].
Также филологи выделяют специфически русское, часто употребляемое слово «тоска», которое практически непереводимо на английский язык. Его довольно сложно определить. По замечаниям А.Д Шмелева, существующие словарные определения (тревога, скука, уныние и т. п.) описывают состояния, близкие тоске, но не отображающие в полной мере ее сущность. На его взгляд, «...тоска – это то, что испытывает человек, который чего-то хочет, но не знает точно, чего именно, и знает только, что это недостижимо. А когда объект тоски может быть установлен, это обычно что-то утерянное и сохранившееся лишь в смутных воспоминаниях; ср.: тоска по родине; тоска по ушедшим годам молодости...» [Шмелев 2005б, 31]. Тоска также соотносится с понятиями «скучать» (тосковать по кому-то) и «маяться» (не находить себе места).
«Широта» и «открытость» русской души, имеющие своим истоком лексико-семантическую группу со смысловой доминантой «простор», указывающей на отсутствие ограничений («приволье», «раздолье», «воля вольная», «все или ничего»), указывают на нее как на вместилище переживаний, способностей и душевных сил («простор для фантазии, простор для чувств, воображения» [Левонтина, Шмелев 2005, 67]).
Другая сторона широты русской души выражается понятием «общение», которое можно назвать культурным скриптом русской культуры. А. Вежбицкая отмечает, что русская душа – это не душа одного человека, а взаимопонимание, взаимосвязь, рождающиеся между людьми в процессе общения. С открытостью общения как свойства русского менталитета связаны, с одной стороны, позитивные качества – гостеприимство, щедрость, хлебосольство, а с другой – неуважение границ другого человека, определяемое как панибратство. Русское «общение» не тождественно западной «коммуникации», «контакту» или «диалогу», являющимся целеполагающими понятиями, ориентирующими на достижение позитивного результата. В русской культуре общение может быть ради общения, оно ценно само по себе и несет в себе смысл приятного времяпрепровождения. В общении достигается «общность» с другими, возможность «излить душу», получить «радость и удовольствие от общения». Наличие выражений «говорить по душам», «отвести душу», «душа нараспашку», «открыть душу» и т. п. говорят о важности искренности в общении. Таким образом, в русской культуре положительная оценка отводится именно «общению по душам», в котором раскры- вается внутреннее расположение человека, в отличие от внешних «вежливости» и «условности». Общение по душам в сознании русского человека предполагает «правду», ориентацию на сердце, а не на разум. Разум сводится к «бездушности», ему приписывают характеристики «холодный», «безличный», «бескомпромиссный».
«Правда», на которую ориентируется русская душа, не тождественна «истине», это доказывает наличие двух разных слов для описания того, что, например, в английском выражается одним словом «truth». В отличие от английского «truth», «связанного со знанием, рациональным мышлением и объективными доводами» [Вежбицка 2005, 488], русское слово «правда» связано с людьми, с их общением и возможностью доверять друг другу, с душой и искренностью. Таким образом, правда / неправда в русской культуре не являются абстрактными понятиями; борьба с неправдой и обличение лжи занимают высокое место в иерархии культурных ценностей, о чем свидетельствует разнообразный словарный ряд, связанный с ложью и отрицательным отношением к ней («неправда», «ложь», «вранье», «обман», «брехня», «фальшь», «соврать», «приврать», «переврать», «напускной», «горькая правда» и «сладкая ложь» и др.). С правдой в русской культуре связывают справедливость как выражение абсолютного добра. Однако, с другой стороны, для русского человека характерно лгать из самых добрых побуждений, например, чтобы не обидеть другого человека, когда необходима «ложь во спасение».
Н.О. Лосский писал, что «к числу первичных основных свойств русского народа принадлежит доброта, углубляемая и поддерживаемая исканием абсолютного добра и религиозностью...», однако «...измученный злом и нищетою русский человек может проявить и большую жестокость» [Лосский web]. Н.А. Бердяев отмечал, с одной стороны, доброту, человечность и мягкость русской души, и, в то же время, склонность к насилию.
О любви к свободе как сущностной душевной силе русского народа писали Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский, И.А. Ильин. На разницу в понимании свободы для русского и запад- ного человека указал В.К. Трофимов: «Если для европейца свобода есть сознательный и добровольный учет необходимости в своих поступках, то для русского свобода – это воля, соединенная простором, с ничем неограниченным пространством» [Трофимов 1998, 56]. Таким образом, для русского менталитета свобода – это отсутствие ограничений. Такая свобода граничит со своеволием и отсутствием меры. Своеволие может выродиться в самодурство (излюбленный мотив критики в русской литературе). Щедрость, как свобода распоряжаться своей собственностью, находит отражение в словах «обилие», «хлебосольство», «гостеприимность». Щедрость без меры может выродиться в расточительность, беспечность, мотовство («Бог дал, Бог взял», «сорить деньгами»). Такое противоположное щедрости качество как скупость в русской культуре осуждается вплоть до отождествления с душевной черствостью. Свободолюбие русской души проявляется также в специфическом отношении к собственности (если ты не можешь отдать вещь, которая тебе принадлежит, то тогда ты сам принадлежишь этой вещи) и к богатству (в богатстве задыхается духовная свобода).
Приведенные примеры показывают, что посредством семантического анализа выявляется амбивалентный характер русской души как модуса русского менталитета, обусловленный сопряженностью двух начал – низшего, земного, материального и высшего, духовного. В.К. Трофимов объясняет «загадочность» русской души тем, что душевные противоречия в русской культуре приобретают форму парадоксов: они, с одной стороны, не сочетаются и исключают друг друга, а с другой – в полной мере являются характерными для русского человека [Трофимов 1998].
Семантический метод, несомненно, обладает большим эвристическим потенциалом при анализе характеристик национального менталитета путем анализа концептосферы русской культуры, однако он не является универсальным и достаточным в силу присущего ему субъективного и формального характера. Субъективность выражается в том, что в процессе исследования отдельных значе- ний и определения частотности употребления слов невозможно учесть все близкие по значению термины, объединенные доминантной идеей, но различающиеся нюансами. При построении общей языковой картины необходимо делать упор не на словах, а на концепциях и практиках, на что указывал британский филолог Х. Ллойд-Джонс [Lloyd-Jones 1971]. Одновременно нужна рефлексия над тем, какие из выделенных слов действительно выражают устоявшиеся взгляды, а какие являются закрепившимися языковыми штампами.
Основным недостатком сематического подхода к анализу национального менталитета и его проявлений является отрыв от реальности. М.М. Кром, анализируя попытки представителей антропологически ориентированной истории описывать менталитет конкретных сообществ на основании изучения мнений, выраженных в «типичных» словах и выражениях, показал, что это ведет к искажению исторической реальности и ошибочным выводам [Кром web]. В языке всегда найдутся альтернативные трактовки одного и того же события.
Признание субъектного статуса «русской души» не позволяет рассматривать ее как набор эмпирически фиксируемых (и неизбежно противоречивых) типичных характеристик, разделяемых членами сообщества. Более продуктивным представляется прототипический подход, при котором конкретные субъекты – исторические личности, литературные, мифологические или сказочные персонажи, народные герои и т. д. – выступают в качестве прототипических носителей «русскости», благодаря чему в национальном сообществе формируется консенсус представлений о «русской душе», обеспечивающий «узнавание» ее проявлений.
Список литературы «Русская душа» как модус русского менталитета: семантический подход
- Бердяев web - Бердяев Н.А. Судьба России. Сборник статей (1914-1917) // https://legitimist. ru/ lib/philosophy/n_berdyaev_sudba_rossii.pdf
- Вежбицка 2005 - Вежбицка А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. (ред.). Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 467-499.
- Вежбицкая 1996 - Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
- Вышеславцев web - Вышеславцев Б.П. Русский национальный характер // http://yakov.works/ library/03_v/ish/eslavzev_05.htm
- Гачев 2008 - Гачев Г.Д. Ментальности народов мира. М.: Алгоритм: Эксмо, 2008. 541 с.
- Зализняк, Левонтина 2005 - ЗализнякА.А., Левонтина И.Б. Отражение «национального характера» в лексике русского языка // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д (ред.). Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 307-335.
- Зализняк, Левонтина, Шмелев (ред.) 2005 - Зализ-някА.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. (ред.). Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с.
- Колесов 2006 - Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. 624 с.
- Кром web - Кром М.М. История России в антропологической перспективе: история ментально-стей, историческая антропология, микроистория, история повседневности // https://el-history. ru/node/432
- Левонтина, Шмелев 2005 - Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Родные просторы // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. (ред.). Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 64-75.
- Лихачев 2014 - Лихачев Д.С. Заметки о русском. М.: КоЛибри, АзбукаАттикус, 2014. 479 с.
- Лосский web - Лосский Н.О. Характер русского народа // https://vtoraya-literatura.com/pdf/ lossky_kharakter_russkogo_naroda_1957_ocr.pdf
- Набоков 2010 - Набоков В. Лекции по русской литературе. СПб.: Азбука-классика, 2010. 446 с.
- Ожегов, Шведова web - Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка // http://lib.ru/ DIC/OZHEGOW/ozhegow_a_d.txt
- Трофимов 1998 - Трофимов В.К. Душа русского народа: природно-историческая обусловленность и сущностные силы. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1998. 157 с.
- Шмелев 2005а - Шмелев А.Д. Дух, душа и тело в свете данных русского языка // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. (ред.). Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005а. С. 133-152.
- Шмелев 20056 - Шмелев А.Д. Лексический состав русского языка как отражение «русской души» // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. (ред.). Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 20056. С. 25-38.
- Lloyd-Jones 1971 - Lloyd-Jones H. The Justice of Zeus. Berkley. 230 p.
- Wierzbicka 1992 - Wierzbicka A. Talking About Emotions: Semantics, Culture, and Cognition // Cognition and Emotion. 1992. №> 6 (3/4). P. 285-319.