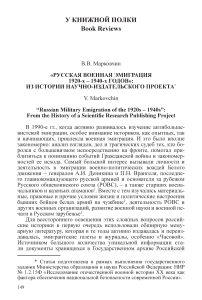«Русская военная эмиграция 1920-х - 1940-х годов»: из истории научно-издательского проекта
Автор: Марковчин Владимир Викторович
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: У книжной полки
Статья в выпуске: 46, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье в контексте современной историографической ситуации рассматривается история замысла и осуществления научно-издательского проекта «Русская военная эмиграция». Проект включает в себя подготовку и издание десяти томов документов и материалов, которые хранятся в архивах российских спецслужб и почти сто лет имели гриф «совершенно секретно». Шесть томов, изданных к настоящему времени, всесторонне освещают историю военной части русской антибольшевистской эмиграции в странах Европы. Автор, являясь участником проекта, со знанием дела рассказывает о выявлении этих уникальных документов и материалов, об археографической и научно-справочной подготовке их к публикации. Делается вывод о том, что опубликованные документы и материалы значительно расширили источниковую базу современных исследований истории русской военной эмиграции 1920-х - 1940-х гг.
Гражданская война в России, белое движение, русская эмиграция, военная эмиграция, п.н. врангель, советские спецслужбы, разведка, историография, археография
Короткий адрес: https://sciup.org/14913746
IDR: 14913746
Текст научной статьи «Русская военная эмиграция 1920-х - 1940-х годов»: из истории научно-издательского проекта
V. Markovchin
“Russian Military Emigration of the 1920s – 1940s”:
From the History of a Scientific Research Publishing Project
В 1990-е гг., когда активно развивалось изучение антибольшевистской эмиграции, особое внимание историков, как опытных, так и начинающих, привлекла военная эмиграция. И это было вполне закономерно: анализ взглядов, дел и трагических судеб тех, кто боролся с большевизмом непосредственно на фронте, помогал приблизиться к пониманию событий Гражданской войны и закономерностей ее исхода. Самый большой интерес вызывали личности и деятельность в эмиграции военно-политических вождей Белого движения – генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, последнего главнокомандующего русской армией и основателя за рубежом Русского общевоинского союза (РОВС), – а также старших военачальников и казачьих атаманов1. Вместе с тем изучались материальные, правовые и прочие условия жизни и политические настроения бывших бойцов белых армий на чужбине2, деятельность РОВС и других военных организаций, развитие военной науки и военной печати в Русском зарубежье3.
Для всестороннего освещения этих сложных вопросов российские историки в первую очередь использовали обширную мемуарную литературу, которая в те годы активно издавалась и переиздавалась, эмигрантские газеты и журналы, особенно «Часовой». Источником большого количества уникальной информации стали документы хранящихся в Государственном архиве Российской
Федерации (ГАРФ) фондов бывшего Пражского архива, к которым исследователи получили свободный доступ.
Однако по мере того как выходили в свет новые статьи, очерки и книги, все более очевидной становилась необходимость введения в научный оборот документов советских органов государственной безопасности 1920-х – 1930-х гг. Они рассматривали военную и политическую эмиграцию, ее самую активную часть, как реального противника, несущего угрозу власти партии большевиков в России и в других советских республиках, а затем в СССР. Поэтому они целенаправленно собирали и анализировали информацию об эмигрантской среде, о ее руководителях и организациях.
Тогда-то и возникла идея научно-издательского проекта, выполнение которого привело к выходу в свет серии сборников «Русская военная эмиграция 20-х – 40-х годов: Документы и материалы», которыми были бы введены в научный оборот документы и материалы, собранные советскими спецслужбами. Среди бесчисленных на сегодняшний день публикаций исторических исследований, документов и воспоминаний о русской эмиграции порожденный этим проектом многотомный историко-археографический труд стоит несколько особняком, выделяясь академичностью и фундаментальностью. В 2016 г. мы, участники проекта, отметим 20-летие его разработки и начала претворения в жизнь, в связи с чем, на наш взгляд, пришло время рассказать о том, в каких условиях он зарождался и как развивался.
* * *
Идея проекта возникла в 1994 г., на форуме отечественных архивистов, который проходил в Институте военной истории Министерства обороны России (теперь – Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии Генерального штаба Министерства обороны России).
На начальном этапе сотрудничества Института военной истории с представителями отечественных архивов, включая архивы современных российских спецслужб – Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы контрразведки (ФСК) (с 1995 г. – ФСБ России), – касались исключительно уточнения биографических данных видных военных и штатских деятелей Белого движения и русской эмиграции. Как правило, в качестве источника такого рода информации использовались материалы следственных дел, хранившихся в то время в архивах органов госбезопасности (в настоящее время больше половины прекращенных уголовных дел уже передана на хранение в государственные архивы).
Позднее возникла идея разработки и осуществления нового, открытого для всех исследователей проекта с участием трех силовых ведомств: Минобороны, СВР и ФСБ России. Основной темой на 150
начальном этапе был определен Русский общевоинский союз: созданный в 1924 г., он на всем протяжении своей деятельности рассматривался советскими спецслужбами как наиболее вероятный противник среди всех военных организаций Русского зарубежья. Однако с течением времени эта идея трансформировалась: расширились тематика, географические и хронологические рамки. В итоге начинание превратилось в фундаментальный десятитомный проект.
Тематика проекта каждому из его участников была близка по-своему, и поэтому при его реализации не было каких-либо идейных, научных и иных разногласий. Каждый из составителей являлся сильным специалистом в своей сфере, поэтому скоро сложился коллектив единомышленников, которые, независимо от своих званий и должностей, старались внести посильный вклад в общее дело. Особо следует отметить роль и заслуги в осуществлении проекта А.А. Здановича, В.К. Виноградова, И.И. Басика, В.О. Дайнеса, А.Т. Жадобина, В.А. Авдеева, В.Н. Карпова, В.Г. Краснова и В.И. Муранова.
С течением времени состав авторского коллектива неоднократно менялся, но неизменно высоким оставался уровень его археографической и научно-справочной работы. Воспоминания о первом практическом опыте, первых встречах и знакомствах, останутся с нами навсегда.
* * *
Учитывая специфику каждой из организаций, которые участвовали в проекте, некоторое время понадобилось на его согласование. Достаточно сказать, что решение о возможности его осуществления принималось руководством всех трех силовых ведомств. В конечном итоге в качестве соисполнителей серии документальных сборников «Русская военная эмиграция» были определены Институт военной истории, Центральный архив и Пресс-бюро СВР России, Центральный архив и Центр общественных связей ФСБ России.
Весной 1996 г. началось целенаправленное выявление материалов по истории русской военной эмиграции в архивах отечественных спецслужб, а также в Государственном архиве Российской Федерации и Российском государственном военном архиве (РГВА), где также хранятся фонды, содержащие документы по истории белых армий и белой эмиграции. Если с двумя последними архивами было все более или менее несложно и привычно, то с архивами спецслужб все оказалось значительно сложнее.
Обнаружилось, например, что в архиве Лубянки огромное количество материалов, в которых отражена деятельность военной эмиграции, рассеяно по десяткам различных фондов, по тысячам архивных дел. Кроме того, много десятилетий назад никто из тогдашних архивистов не только не занимался систематизацией этих материа- 151
лов, но даже и не предполагал, что со временем они будут опубликованы в первозданном виде. Поэтому документы разведки нередко соседствовали с материалами контрразведки, пограничной службы, особых отделов Красной армии, Наркомата по иностранным делам и иных ведомств, учреждений и подразделений.
Каждый из выявленных документов предстояло осмыслить, провести экспертизу его ценности, откопировать, осуществить процедуру рассекречивания (практически все документы носили ограничительный гриф «совершенно секретно») и только потом «вливать» его в сборник.
Материалы спецслужб имеют собственную специфику. Иногда приходится довольно сильно поломать голову над тем, какому из подразделений принадлежит тот или иной документ, не говоря уже о точном его наименовании, которое будет включено в будущий заголовок при публикации. Как правило, далеко не последнюю роль в данном процессе играют различные рукописные пометы, сделанные на документах, – и в этом заключается их непреходящая ценность, так как очень многие из них представляли собой копии, лишенные обязательных атрибутов оригиналов.
Нередко встречались и рукописные документы, и тогда их приходилось расшифровывать буквально по буквам. Так, одно из подлинных писем генерала П.Н. Краснова мы со старшим научным сотрудником Института, известным историком Валерием Александровичем Авдеевым смогли полностью прочитать только в результате кропотливой работы, затянувшейся на несколько часов. Но оно того стоило: документ оказался очень содержательным и ценным.
Пытливые читатели спросят: каким образом это письмо оказалось в архиве Лубянки?
Все просто: начиная с Октябрьского переворота 1917 г. всему, что угрожало существованию большевистской власти, уделялось самое пристальное и неослабное внимание. Русская армия генерала Врангеля, иные вооруженные формирования, ушедшие из бывшей Российской империи в вынужденную эмиграцию, очень «плотно» отслеживались советскими спецслужбами. На эту работу направлялись самые опытные сотрудники, отпускались немалые средства, в том числе золотовалютные, с помощью которых добывались материалы из штабов, организаций и спецслужб, частных и государственных, пусть даже и самых засекреченных.
Скажем больше: к возможной эвакуации частей Русской армии генерала Врангеля из Крыма органы Всероссийской чрезвычайной комиссии подготовились основательно. И в ноябре 1920 г. вместе с отплывающими из Севастополя, Ялты, Евпатории, Феодосии и Керчи белыми частями и гражданскими беженцами уходили и их непримиримые противники из красного лагеря, снабженные всем необходимым – формой, документами, легендами и т.д. В обстановке эвакуационной паники и относительного беспорядка (где-то 152
больше, где-то, как в Севастополе, меньше) осуществить это было не так уж трудно.
Близится 100-летие Октябрьского переворота, ввергшего Российскую империю в кровавую катастрофу Гражданской войны. К большому сожалению, российской исторической науке на сегодняшний день даже примерно не известно, сколько подданных погибшей империи покинули свою родину (различные источники и подсчеты дают цифры от 500 тыс. до 5 млн). Благодаря документам и материалам, выявленным и публикуемым в серии «Русская военная эмиграция», мы можем хотя бы представить себе те несчастья, беды и трудности, с которыми столкнулись наши соотечественники на чужбине.
* * *
Изначально составители предполагали отразить в документах два основных направления исхода белогвардейских формирований за пределы Родины – европейское и азиатское, – хотя отчетливо представляли себе, что география этого явления была значительно шире. Все материалы томов решили сгруппировать по тематикохронологическому принципу.
Проблемных моментов в процессе подготовки издания было немало.
Разработка полноценного и объективного научно-справочного аппарата затруднялась особенностями тогдашней историографической ситуации: в духе господствующей в нашей стране идеологии долгие годы эмиграция освещалась отечественными историками однобоко и тенденциозно. Свои тонкости были в точной и непредвзятой трактовке как событий, описываемых в документах, так и лиц, участвовавших в этих событиях.
С особыми сложностями были сопряжены поиск и подготовка иллюстраций для издания. Частично фотографии были получены из Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, частично выявлены в ГАРФ и РГВА. Некоторые фотографии были обнаружены в различных раритетных изданиях, хранящихся в библиотеках спецслужб. Например, в «Альбоме кавалеров Ордена святого Великомученика и Победоносца Георгия и Георгиевского оружия», изданном в 1935 г. в Белграде на средства Общества кавалеров ордена Св. Георгия и Георгиевского оружия. Ценные снимки были получены из Российского фонда культуры. В частности, из личного фотоальбома бывшего начальника Особого отдела (контрразведки) врангелевского штаба генерала Е.К. Климовича, в котором его владельцем были отражены самые значительные вехи в истории Белого движения на юге России и военной эмиграции.
За несколько месяцев работы только архивом Лубянки было предоставлено рабочему коллективу «Русской военной эмиграции»
около 6 тыс. листов копий документов, которых было вполне достаточно для нескольких первых томов издания. Тут неожиданно встал вопрос о первых документах, которым суждено открывать издание: уже выявленные и подготовленные к публикации не могли претендовать на эту роль – необходимы были какие-то «ударные» материалы. И в сжатые сроки такие материалы были выявлены.
1-й том «Русской военной эмиграции» из-за большого объема был разделен на две книги: «Исход» и «На чужбине». Тиражом в 10 тыс. экземпляров их выпустило весной 1998 г. московское издательство «Гея», которое в то время специализировалось на издании мемуарной и иной литературы. Презентация обеих книг 1-го тома прошла в Пресс-бюро СВР России.
На сегодняшний день в свет вышло шесть томов, охватывающих «европейский театр» антибольшевистской борьбы военной эмиграции. 7-й том, названный «Восточная ветвь» и, как видно из названия, посвященный дальневосточной военной эмиграции, должен выйти до конца 2015 г. Дальневосточной эмиграции будет посвящен и 8-й том.
* * *
Остановимся на обзоре 1-й книги 1-го тома – «Исход», – расскажем о самых интересных документах, включенных в нее.
Книгу открывают документы службы военно-морской разведки, более известной под названием «ОК». Эта спецслужба была создана в самом начале Первой мировой войны, и ее агентурная сеть раскинулась на довольно обширной территории, регулярно снабжая свое руководство различного рода военно-политической информацией. С мая по конец 1919 г. она подчинялась непосредственно адмиралу А.В.Колчаку
В 1920-х гг. часть архива этой военно-морской разведки попала в распоряжении советских спецслужб, и нам удалось выявить документы «ОК» за 1916 г. Из них видно, что агентурная сеть формировалась из опытных флотских офицеров, и, несмотря на усиление хозяйственной разрухи и острый финансовый кризис на белых территориях, на ее деятельность выделялись серьезные денежные средства. Работа этой военно-морской разведки никак не афишировалась – наоборот, тщательно маскировалась, что позволило ей просуществовать до окончания Гражданской войны («ОК» была распущена в начале 1922 г.).
Военные агенты «ОК» были откомандированы, частью – нелегально, практически во все столицы европейских морских держав – в Париж, Лондон, Христианию (Осло), Стокгольм, Копенгаген и другие. Особое место в этом ряду занимала Германия: как главный противник в мировой войне.
Несколько телеграмм агентов «ОК» за январь–май 1920 г., опу- бликованных в начале 1-й книги, ярко и лаконично обрисовывают состояние уже образовавшихся центров русской эмиграции в Европе, и данные в них оценки, кстати, во многом совпадают с оценками, содержащимися в полученных оперативным путем материалах немецкой разведки4. Кроме того, эти телеграммы содержат как точный анализ хода боевых действий на юге России, так и выводы относительно перспектив Белого движения в целом5.
Первые белогвардейские части покинули Россию уже в январе 1920 г. Это были части, входившие в состав Вооруженных сил на юге России (ВСЮР) генерала Деникина, и отступившие к Одессе после поражений, понесенных от Красной армии в малороссийских и новороссийских губерниях. Русская Вандея продолжилась для некоторых из них уже на границе с Румынией, которая присоединилась к Антанте в 1916 г. и которую русская армия спасла от полного разгрома. Рапорт полковника Николаенко о полном трагизма отходе добровольческих войск из Одессы в Румынию и попытках перейти румынскую границу6 вряд ли оставит кого-то из читателей безучастным.
Сейчас, спустя почти целый век после описываемых событий, трудно себе представить безысходность и отчаяние беженцев, военных и гражданских, обездоленных и обескровленных, упрямо идущих под румынским пулеметно-пушечным огнем через границу. А между тем это было, и элементарное человеческое сострадание оказалось, в очередной раз, лишним в тот момент, и гибель десяти с половиной тысяч человек на границе с Румынией стала ценой румынского «гостеприимства».
С уверенностью можно сказать, что даже в поверженной Германии, задавленной репарациями и контрибуциями, лишенной части собственной территории, с последствиями в виде гиперинфляции, безработицы, голода и отправки собственных детей на воспитание в более благополучные страны, наши военные эмигранты находили у бывших врагов больше сочувствия и помощи, нежели у своих недавних союзников по Антанте. Это отношение ярко иллюстрирует письмо Союза германских офицеров, направленное генералу П.В. Глазенапу 14 мая 1920 г.7
Мало уже кого из современных исследователей и любителей истории удивляет жестокость и цинизм большевистских руководителей, которые раскрываются по мере выявления и введения в научный оборот прежде неизвестных документов. К таким документам относится и служебная записка начальника Особого отдела Кавказского фронта К.И. Ландера, направленная в ВЧК В.Р. Менжинскому8. На юге России шли особенно кровопролитные бои, «вождь Красной армии тов. Троцкий» гнал войска вперед, чтобы «окончательно раздавить гнездо южной контрреволюции», а его родственники сколачивали капиталы на военных поставках частям ВСЮР9.
Интересны материалы, полученные от «красных перелетов»
(термин обязан своим происхождением случаям, когда офицер-летчик Добровольческой армии перелетал на аэроплане в расположение красных) и перебежчиков. Среди них – доклад поручика Зерена, представителя группы офицеров-моряков, обдумывающих переход на сторону Советской власти, которому он дал название «Обзор взаимоотношений Антанты с антибольшевистскими образованиями за период существования последних»10. Здесь же отчет офицера Кривуленко, поделившегося информацией об организации контрразведки Врангеля, состоянии частей его армии и тыла11.
Представляют интерес и материалы, отражающие оборону Крыма белыми осенью 1920 г. и последующую эвакуацию Русской армии Врангеля в Турцию. Документы позволяют проследить связанные с этим события с двух сторон: с одной стороны, по материалам ВЧК и Разведывательного управления Полевого штаба РККА, с другой – 2-го бюро французского Генштаба (прежде эти документы хранились в Центре хранения историко-документальных коллекций, ныне входящем в состав РГВА). Те и другие пристально следили, каждый в своих интересах и целях, за развитием ситуации на полуострове и за эвакуацией Крыма, ими были тщательно подсчитаны все отплывшие из крымских портов корабли, а также численность взошедших на их борт военнослужащих и гражданских беженцев.
Всем желающим уехать за границу не удалось, к тому же часть военных отказалась уходить на чужбину. Очень много раненых осталось в госпиталях, которые эвакуировать не удалось, определенное количество гражданских лиц все еще испытывало иллюзии насчет милосердия со стороны победителей-большевиков.
Однако последующие события расставили все точки над i.
В соответствии с телеграммой председателя Реввоенсовета Республик Троцкого № 1012 от 22 ноября 1920 г.12, практически все «бывшие» были сначала зарегистрированы, а вслед за этим подвергнуты беспощадной ликвидации. Несколько позднее нам удалось обнаружить несколько томов анкет бывших белых солдат и офицеров, подвергшихся фильтрации в освобожденном красными Крыму, с одинаковой резолюцией в правом верхнем углу листа «РАЗСТРЕЛЯТЬ» и подписями членов «Особой тройки» (И.М. Данишевский, Н.И. Добродицкий, П. Зотов).
Сколько таких «троек» существовало на полуострове в эти годы, какое количество «врагов трудового народа» им удалось «перевоспитать», так и осталось неизвестным. Понятно только одно: ни малый возраст, ни принадлежность к бедняцкому сословью, ни насильственная мобилизация, никакие другие смягчающие обстоятельства при вынесении приговора значения не имели. Эти документы, впервые введенные в научный оборот, были использованы при создании документального телесериала «Русские без России» (2003 г.).
Следующий комплекс опубликованных в «Русской военной эмиграции» документов, на котором стоит остановиться особо, относит- 156
ся к 1921–1925 гг., когда начался стихийный процесс репатриации13. По различным причинам на родину из различных стран Европы начали возвращаться солдаты бывших белых армий. Обычно они прибывали на кораблях, в отдельных случаях – по суше.
Вокруг этого возвращения еще с начала 1920-х гг. было множество слухов, домыслов, гипотез. Белоэмигрантская пресса многократно сообщала о массовых расстрелах всех вернувшихся на родину, однако это было далеко не так. Для установления судеб реэмигрантов нами были дополнительно изучены материалы по данной теме, отложившиеся в архиве МИД России, во многих региональных архивах и музеях.
Выводы, к которым мы пришли, оказались неожиданными: абсолютное большинство прибывших военнослужащих после проведения тщательной проверки отправлялось на жительство в отдаленные местности. А с выявленными в ходе фильтрации людьми, вернувшимися на родину с враждебными намерениями, поступали в соответствии с практикой, выработанной в конце 1920 г. в Крыму. Не исключено, что с течением времени истина и в этом вопросе будет восстановлена полностью.
Не вызывает сомнений факт, что именно реэмигранты в первую очередь становились участниками многочисленных политических процессов с конца 1920-х гг. К таким процесса можно отнести и сфальсифицированное дело «Казачьего центра»14, во главе которого будто бы стоял известный на Дону социал-демократ, бывший председатель Войскового круга Всевеликого войска Донского П.М. Агеев. Он, как и его «подельники», разочаровавшись в Белом деле, возвратился в СССР в середине 1920-х гг. в надежде на полное прощение и спокойную жизнь на родине. Для самого Агеева возвращение в СССР закончилось тем, что 26 сентября 1930 г. он покончил с собой в тюремной камере.
* * *
Подводя итог, еще раз отметим: из 10-ти томов «Русской военной эмиграции» восемь относятся к европейской части Русского зарубежья, а ее азиатской части будут посвящены два тома. На сегодняшний день полностью завершены тома по 9-й включительно. Хронологически они охватывают период с 1920 по 1948 гг. Над последним томом работа все еще продолжается.
В ходе осуществления этого уникального научно-издательского проекта опубликованы тысячи новых, прежде совершенно секретных документов, полученных из архивов отечественных спецслужб. Важнейшим итогом осуществления проекта стало как повышение внимания исследователей к проблематике Русского зарубежья, так и широкое использование введенных в научный оборот документов и материалов в публикуемых работах: на сегодняшний день трудно найти исследования об эмиграции, в которых не было бы ссылок на документы, включенные в опубликованные тома «Русской военной эмиграции».
С другой стороны, что не менее важно, эти документы и материалы стали широко использовать создатели художественных и документальных фильмов, а также радиопередач. Скажем, в 1998–1999 гг. цикл таких передач прошел на радиостанции «Голос России».
Как никакое другое издание, «Русская военная эмиграция» приблизила нас к правде о трагедии изгнания, ставшей частью общенациональной трагедии Второй русской смуты. Совершенно прав был наш предшественник – выдающийся военный историк Русского зарубежья генерал Н.Н. Головин: «Истина может быть установлена только на основании документов»15.
Список литературы «Русская военная эмиграция 1920-х - 1940-х годов»: из истории научно-издательского проекта
- Карпенко С.В. Судьба «Записок» генерала Врангеля//Новый Журнал (Нью-Йорк). 1997. № 207. С. 213-232.
- Дробязко С.И., Ершов В.Ф., Карпенко С.В. Офицеры и командующие//Русские без Отечества: Очерки антибольшевистской эмиграции 20-40-х годов. М., 2000. С. 72-171.
- Дробязко С.И., Карпенко С.В. Казаки и атаманы//Русские без Отечества: Очерки антибольшевистской эмиграции 20-40-х годов. М., 2000. С. 172-261.
- Ипполитов С.С., Карпенко С.В., Пивовар Е.И. Российская эмиграция в Константинополе в начале 1920-х годов (численность, материальное положение, репатриация)//Отечественная история. 1993. № 5. С. 75-85.
- Пивовар Е.И., Герасимова Н.П., Голотик С.И., Евсеева Е.Н., Ершов В.Ф., Ипполитов С.С., Карпенко С.В. Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия, учебные заведения). М.; Геттинген, 1994. С. 53-77.
- Ипполитов С.С., Недбаевский В.М., Руденцова Ю.И. Три столицы изгнания: Константинополь. Берлин. Париж: Центры зарубежной России 1920-х -1930-х гг. М., 1999.
- Ершов В.Ф. Российское военно-политическое зарубежье в 1918-1945 гг. М., 2000.
- Шинкарук И.С., Ершов В.Ф. Российская военная эмиграция и ее печать: 1920-1939 гг. М., 2000.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 90-98.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 55-57, 83-85.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 58-68.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 76-77.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 78-79.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 86-90.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 81, 145-158.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 115-126.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 217, 405-408.
- Русская военная эмиграция 20-х -40-х годов: Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1. М., 1998. С. 317-385.
- Марковчин В.В. «Бывшие люди». Курск, 2013.
- Карпенко С.В. "Истина может быть установлена только на основании документов": Архив генерала П.Н. Врангеля и изучение истории Белого движения на юге России // Вестник архивиста. 2013. № 2. С. 280.