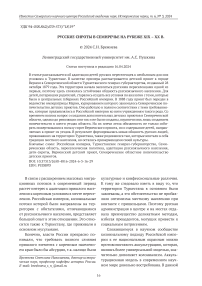Русские сироты в Семиречье на рубеже XIX — XX вв.
Бесплатный доступ
В статье рассказывается об адаптации детей русских переселенцев к необычным для них условиям в Туркестане. В качестве примера рассматривается детский приют в городе Верном в Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства, созданный 28 октября 1879 года. Эта территория начала заселяться русскими переселенцами одной из первых, поэтому здесь сложилась устойчивая общность русскоязычного населения. Для детей, потерявших родителей, старались создать все условия по аналогии с теми, которые были в центральных губерниях Российской империи. В 1888 году приют был передан в ведомство императрицы Марии, курированием которого занималось Семиреченское попечительство детских приютов. Оно работало в полном соответствии с теми требованиями, которые предъявлялись в Российской империи ко всем учреждениям такого рода. Со временем возник вопрос о создании дополнительных детских приютов в Семиреченской области, однако до революции они так и не были созданы, ограничились лишь созданием попечительств в шести уездах области. На их плечи легла обязанность не только собирать пожертвования в пользу сирот Верненского приюта, но и содержание детей, направляемых в приют из уездов. В результате формировалась новая общность русских людей, проживавших на территории Туркестана, также родившихся там, которые впитали в себя традиции местного населения, но остались приверженцами своей культуры.
Российская империя, туркестанское генерал-губернаторство, семиреченская область, переселенческая политика, адаптация русскоязычного населения, дети-сироты, верненский детский приют, семиреченское областное попечительство детских приютов
Короткий адрес: https://sciup.org/148330830
IDR: 148330830 | УДК: 94-058.862(470+575)”18,19” | DOI: 10.37313/2658-4816-2024-6-3-16-29
Текст научной статьи Русские сироты в Семиречье на рубеже XIX — XX вв.
EDN: PUDBPD
В связи с расширением массовых миграционных потоков в современный период растет интерес к адаптации пришлого населения к коренным условиям в месте переселения. Российская империя, колониальные потоки которой были направлены на территории с обитателями, отличающимися от русскоязычного населения, представляет большой опыт в этом отношении. Это относится также к Туркестану, где проживали в основном мусульмане.
Конечно, власти России прекрасно понимали, что требовать полного слияния пришлого элемента с коренным населением края было бы абсурдно, т.к. налицо были
культурные и конфессиональные различия. К тому же следовало иметь в виду то, что территории Туркестана в основном были завоеваны, а это обстоятельство не прибавляло оптимизма местному населению при контакте с пришельцами. Поэтому русская администрация в центре и на местах отдавала преимущество деликатным методам, избегая прецедентов, могущих привести к социальным потрясениям.
Сложившемуся в научном сообществе колониальному подходу Российской империи к ее национальным окраинам можно противопоставить аккультурацию, которая, являясь более универсальной моделью, значительно дополняет колониализм. Аккуль-турационная модель в современном научном мире довольно востребована. В данной области успешно идет работа российских историков под руководством профессора С.В. Любичанковского1.
Политический курс Российской империи в Туркестане вполне может быть охарактеризован как фронтирная модернизация, что объясняется не столько «фронтирным» положением среднеазиатских территорий, сколько их особым правовым статусом по отношению к России. Впервые данная концепция применительно к истории России была предложена доктором исторических наук И.В. Побережниковым2. В настоящее время теория фронтирной модернизации признается довольно продуктивной именно в исследованиях центральноазиатских владений Российской империи и успешно используется применительно к Русскому Туркестану3.
Политика Российской империи в свете фронтирной модернизации предусматривала распространение русского влияния на присоединенные территории с целью поднять уровень жизни региона до уровня метрополии. На это была направлена переселенческая политика России в далекий Туркестанский край, присоединенный к империи в 1860-х годах.
Тема переселенческой политики Российской империи и адаптации русских переселенцев на территории Туркестанского края на протяжении ряда лет вызывает неослабевающий интерес исследователей. Свидетельством ее актуальности в настоящее время является появление работ, касающихся проблем взаимоотношений пришлого русского элемента с коренным населением региона4.
Целью настоящей статьи является попытка продемонстрировать степень адаптации русского населения в Туркестане на примере детей, оставшихся без попечения родителей. Данная проблема является новой для научного осмысления и призвана заполнить образовавшуюся в современной отечественной историографии лакуну. В настоящее время имеется довольно большое количество исследований, посвященных региональному аспекту работы попечи-тельств детских приютов5. Однако история становления и развития детских приютов Туркестанского генерал-губернаторства остается неразработанной.
В качестве иллюстрации рассматривается деятельность Семиреченского попечительства детских приютов. Исследование базируется на материале, извлеченном из Российского государственного исторического архива, впервые вводимом в научный оборот.
Поскольку определенного плана заселения включенных в состав империи земель не было, российская администрация действовала, можно сказать, рефлекторно. Однако процесс заселения новых областей начался с образованием Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 году. Поскольку присоединенная территория находилась в подчинении военного ведомства, именно оно и занималось переселенческими вопросами. Безусловно, российская администрация предполагала, что между пришлыми русскими переселенцами и коренными народами могут сложиться добрососедские отношения, так необходимые русским для овладения условиями хозяйствования в непривычном жарком климате. Несомненно, прибывавшему в Туркестан русскоязычному населению было чему поучиться у местных жителей.
В составе Туркестанского генерал-губернаторства изначально находились две области - Семиреченская и Сырдарьинская. Сразу после его создания был введен в действие проект «Временного положения об управлении Семиреченской и Сырдарьин-ской областями», курируемый лично государем Александром II.
Особенно активно стала заселяться русскими крестьянами-колонистами Семи-реченская область, образованная в 1867 г. из Сергиопольского, Копальского и Ала-тавского округов Семипалатинской области и части левого фланга Туркестанской области. В ее состав входили шесть крупных уездов: Джаркентский, Верненский,
Пржевальский, Пишпекский, Лепсинский и Копальский.
Военным губернатором с 1867 г. по 1882 г. здесь был генерал-майор Г.А. Колпаков-ский, в подчинении которого находилось и Семиреченское казачье войско. Поначалу казачья колонизация им была поддержана из соображений присутствия на восточных границах населения, хорошо обученного военному делу. Однако со временем Г. А. Колпаковский убедился в том, что казаки малопригодны к земледелию по причине занятости их на службе по охране государственной границы, и сделал ставку на русских крестьян–переселенцев из центральных областей Российской империи. В 1868 году им были разработаны «Временные правила о крестьянских переселениях в Семиречье», создававшие выгодное положение для притока русских поселенцев. В «Правилах» оговаривалось предоставление участка земли (до 30 десятин на каждую мужскую душу), избавление от налогов и повинностей на срок до 15 лет и предоставление денежных беспроцентных ссуд. «Правила» действовали в течение 15 лет: с 1868-го по 1883 год. В 1869 г. они получили утверждение со стороны Туркестанского генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана и стали руководством для образования переселенческих поселков.
Поскольку в Семиречье было сосредоточено в основном кочевое население, то здесь было достаточно много плодородных земель, в отличие от других областей Туркестана, где проживали мусульмане-земледельцы. Поэтому русская администрация стремилась заселять переселенцами именно Семиреченскую область.
Первыми в Семиречье приехали переселенцы из Воронежской губернии в 1868 году. За ними двинулись земледельцы из Харьковской, Полтавской, Киевской, Тульской, Курской, Екатеринославской и Ставропольской губерний, Области Войска Донского и других регионов6. Прибывшие поселяне часто обращались к казакам, живущим вокруг укрепления Верное, с просьбами об аренде земли. Как правило, последние им не отказывали. Переселенцы в основном относились к группе крестьян-середняков, и поскольку по имущественному положению они отличались от семиреченских казаков, то сближения между этими двумя категориями не происходило.
В период с 1868 г. по 1882 г. в Семиречен-ской области было образовано 29 селений преимущественно в Пишпекском, Лепсин-ском, Пржевальском и Верненском уездах с населением в 25 тыс. человек7. Национальный состав прибывающего населения был довольно многообразен. Здесь были малороссы, русские крестьяне и немцы-колонисты из Саратовской и Самарской губерний, мордва из Тамбовской губернии, выходцы из разных губерний Закавказья (сектанты), татары и др. Однако число русского земледельческого населения преобладало, составляя 248500 человек обоего пола8.
В 1883 году в Семиречье были разработаны правила о поземельном устройстве оседлого населения, в соответствии с которыми переселенцы получали землю, а горожане причислялись к мещанским обществам, приобретая участки для усадеб, предоставляемые им городскими земскими управами. В том же году область была передана в состав Степного генерал-губернаторства.
Согласно архивным источникам русские переселенцы быстро приспосабливались к здешней культуре и методам ведения полевого хозяйства9. Неоценимую помощь в этом им оказывало коренное население. Переселенцам помимо приспособления к непривычному жаркому климату необходимо было научиться новым для них методам ведения сельского хозяйства. Особую трудность представляло для русских незнакомое для них поливное земледелие, т.к. они имели весьма слабое представление о местных ирригационных сооружениях. Однако с помощью местного населения они быстро освоились и уже сами строили такие сооружения. Согласно Верноподданнейшему отчету туркестанского генерал-губернатора А.Б. Вревского за 1889-1895 гг.: «…в таком но- вом, для русских крестьян деле, как орошение и правильное распределение воды, они опередили своих учителей настолько, что в некоторых селениях, пользующихся водой совместно с туземцами “мирабами”, т.е. развозчиками воды, по общему согласию участников в пользовании последними, избраны и поставлены русские новоселы»10.
В начале ХХ в. в связи с экономическим кризисом поток переселенцев в Туркестан усилился. В Семиреченскую область в 1902 г. прибыло 2228 семей, или 11687 человек11. Один за другим в 1903 г., а затем в 1904 г. принимаются законы о добровольном переселении русских крестьян12, разрешавшие свободное перемещение сельских обывателей в азиатскую Россию. Резолюция Николая II на отчете военного губернатора Се-миреченской области М. Е. Ионова: «надо настойчиво двигать колонизацию этого края»13 по сути дела дала новый импульс переселенческой политике.
Поскольку адаптация русского населения к непривычным условиям существования, заключающимся в необычном жарком климате и в тяжелых условиях земледелия проходила достаточно длительно и болезненно, то сопутствующими факторами являлись болезни, в том числе и специфическая малярия, приводившая к смерти людей. Кроме того, обещанное правительством освобождение от воинской повинности для переселяющихся в Туркестан привлекало сюда маргинальные бродяжнические элементы, которые не слишком заботились о своих отпрысках. Таким образом, дети, становившиеся сиротами, оказывались брошенными на произвол судьбы.
Это напрямую касалось и Семиречен-ской области. Для того чтобы исключить бродяжничество и беспризорность среди детей, местная администрация принимала меры к созданию детских домов и приютов.
В феврале 1879 года Туркестанским генерал-губернатором К.П. фон Кауфманом было утверждено особое «Положение о туркестанских детских приютах с учреждением Туркестанского попечительского Сове- та». Передавая его Военному губернатору Семиреченской области Г.А. Колпаковскому К.П. фон Кауфман просил его поддержать начинание14. В г. Верном был создан Комитет общественных детских приютов, на заседаниях которого решались все вопросы, касающиеся их обустройства. В 1888 г. Вер-ненский комитет общественных детских приютов был преобразован в Семиречен-ское областное попечительство. В 1899 году Семиреченская область перешла обратно в Туркестанское генерал-губернаторство. Такой переход никак не повлиял на работу Се-миреченского попечительства.
Детский приют в городе Верном был создан 28 октября 1879 года. Он располагался в здании Киргизского общественного дома. В помещении находились два отдельных крыла для девочек и мальчиков, рассчитанных на 20 человек. Кроме того, в здании имелись столовая, спальня, классы для занятий, кухня, умывальная, приемная, квартира для начальницы. Попечителем Верненского приюта был назначен генерал-лейтенант Г.А. Колпаковский, соответственно, его жена Мелания Фоминишна стала первой попечительницей. Назначение помощницы попечительницы было прерогативой попечительницы – ею стала супруга генерал-майора Л.А. Эйлер, которая возглавила приют после перевода Колпаковских в г. Омск в 1882 г.
После открытия в приют были приняты первые воспитанники. Социальный состав первых десяти детей был следующим: здесь находились дети нижних воинских чинов, крестьян и казаков. Возраст составлял от 3 до 16 лет. Численность призреваемых детей быстро увеличивалась. Если в 1884 году в приюте был 31 воспитанник, в 1887 году - 35, в 1890 году - 37, а на 1 января 1896 года - уже 54 человека (18 мальчиков и 36 девочек)15. Труд работников приюта оплачивался за счет добровольных пожертвований горожан и сельских жителей Верненского уезда.
В 1883 году решено было строить новое здание, т.к. прежнее уже не вмещало количество принятых сирот. Однако из-за финансовых трудностей немедленно приступить к строительству не представлялось возможным. Сбор пожертвований, растянувшийся на 9 лет, в конечном итоге дал возможность приступить к постройке. Она была завершена 27 августа 1892 года. Новый дом обладал более просторными комнатами для занятий, отдельными спальнями и кабинетами для администрации.
В 1886 году было получено согласие императрицы Марии Федоровны на принятие приюта в ее ведомство. Однако реально это произошло в июле 1888 года. Верненский детский приют так и остался единственным в Семиречье. Как неоднократно отмечалось в отчетах попечительства, «увеличение числа приютов и открытие других благотворительных заведений для детей является задачей довольно далекого будущего, т.к. даже действующий приют не обеспечен материальными средствами и является вполне справедливым опасение за его существование в настоящем виде при сравнительно скромных размерах его деятельности»16. В начале февраля 1899 г. по личному представлению министра внутренних дел И.Л. Горемыкина Государственным советом было принято решение выделить Вернен-скому детскому приюту ежегодное пособие в размере 1000 руб. из земских сборов Се-миреченской области.
Помимо круглых сирот в приюте содержались «полусироты», т.е. дети, имевшие одного родителя. Как правило, их было больше в количественном отношении. Это объясняется тем, что рабочий, лишившийся жены, находясь вдали от родственников, не имел возможности сам смотреть за своим ребенком. Большинство таких детей было крестьянского происхождения.
В ежегодных отчетах Семиреченского попечительства детских приютов отмечается увеличение детей, поступающих в приют. К 1 января 1898 г. число воспитанников превысило норму в 60 человек, способных расположиться в здании приюта. Он оказался переполненным. Данное обстоятельство объяснялось обращением нескольких чело- век в конце предыдущего года, положение которых было безвыходным. В связи с этим руководство приюта сочло своим долгом прийти на помощь этим людям и принять их детей в приют. Подобные обращения не были редкими. В дальнейшем количество воспитанников приюта стабильно увеличивалось и к 1908 году достигло 99 человек17.
Когда дети в приюте достигали семилетнего возраста, они начинали обучение. В штат преподавателей входили законоучитель и учитель общеобразовательных пред-метов18. Законоучитель Александр Филимонович Скальский (отец Климент) состоял на службе в Верненском приюте до самого конца его существования в 1917 году, за исключением 1896-1900 гг., когда его переводили в Омскую епархию. Учителя общеобразовательных предметов менялись.
Классы делились по трем отделениям. По окончании обучения дети сдавали экзамен, а затем продолжали обучение в городских училищах. За качеством обучения наблюдали представители отдела просвещения в г. Верном. Так, в отчете Семиреченского попечительства содержится описание испытания, проведенного 19 апреля 1905 года на старшем отделении приютской школы в присутствии Инспектора народных училищ Семиреченской области, директора приюта и учительского персонала приютской школы. При этом было обращено внимание на усиление занятий по арифметике «ввиду обнаруженных неудовлетворительных зна-ний»19. Из числа детей, окончивших курс в приютской школе в указанном году, два мальчика продолжили обучение в трехклассном городском училище, один мальчик – в Троицкой двухклассной школе и пять девочек - в Больше-Алматинской двухклассной церковно-приходской школе20.
Воспитанники приюта были в основном православного вероисповедания, поэтому изучение Закона Божьего было обязательным. В приютской домовой церкви еженедельно по четвергам служился молебен, производилось общепонятное собеседование, на котором прислуживали дети из приюта21. При церкви находилась приходская библиотека. Существование церкви при приюте приносило ему дополнительный доход в виде пожертвований прихожан в пользу сирот.
Кроме обучения в приюте дети должны были приобщаться к ведению домашнего хозяйства. Девочек обучали шитью и вязанию, мальчиков – сапожному делу. В ежегодных отчетах Семиреченского попечительства говорится о количестве сшитых мальчиками приюта пар сапог, ботинок и починке обуви. Кроме того, мальчиков обучали переплетному делу, для чего в приют приглашали специалистов.
В 1897 году заведующая Верненским казенным садом В.П. Самарина предложила устроить на незанятой земле сад и огород для воспитанников приюта. Руководство приюта с удовольствием откликнулось на это предложение, так как считало, что земледельческие работы будут содействовать физическому развитию мальчиков, приучать их к физическому труду и тем самым отвлекать от шалостей. С 1900 года мальчикам была предоставлена возможность поступления в училище садоводства22.
В отчетах указывается, что вышивки по полотну, изготовленные девочками приюта, даже отправляли на Нижегородскую выставку, а в 1896 году работы воспитанниц были удостоены Диплома IV степени23. Уроки рукоделия долгое время преподавала супруга канцелярского служителя Ольга Осиповна Ядрович. В качестве поощрения девочкам и преподавательнице выдавалась заработная плата. С 1898 года воспитанницы принимали заказы на пошив белья и дамских нарядов. Кроме того, девочками из приюта безвозмездно было сшито много белья для Красного Креста , за что приют удостоился благодарности и благословения председателя местного отделения Красного Креста Преосвященного Аркадия, епископа Туркестанского и Ташкентского24. Во время русско-японской войны воспитанницы приюта изготавливали вещи для лотереи на нужды больных и раненых воинов, а также сшили для них 200 штук белья и фуфаек25.
За здоровьем детей приюта безвозмездно следили городские врачи. Например, почетный доктор медицины Лев Николаевич Фидлер на протяжении многих лет с 1889 г. осуществлял медицинский осмотр воспитанников приюта26. Правда, из-за контактов детей приюта с местным населением, особенно во время церковной службы, воспитанники были подвержены многообразным эпидемиям (рожа, дифтерит, корь, брюшной тиф и т.п.). Отчеты попечительства бесстрастно фиксируют смерть детей от различных заболеваний, хотя были они достаточно редкими.
Помимо врачебного надзора дети находились под неусыпным вниманием смотрительниц. Например, в отчете за 1899 год описывается случай, когда 13 детей, заболевших корью, были помещены в комнату смотрительницы Елизаветы Андреевны Ядрович, где находились до полного выздо-ровления27.
Содержание каждого ребенка в приюте обходилось в 88 рублей28. С 1901 года расходы на содержание одного воспитанника увеличились до 89 рублей 10 копеек29. А с 1904 года расходы сократились до 68 рублей30, что можно объяснить созданием уездных попечительств, которые должны были содержать детей, направляемых в приют из их уезда.
Когда воспитанники достигали 17-летнего возраста, их определяли на рабочие места либо передавали родителям или родственникам. Мальчики обычно поступали учениками в Верненскую почто-телеграфную контору или определялись в Омскую центральную фельдшерскую школу. Также они пополняли ряды учеников в Верненском училище садоводов, шли в лесную школу, чайный магазин и в оружейную мастерскую Семиреченского казачьего войска31.
Что же касается девочек, то по достижении совершеннолетия по выходе из приюта они могли выйти замуж, при этом получив приданое из средств Попечительства на сумму 50 рублей32. С начала ХХ века семи-реченские воспитанницы определялись се- страми милосердия в Ташкентскую общи-ну33. В 1908 году пять девочек, окончивших курс в Больше-Алматинской двухклассной школе и Пушкинском училище, проходили практику в городской больнице, где врач С.Э. Волькенштейн читал им лекции об оспопрививании и по медицине вообще34.
Социальный состав детей в приюте варьировался. Так, в 1897 году в приюте большинство было детей казаков – 17 человек, меньшинство – детей чиновников (7 человек). В 1900 году число крестьянских детей превалировало (20) и было больше детей казаков (13), что доказывает увеличение числа переселенцев в Семиречье. Среди воспитанников были дети мещан (10), нижних чинов (9), сельских учителей (5) и канцелярских служащих (5). Меньше всего было детей чиновников (4 чел.). В 1901 г. дети крестьян также составляли большин-ство35. В 1904 г. количество детей казаков значительно сократилось, но возросло количество детей, происходивших из мещан и представителей нижних чинов36. В 1906 г. детей крестьян и представителей нижних чинов было большинство, двое были детьми сельских учителей37. 6 человек (5 девочек и 1 мальчик)38 были круглыми сиротами. Как видно, их было немного, что может служить косвенным подтверждением того, что в приют чаще сдавали детей родители, находясь в трудной жизненной ситуации.
К началу ХХ в. встал вопрос о создании попечительств в уездах Семиреченской области. 4 октября 1900 года вышел соответствующий указ императора Николая II39. Выполняя его, было создано Копальское уездное попечительство (22 декабря 1901 г.), через год, 14 декабря 1902 года, появились Верненское, Джаркентское, Лепсинское и Пишпекское уездные попечительства, и 13 января 1908 года было создано последнее - Пржевальское уездное попечительство. Теперь они действовали самостоятельно. Обязанности попечительств заключались в сборе добровольных пожертвований, в оказании помощи наиболее нуждающимся сиротам на местах их проживания и при- зрении этих сирот в Верненском детском приюте. Предлагалось «установить прием в Верненский приют воспитанников из других уездов за плату по 50 руб. в год»40.
В 1904 году на средства Копальского попечительства содержался в Верненском приюте 1 ребенок, на средства Верненско-го уездного попечительства – трое детей, и на средства Джаркентского попечительства – один человек41. В 1907 г. на средства Вер-ненского уездного попечительства содержалось три ребенка, трое – на средства Ко-пальского уездного попечительства, семеро – на средства Джаркентского попечитель-ства42 (в 1909 году их было уже 943). Кроме того, попечительство продолжало накопление средств на открытие детского приюта в Джаркенте.
Кроме того, практиковались стипендии, предоставляемые на благотворительные цели со стороны власти и лиц, желающих оказать посильную помощь призреваемым в Верненском приюте детям. Так, 5 января 1907 г. было получено распоряжение Николая II на введение стипендии императрицы Марии Федоровны в размере 1000 рублей для отчисления в специальный неприкосновенный капитал Семиреченского попечительства. На проценты с этого капитала воспитывалась дочь умершего на службе надворного советника Вера Кошкарова, обучающаяся во 2 классе Верненской женской гимназии. Помимо этого, с капитала стипендии, учрежденной военным губернатором Семиреченской области Г.И. Ивановым, содержался один воспитанник, и на личные средства Преосвящен-ника Димитрия, епископа Туркестанского и Ташкентского, - 1 человек44.
В дальнейшем из-за наплыва переселенцев в 1907 году Верненский приют не мог приютить всех нуждающихся детей, и многим приходилось отказывать. Главной причиной был недостаток помещений, т.к. здание, построенное 16 лет назад, было рассчитано на 60 человек, число же обращающихся в приют было значительно больше. Начался сбор пожертвований. Под руководством почетного члена попечительства Н.Н.
Пантусова было собрано 1239 рублей 21 копейка. Однако этого не хватало, и попечительство специальным своим постановлением запросило увеличение ежегодной помощи со стороны земства области45.
Вопрос об отпуске средств на содержание приюта обсуждался на самом высоком уровне. В июне 1910 года на заседании Государственной думы, по сообщению «Русского инвалида», был заслушан вопрос об отпуске средств из земских сборов Семиреченской области на содержание детского приюта в г. Верном. В ноябре решение было принято Государственной думой и одобрено Государственным советом. В этом же году было принято и утверждено императором решение об увеличении ежегодного пособия до 2000 рублей46.
Однако количество детей, поступающих в приют, продолжало расти. Как отмечалось на заседании Семиреченского попечительства, состоявшемся 22 марта 1911 года, «приют располагает ограниченными материальными средствами», тогда как в настоящее время в приюте, рассчитанном на 60 человек, находится 114. Особенно увеличился приток детей после землетрясения 22 декабря 1910 года (мощное Кеминское землетрясение, эпицентр которого находился в 40 км от г. Верный), которое явилось причиной смерти многих родителей, оставивших детей сиротами. Расходы на содержание воспитанников превышали приход денежных средств47. Семиреченское попечительство обратилось к генерал-губернатору Туркестанского края А.В. Самсонову с просьбой передать приюту близлежащие земли для того, чтобы готовить воспитанников к сельскохозяйственным работам, т.к. большинство призреваемых в приюте детей были горожанами, и тем самым «предотвратить возвращение их в прежнее общество городского пролетариата»48. Также попечительство приняло решение об обращении к обществу и частным лицам с просьбой об увеличении степендиальной платы за одного воспитанника до 75 рублей.
Попечительница Верненского приюта супруга военного губернатора Семиречен-ской области Е.И. Фольбаум отправилась в Санкт-Петербург просить ходатайства о скорейшем разрешении этого вопроса. В написанной ею Памятной записке помимо констатации увеличения количества детей в приюте содержалось обоснование постройки дополнительного флигеля, на что необходимо 20000 рублей, тогда как приют располагает только 11 тысячами. Попечительница писала о том, что после прошедшего землетрясения надеяться на пожертвования частных лиц не приходится, и адресовала свою просьбу председателю комитета Главного попечительства детских приютов князю Д.П. Голицыну49.
В 1912 году попечительство приступило к строительству нового корпуса в Верненском приюте, с постройкой которого в будущем должно было увеличиться число воспитанников и появиться возможность иметь свое школьное помещение, т.к. существующая школа была преобразована в двухклассное производственное училище50. В конце этого года по инициативе попечительницы Верненского приюта Е.П. Фольсбаум были предприняты шаги к слиянию двух благотворительных учреждений – Верненского детского приюта и земледельческой колонии Общества попечения о нуждающихся переселенцах в Семиреченской области, на содержание которого ведомством Главного управления земледелия и землеустройства отпускались средства из сумм казны51. В 1913 году в распоряжение попечительства поступили 60000 рублей, отпущенных из казны по смете Департамента земледелия и государственных имуществ на устройство колонии для переселенческих детей на отведенном детскому приюту участке земли52.
В 1913 году попечительство ходатайствовало о присвоении Верненскому приюту имени императрицы Марии Федоровны. Вопрос был решен положительно, о чем сообщено в телеграмме Министерства императорского двора53.
Последний отчет Семиреченского попечительства за подписью Военного губерна- тора Семиреченской области генерал-лейтенанта М.А. Фольбаума был представлен в 1916 году с задержкой, вызванной болезнью и смертью секретаря И.Г. Караблинова. Воспитанников в приюте на тот момент было 161 человек, в большинстве своем состоящим из детей мещан и крестьян54. Конечно, в условиях военного времени приют испытывал материальные затруднения, которые удавалось разрешать за счет пожертвований частных лиц, пособий от земства, а также сборов от лотереи-аллегри, концертов, спектаклей и другого рода увеселительных мероприятий. В отчете отмечалось, что с наплывом в область новых людей из центральных областей Российской империи Верненскому приюту пришлось принимать сирот из вновь прибывших переселенцев55.
После Февральской революции по распоряжению Комиссаров Временного правительства от 7 марта 1917 года за № 669 Верненский детский приют был передан в ведение Министерства народного просвещения с назначением для временного управления.
Итак, в результате проводимой российскими властями переселенческой политики соотношение пришлого элемента и коренных жителей к началу ХХ в. изменилось и привело к увеличению сельского населения. Динамика роста русских прослеживается не только в сельских районах, но и в городах. Население городов выросло за счет русских мигрантов, которые здесь в основном и проживали, составляя, по некоторым данным, 43,4% всего населения56. Согласно Всеобщей переписи населения 1897 года число русскоязычного населения в Семиреченской области составляло 95465, к январю 1910 года оно увеличилось до 188016 тысяч человек. Сравнительная таблица, приведенная в статье Ю.Н. Цыряпкиной демонстрирует самое большое число русских в Семиречье по сравнению с другими областями Туркестанского генерал-губернаторства. К 1913 г. русского населения в Семиреченской области было около 350000 душ обоего пола, что составляло примерно 26% всего населения Семиречья57.
Пришлый элемент русскоязычного населения довольно быстро осваивался с необычными условиями, жарким климатом, отличающимися от традиционных российских методами ведения хозяйства. Такая адаптация приводила к созданию совершенно нового типа русского человека, освоившегося с местными традициями, принявшего их. Русские проживающие в Средней Азии восприняли культуру местного населения, в то же время передав свои культурные традиции местным жителям. То есть налицо было аккультурационное взаимодействие. Изучение этого нового типа русского населения, сложившегося в условиях Средней Азии, является предметом специального серьезного исследования.
Что же касается детей русскоязычного населения, оставшихся без попечения родителей, то они оказались еще более подвержены аккультурационному воздействию, т.к. им приходилось самостоятельно с раннего детства впитывать в себя местные особенности, при этом сохраняя, благодаря воспитателям приюта, приверженность к своей православной вере и российской культуре. Таким образом, дети русских переселенцев из различных областей Российской империи, вполне освоившись с восточным колоритом и национальными особенностями, вполне комфортно ощущали себя в необычных для России условиях, составляя костяк русскоязычных жителей Семиречья.