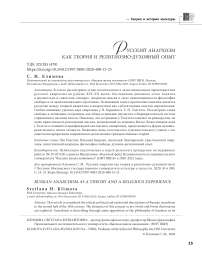Русский анархизм как теория и религиозно-духовный опыт
Автор: Климова Светлана Мушаиловна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 6 (98), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены этико-политические и экзистенциальные характеристики русского анархизма на рубеже XIX-XX веков. Исследована динамика этого понятия в досоветских и советских словарях. Анархизм описан в свете оппозиционности философии свободы и её экзистенциального прочтения. Основанием такого противопоставления является различие между теорией анархизма и анархизмом как субъективным опытом переживания. Особое внимание уделено идее анархизма у Н. Бердяева и Л. Н. Толстого. Рассмотрена этика свободы и жизненное остранение как общее основание неучастия в бюрократической системе управления и насилии власти. Показано, что остранение у Толстого означает не равнодушие, но лишь практическую реализацию миссии, возложенной на человека Богом. Божественная воля у Толстого становится модификацией кантовского императива, предстающего в форме духовно-религиозного опыта личности. Выявлена связь толстовского гуманистического учения с его опытом интерпретации американских религиозных гражданственных теорий.
Лев Толстой, Николай Бердяев, Анатолий Луначарский, христианский анархизм, политический анархизм, философия свободы, духовно-религиозный опыт
Короткий адрес: https://sciup.org/144161511
IDR: 144161511 | УДК: 329.285 (470) | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-698-15-23
Текст научной статьи Русский анархизм как теория и религиозно-духовный опыт
Анархизм – явление неоднородное; его нельзя представить через прямолинейную связь теории и практики, этимологии и её исторического контекста; греческая этимология слова (ἀν- (ἀ-) ‘без-’ + ἀρχή ‘начало, начальство’) не ведёт нас непосредственно ни к конкретным историческим примерам безначального существования мира подобного рода, ни к теориям анархизма или проявлениям анархического мировоззрения в разных областях социальной, политической или духовной жизни. Любопытна своеобразная этимологическая «эволюция» его словоупотребления в России. В словаре В. И. Даля слово «анархизм» отсутствует, но есть слово «анархия», означающее «отсутствие в государстве или общине главы, устроенного правления, силы, порядка; безвластие, безначалие, многобоярщи-на, семибоярщина. Анархический, анархичный – к анархии относящийся. Анархист м. анархистка ж. заступник, покровитель, любитель безначалия, смут, крамол» [2, с. 16]. Исходя из этого дореволюционного опре- деления, можно предположить, что слово «анархия» вовсе не имело однозначной отрицательной коннотации, ведь безначалие не выступало синонимом отрицания всякой власти. «Многобоярщина» у того же Даля расшифровывается как «поликратия»: «многовластие, многовластное правление, многобоярщина» [2, с. 16]. То есть анархия представляла собой полисный/демократи-ческий тип управления1, который был синонимом свободолюбия, выступал формой правления, противоположной традиционной монархии или авторитарному типу управления.
Таким образом, до революции 1917 года этот термин имел разнообразную семантическую коннотацию и, что особенно любопытно, обнажал связь с религиозно окрашенной моделью поведения, с мировоззренческой установкой, отражённой в денотатах – заступник, покровитель. Неявно здесь можно обнаружить связь и с народ- ническими течениями – весьма анархичными, не только по поведенческим проявлениям их идеологов, но и благодаря идеологии «заступничества», жажде личной святости и самопожертвования, о чём наиболее отчётливо было написано С. Н. Булгаковым в «Вехах».
Смешение личного и политического компонентов в разговоре о свободе привело к тому, что многие теоретики XIX–XX веков, далёкие от политики и революционной активности, но близкие к экзистенциально понимаемой философии свободы, характеризовались как анархисты и продолжают пребывать в этом качестве сегодня. Яркий пример – Н. А. Бердяев, который считал своей главной философской и жизненной темой – поиск свободы, которая для него нечто фундаментальнее и бытия, и даже Бога. Он и сам объявляет себя анархистом, отождествляя это состояние с поиском и преклонением перед абсолютной свободой. «Кто свободу любит больше насилия, любовь ставит выше власти, внутренно-организованное общество предпочитает всякому внешне-организованному государству, тот должен признать себя анархистом, хотя бы в мечте. Ведь анархизм как радикальное отрицание власти, государственного союза и насилия в нём над личностью, не есть непременно анархия и хаос» [1, с. 129].
Из этой краткой формулы вытекает вполне ясное различие между стремлением к субъективной жажде свободы и политической тягой к практическому хаосу и разрушению общественного строя. Философ разделяет здесь анархизм как философскую установку ума и анархию как революционную (политическую) поведенческую модель человека. Именно этот зазор затрудняет отождествление мыслителя с тем или иным политическим течением или идеями. Размышляя об анархизме, мы должны учитывать, что критика и самокритика как основание науки и философии, идея свободы в выборе жизненного пути могут стать основанием для политического выражения анархизма. Но возможен и обратный путь. Эволюция Бердяева в этом смысле весьма наглядна: он искал свободу сначала в политике, в своей и чужой среде, в литературе, в Боге и нашёл её в творческом акте автономно (свободно) мыслящего субъекта. Проблема заключается, однако, в том, что внутренней творческой свободы почему-то оказывается недостаточно для пребывания во внешне несвободном мире.
Отрицание анархизма в советской модели мира
Ещё задолго до революции 1917 года А. В. Луначарский пытался провести демаркацию между анархизмом, утопизмом и научным социализмом, стремясь убить сразу двух «враждебных зайцев». «Анархисты-теоретики, сохраняя все недостатки абстрактного утопического рационализма, зачастую обладают каким-то почти телячьим добродушием. Между тем довести анархическую мысль до конца, до мрачного величия, до чёрного блеска какого-то ангела суда над нынешним порядком может только изболевший человек, не головой, а всем своим кровью истекающим сердцем осудивший. Какой-нибудь вековечный безработный, потерявший детей и жену от голодного тифа; мелкий ремесленник, выкинутый на мостовую; бродяга, затравленный как волк; интеллигент, которому за кусок хлеба наплевали в самую душу, – вот кто может быть анархистом не на словах, а на деле» [4. с. 357]. Довести анархическую мысль до истины, утверждал Луначарский, может лишь организованный партией большевиков пролетариат и лишь в деятельном уничтожении причин, которые и породили его праведное насилие: «Пролетариат несёт с собою организацию всего хозяйства в совокупности. И он найдёт хозяина земли – не в отдельном человеке найдёт он его, – а в сотрудничающем человечестве. Бог станет не нужен, странен» [4. с. 358].
Луначарский не только не признал индивидуализма, подобного тому, который исповедовал Николай Бердяев. Будущий нарком просвещения до революции ищет механизм идеологического подавления «отдельных индивидуалистов», делающих ставку на собственное критическое мышление, независимо от «воли и сознания» масс. «Критическая мысль марксиста сама общественна, он её рассматривает как отражение в его голове назревших в обществе изменений; критическая мысль анархиста довлеет себе, и поэтому естественными являются те проблески мироразрушающего нигилизма …» [4, с. 356].
В советское время анархическая модель безначального управления, которую в России теоретически разрабатывал П. А. Кропоткин, в целом уже трактовалась как реакционное учение, враждебное марксизму. Его понимали как идеологию, «отрицающую всякую государственную власть (в том числе и диктатуру пролетариата), организованную борьбу рабочего класса» [6, с. 36]. В это же время получает развитие взгляд на анархизм как на нравственно порочное явление. По сути, «ярлык» анархиста обнуляет импульс движения к индивидуальной свободе. Свобода же индивида возможна только в коллективе. Тем самым пафос индивидуальной свободы теряет свой революционный смысл. Теперь он ассоциировался с волюнтаризмом, который не может способствовать справедливому устройству общества.
В «Толковом словаре русского языка», изданном в советское время (1935–1940) под редакцией Д. Н. Ушакова, слово «анархизм» присутствует, но имеет явный негативный смысл, обозначая: «мелкобуржуазное политическое течение, проповедующее анархию, враждебное марксистско-ленинскому учению о пролетарской революции и диктатуре пролетариата, как единственному пути к уничтожению классов и отмиранию государства» [7, с. 38]. В этот период понятие анархизма уже имеет более узкую семантическую коннотацию. Есть в словаре и слово «анархия», однако его значение также стало политически негативным: «анархия – 1. реакционная утопия, предполагающая возможность перехода к обществу, в котором нет государственной власти, без политической борьбы пролетариата против буржуазии, без создания пролетарской партии и без диктатуры пролетариата. 2. Отсутствие власти, безначалие, беспорядок (раз.)» [7, с. 38].
Таким образом, в анализе анархизма, в сравнении с дореволюционным его звучанием, серьёзным образом меняются смысловые значения. Речь идёт о переходе от идеи поликратии или демократического отсутствия единоначалия – «верховного главы» – к его политическим и даже этическим характеристикам как примера реакционного мышления. Анархизм, как альтернативное коммунистической теории учение, уже характеризуют прежде всего как асоциальное поведение индивида, ставящего собственное Я выше нужд общества. Анархия превращается в учение не о новой форме коллективизма, а о враждебной философии индивидуалистов, несовместимой с логикой пролетарской революции.
Анархизм как способ мысли и образ жизни людей, который исторически был связан с утопизмом и идеалом ненасильственного и справедливого общественного устройства, в советской идеологии вводится в дискурс, связывающий соответствующую модель поведения с угрозой коллективизму и социальной жизни в целом. Идеальная модель безначального управления превращается в реакционное учение, «отрицающее всякую государственную власть (в том числе и диктатуру пролетариата), организованную борьбу рабочего класса» [6, с. 36]. В итоге ярлык анархизма на долгие годы становится не только политической, но и этической оценкой определённого общественного движения и отдельной личности, перечёркивая идеи и смыслы, которыми это явление наделялось в дореволюционной философской и художественной жизни.
Лев Толстой: анархизм между теорией и опытом переживания
Глубина смыслов, которые скрывались в идее анархизма в дореволюционной России, раскрывается там, где мы разводим в этом явлении его политическую и религиозную ипостаси, рассматриваем его в том числе как особый опыт экзистенциального переживания мира. Причём зачастую анархизм политический и религиозный не только не пересекаются, но находятся в конфликте. Исторически анархизм не является однородным и чётко сформулированным течением политической мысли. При пристальном анализе анархизм в политике становится разновидностью и социализма/ коммунизма/утопизма; в жизни же он проявляется как способ экзистенциального переживания мира; в идеологии – как критика политического строя и страстный призыв к терроризму и всё очищающим рево- люциям. Особняком стоит религиозный анархизм, также имеющий свою градацию и историческую специфику.
Это затрудняет понимание общности таких его разных представителей, как Франциск Ассизский и Н. Ф. Фёдоров, П. Ж. Прудон и М. Штирнер, М. А. Бакунин или П. А. Кропоткина и т.д. Весьма парадоксальной, например, выглядит принадлежность к анархизму таких фигур, как Фёдоров и Лев Толстой.
Для Толстого здесь всё обстоит иначе. Будучи субъективистом, он знает лишь один источник возможного внешнего изменения – это внутреннее религиозное преображение человека. «Политического изменения социального строя не может быть (курсив наш. – С. К.). Изменение только одно нравственное, внутреннее человека. Но каким путём пойдёт это изменение? Никто не может знать для всех, для себя мы всё знаем. И как раз все озабочены в нашем мире этим изменением для всех, а только не для себя» [8, т. 50, с. 41–42]. Он здесь незримо следует за важнейшей Христовой заповедью о самоизменении как условии всеобщего изменения мира.
Казалось бы, такая сугубо религиозная практика ведёт к невольному субъективному (психологическому) и стоическому самоустранению от реальной практики жизни. Но всё в толстовской концепции предстаёт парадоксальным образом наоборот. Для уточнения любопытно указать на связь толстовского гуманистического учения с его опытом интерпретации амери- канских религиозных и гражданственных теорий Э. Баллу, Дж. Генри, У. Л. Гаррисона, Дж. Уитмена, Г. Д. Торо и других. Он ищет пути для мирного развития гражданского самосознания в современном мировом про- странстве жизни и культуры разных народов, опираясь в том числе на опыт американских гуманистов и пацифистов. Исторический опыт США, исследованный Толстым, и критическое его переосмысление позволяют обнаружить диверсификацию представлений о наиболее адекватном «диалоге» человека с властью, опираясь на ненасильственные средства, открытые в искусстве, публицистике и религиозных практиках жизни. Так как «царство Божие» внутри каждого из нас, для достижения искомого нет никакой необходимости становиться аскетом или уходить в пустынь. Христов путь – внутренняя метанойя – есть понимание своей задачи служения Богу и её реализация именно в мире, а не вне его пределов. Когда Торо отказывался платить налоги или когда Толстой призывал не участвовать в военных кампаниях, оба меньше всего думали о государстве. Главная идея – быть работниками Христовыми, то есть спасать свою душу. Если при этом государство окажется разрушенным – это станет лишь закономерным итогом отчуждения человека от любой системы в любые времена, а самой системы – от Божьего закона и от собственного народа, который из цели стал средством для поддержания и укрепления власти. Такой анархизм был лишь разновидностью христианского «монархизма» (выражение В. Г. Черткова) и означал потребность человека уйти от общественного жизнеустроения к божественному. (В этом пункте Толстой мыслит синхронно с В. С. Соловьёвым.)
На разных примерах Толстой иллюстри- ровал закон первичности развития разумного сознания с последующим созданием мирных форм оппозиции «бессовестности» властей и их законов. Анархичнее всего это он делал в религиозных трактатах. Убедитель- нее всего – в художественном творчестве. Наиболее страстно – в публицистике.
В статье «Неужели так надо?» Толстой приводит рассуждение «религиозного крестьянина», который вёл себя точно так же, как Торо, отказавшись платить налог, который может пойти на неблагочестивое дело. Толстой неоднократно упоминал этот так восхищавший его поступок американского гуманиста: «Мало известный американский писатель Торо … рассказывает, как он отказался заплатить американскому правительству 1 доллар подати, объясняя свой отказ тем, что не хочет своим долларом участвовать в делах правительства, разрешающего рабство негров….» [8, т. 31, с. 209]. Торо за неповиновение властям отсидел в тюрьме, русскому крестьянину пришлось распрощаться с коровой в уплату долга. Но наказание ничего не означало по сравнению с этикой разумного мирного протеста, который для России означал начало формирования чувства достоинства в человеке, весьма редкого для нашей культуры во все времена.
Баллу, Гаррисон, Торо и люди, подобные им, вовсе не анархисты в политическом смысле. У них нет цели захвата власти или смены одного строя другим. Более того, они принципиальные противники такого анархизма. В статье «К политическим деятелям» Толстой чётко оппонирует «извечному анархизму» двух борющихся сил в России: либералам и революционерам. Власть, какими бы лозунгами она ни прикрывалась, всегда вредна как для тех, кто ею владеет, так и для тех, кто жаждет ею обладать, считал Толстой. Опыт сопротивления возможен лишь как субъективная перестройка, которая начинается и заканчивается человеком «кантианского типа». Для этого человека нет утилитаристской логики самооправдания и теории меньшего зла. Вся сила такого человека в следовании долгу и нравственным принципам, которые невозможно поколебать даже угрозой смерти. Такая субъективная теория неповиновения (Civil Disobedience) – самая опасная и разрушительная для государственной системы.
Всякая другая активность разрушительна уже не для системы, а исключительно для человека и мира. Толстой это прекрасно понимал, предостерегая от любых революций. Сознательное неучастие в политике, то есть отказ от пребывания в наиболее насильственных структурах – судах, армии, полиции и т.д., и есть мирное разрушение системы. Неучастие в злодеяниях системы нужно совершать – не ради себя, не ради справедливости, а ради реализации божественной воли, которая является религиозной модификацией кантовского императива для Толстого.
Результатом такого мирного «разрушения Карфагена», независимо от намерений самого Толстого, который, как известно, не выносил политического дискурса, должно было стать рождение общественного самосознания, проявляемого в актах мирного неповиновения, саботажа, мирных забастовках и прочих способах обнаружения своей религиозной и сознательной позиции. Общественное самосознание – это одновременно и плод духовного развития личности.
Заключение
Николай Бердяев в своё время писал о том, что анархистов всех оттенков объединяет радикальное отвержение суверенности государства и в то же время признание суверенности личности, хотя и во имя разных целей. «Все анархисты, – пишет он, – ненавидят насилие и власть над личностью и все хотят организовать общественность из свободных стремлений личности, хотя бы одни, как Толстой, полагали это свободное стремление в христианской морали, другие, как М. Штирнер, – в эготизме, третьи, как Прудон, – в присущей человеку справедливости и т.д. Анархизм, как настроение (курсив наш. – С. К. ), очень могуществен и значителен, но анархизм как теория (курсив наш. – С. К. ), как философское учение, слаб и почти жалок» [1, с. 131].
Анархизм, таким образом, в своей духовной основе рождается из состояния духа и даже психологической предрасположенности к абсолютной свободе, делающей человека приверженцем анархического видения (или образа) жизни; и этот экзистенциальный «настрой на свободу» становится толчком к проявлению активной (политической, религиозной, этической) позиции сопротивления любым законам, «необходимости», фатуму, истории, Богу и даже самой жизни. Но как раз это толкает многих анархистов к политическому насилию. При этом, как замечает Толстой:
«анархисты совсем правы, только не в насилии. Удивительное затмение. Впрочем, об этом предмете мне думается, как думалось, бывало, о вопросах религии, то есть представляется необходимым и возможным решить, но решения ещё нет» [8, т. 50, с. 22]. Важнейший вывод, к которому приходит Толстой, состоит в этом рас- хождении политики и этики в вопросах, связанных с анархизмом. Это расхождение внешних законов и внутреннего чувства свободы как априорного чувства для фор- мирования личности.
Молодой С. Л. Франк в «Дневнике» 1902 года (не без влияния Толстого) точно так же указал на этическое основание политики. Он точно заметил, что людей толкает к революции ошибочная инверсия «средств» и «целей»: «… социальные и политические вопросы суть вопросы этические. Эта великая истина ныне в забвении» [9, с. 43].
Толстой и Кропоткин апеллируют к народу, их волнует «творческий дух народных масс» [3, с. 42]. Как и в других утопиях, мы здесь видим идею естественной кооперации людей на нравственной основе.
«Теория взаимопомощи даёт нам представление о природе как о мире, неразрывно связанном с социальным, тем, который мы хотим изменить; но не как о борьбе, а как об освобождении и спасении» [10, p. 270– 272]. Но в трактовке анархизма Толстой противоположен Кропоткину в силу того, что новая жизнь невозможна без особо- го духовно-религиозного опыта личности, что у Толстого сопряжено с широким прочтением категории «свободы» и образом Христа1. Именно в этом своеобразие русского христианского анархизма, к которому был близок Толстой2. «Меня причисляют к анархистам, – писал он, – но я не анархист, а христианин. Мой анархизм есть только применение христианства к отношениям людей. То же с антимилитаризмом, коммунизмом, вегетарьянством» [8, т. 55, с. 239].
Список литературы Русский анархизм как теория и религиозно-духовный опыт
- Бердяев Н. А. Анархизм // Новое религиозное сознание и общественность. Санкт-Петербург, 1907.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 томах. Москва : Русский язык, 2000. Том 1: А-З. 699 с.
- Кропоткин П. А. Анархия : сборник / составление и предисловие Р. К. Баландина. Москва : Айрис-Пресс, 2002. 576 с. (Библиотека истории и культуры).
- Луначарский А. В. О настоящих анархистах. Заметки философа // Анархизм : pro et contra : социально-политическое явление глазами его российских сторонников, критиков и отечественных учёных-исследователей : антология / Русская христианская гуманитарная академия ; [составитель П. И. Талеров]. Санкт-Петербург : Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2015.
- Рябов П. В. Философия классического анархизма (Проблема личности). Москва : Вузовская книга, 2007. 340 с.
- Словарь русского языка : в 4 томах /АН СССР, Институт русского языка ; под редакцией А. П. Евгеньевой. 2-е издание. Москва : Русский язык, 1981. Том 1. А-Й.
- Толковый словарь русского языка : в 4 томах / под редакцией Д. Н. Ушакова. Москва : ОГИЗ, 1935 — 1940. Том 1. А-КЮРИНЫ.
- Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений : в 90 томах / под общей редакцией В. Г. Черткова. Москва ; Ленинград : Художественная литература, 1928-1958. В тексте даются ссылки на том и страницу.
- Франк С. Л. Дневник / публикация Е. П. Никитиной ; подготовка текста : Ю. Н. Борисов, А. А. Гапоненков ; комментарии А. А. Гапоненкова // Франк С. Л. Саратовский текст / составители А. А. Гапоненков, Е. П. Никитина. Саратов : Изд-во Саратовского университета, 2006.
- Kinna R. (1995) Kropotkin's theory of mutual aid in historical context. International Review of Social History.