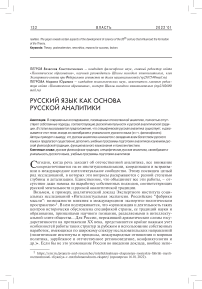Русский язык как основа русской аналитики
Автор: Петров Вячеслав Константинович, Петрова Марина Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В современных исследованиях, посвященных отечественной аналитике, полностью отсутствуют собственные подходы, соответствующие русской ментальности и русской аналитической традиции. В статье высказывается предположение, что специфическая русская аналитика существует, и доказывается этот тезис исходя из своеобразия и уникальности русского языка (в т.ч. философского). Авторы приходят к выводу, что русская аналитика начинается с овладения всем богатством русского языка и предлагают существенно дополнить учебные программы подготовки аналитиков изучением русской философской традиции, функционального языкознания и психолингвистики.
Русская философская традиция, специфическая русская аналитика, своеобразие и уникальность русского языка, учебные программы подготовки аналитиков
Короткий адрес: https://sciup.org/170191606
IDR: 170191606 | DOI: 10.31171/vlast.v30i1.8796
Текст научной статьи Русский язык как основа русской аналитики
С егодня, когда речь заходит об отечественной аналитике, все внимание сосредоточивается на ее институционализации, координации и встраивании в международное интеллектуальное сообщество. Этому посвящен целый ряд исследований, в которых эти вопросы раскрываются с разной степенью глубины и детализации. Единственное, что объединяет все эти работы, – отсутствие даже намека на выработку собственных подходов, соответствующих русской ментальности и русской аналитической традиции.
Возьмем, к примеру, аналитический доклад Экспертного института социальных исследований «Интеллектуальная экспансия. Российские “фабрики мысли”: возможности влияния в международном экспертно-политическом пространстве»1. В нем подчеркивается, что «организация и деятельность таких центров исторически обусловлена спецификой страны, ее традиций науки и образования, принципами научного познания, разделяемыми в интеллектуальной элите общества… Для России, пережившей драматические сломы государственности на протяжении XX века, представляется крайне важным учет особенностей работы таких структур за рубежом и использование собственных наработок, имеющихся по широкому спектру исследовательских направлений (политические институты и процессы, международные отношения и мировая политика, зарубежное и отечественное регионоведение, конфликтология и др.)». Если бы не это упоминание России во введении доклада, вообще непо- нятно было бы, о какой стране идет речь, а под «собственными наработками» авторы доклада, судя по всему, понимают некие новации в технологическом процессе и процедурах анализа.
То же самое можно сказать и о работах Ю.В. Курносова, одного из основателей Русской аналитической школы [Курносов 2012]. Они не дают ответ на вопрос, существует ли на самом деле «русская аналитика», и если да, то в чем ее сущность?
Абсолютно не раскрыта эта тема и в Концепции русской аналитической школы [Курносов 2013: 219-223], которая, по логике вещей, должна была стать основополагающим доктринальным документом данного проекта.
Словосочетание «русская аналитика» в документе встречается только один раз, и то – в заголовке. В Концепции школа предстает как еще один масштабный бизнес-проект, претендующий в абсолюте на роль очередной госмоно-полии или, по крайней мере, на появление на рынке консалтинговых услуг мегасубъекта, который окончательно вытеснит существующие ныне малочисленные группы аналитиков, может быть, к слову, вполне эффективно действующие.
Ознакомление с Концепцией наталкивает на вопрос: что русского в этой аналитической школе? Чем русская аналитика отличается, например, от англосаксонской? Ни слова не сказано о национально-цивилизационных особенностях аналитики (институциональных и содержательных). Может быть, это прозвучит резко, но складывается впечатление, что у основателей данного проекта вся «русскость» вылилась в гигантоманию и этатизм, в стремление как можно теснее «прижаться к государству».
И все же, существует ли «русская аналитика»? Многочисленные дискуссии авторов с философами, политологами, политическими аналитиками выявили две противоположные точки зрения. Одни считают, что раз современная аналитика пришла к нам с Запада, то никакой русской школы аналитики не существует, а если и есть, то она носит имитационный характер. Другие утверждают, что специфическая русская аналитика существует, ссылаясь на богатейшую русскую философскую научную и культурную традиции. Так кто же из них прав?
Казалось бы, как аналитика может быть русской, английской, французской и т.д.? Ведь по определению аналитика – это исследование какой-либо проблемы методами рационального мышления, а мышление, в свою очередь, опирается на законы логики, которые носят общечеловеческий характер и у всех людей одинаковы (иначе бы люди не понимали друг друга).
Но, с другой стороны, в философии ХХ в. не раз высказывалась мысль, что существует не один, а несколько разных типов мышления. Укажем, к примеру, на идею К. Леви-Стросса о неевропейском, «первобытном» мышлении, основанном на бриколаже1 [Леви-Стросс 1994]. В различных странах имеются свои школы науки и образования, исследовательские аналитические традиции. О. Шпенглер считал, что даже математика и физика у разных цивилизаций отличаются. По сути, такого же мнения придерживался российский философ, культуролог и литературовед доктор филологических наук Г.Д. Гачев с его идеей национальных космо-психо-логосов [Гачев 2007]. Сродни этой идее теория культурно-исторических типов Н.А. Данилевского [Данилевский 1991], работы создателей «русской метафизики» Г.П. Щедровицкого, М.К. Мамардашвили,
М.В. Раца, О.С. Анисимова, специалистов по субъектно-ориентированному подходу В.Е. Лепского и цивилизационной психологии А.И. Юрьева, Н.М. Ракитянского [Ракитянский 2020], а также Л.С. Выгодского, изучавшего взаимоотношения мышления и речи, культурологические исследования Д.С. Лихачева, В.Н. Топорова, В.В. Иванова, С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича и др.
Но даже если предположить, что мышление у всех одинаково, языки, посредством которых люди выражают мысли как результат мыслительной деятельности, разные. К тому же одна и та же мысль на разных языках обнаруживает разные аспекты. В полной мере это относится и к русскому языку с его эмоциональностью и интонационным богатством, что предопределяет такую отличительную особенность русской аналитики, как человекоразмерность. Для русского аналитика важно не только рациональное объяснение, но и реализация нравственных идеалов (добра, справедливости). По мнению Г.Д. Гачева, это и составляет основу русского национального Логоса. Ученый отмечает, что мы ежедневно задаемся вопросами: « Что? Почему? Зачем? Как? Кто?» , но у разных народов в силу разной ментальности ответы на них будут различаться, порой существенно. Если у греков они объединены в один «Ti to on?» – «Что есть?» , то у немцев в центре внимания стоит вопрос « Warum ?» – « Почему ?»), их интерес направлен к происхождению, к причинам вещей, обращен в глубины прошлого. «Warum? » – это «Was um?» – «Что вокруг?» . При этом Мир предполагается состоящим из двух частей: «Я» и «не-Я» (философия Фихте)1.
У французов этот вопрос имеет вид «Pour–quoi?» – « Для чего? Зачем?» . Здесь уже важнее цель нежели причины, а сущность всего полагается лежащей в будущем. Как отмечают эксперты, отсюда возникли теории прогресса (Руссо, Кондорсе), эволюции (Ламарк, Бергсон, Тейяр де Шарден), социальные утопии (Сен-Симон, Фурье, Конт).
У поляков вопрос «Почему?» в смысле «Для чего?» , что роднит их с французами. Отсюда и взаимное притяжение между Польшей и Францией в политике и культуре и отталкивание от Германии.
Для целей нашего исследования представляет интерес семантическая классификация языков, предложенная выдающимся швейцарским лингвистом Ш. Балли [Балли 1955]. Он выделяет две противоположные «психологические тенденции», находящие свое проявление в синтаксисе языков: импрессионистическую (отражение явлений с точки зрения их восприятия) и аналитическую (рационалистическое представление отношений между причиной и следствием). На основе этой гипотезы автор располагает языки на шкале психологической ориентации по степени проявления в них двух выделенных им психологических тенденций. Русский язык – язык абсолютно импрессионистической ориентации, английский – аналитической ориентации, немецкий язык – ближе к русскому, в отличие от французского, который ближе к английскому.
Опираясь на классификацию языков Ш. Балли, польский и австралийский лингвист А. Вежбицка разработала свою концепцию этносинтаксиса [Wierzbicka 1988]. В соответствии с картированием концепта каузативности как в лексике, так и в грамматике языка эта концепция позволяет относить английский язык к языкам аналитической ориентации, отдающим приоритет рационалистическому представлению отношений между явлениями объективного мира в терминах причины и следствия, что, в свою очередь, отра- жает особенности менталитета нации. Напротив, в русском языке как языке импрессионистической направленности более подробную репрезентацию как на лексическом, так и на грамматическом уровне находит эмоциональное состояние человека, переживаемые им эмоции. (Для сравнения: на русском языке «ему тоскливо», «он тоскует», «у него тоска», «он в тоске» и he's sad – на английском).
Кроме того, в своих исследованиях А. Вежбицка выделила главные черты русского этнического характера. В статье «Русский язык» она, опираясь на анализ русской лексики, отметила особенности русской культуры и менталитета1. Автор считает, что «в наиболее полной мере особенности русского национального характера раскрываются и отражаются в трех уникальных понятиях русской культуры», а именно – «душа», «судьба» и «тоска». Анализируя данные слова (и множество других), Вежбицка и находит те семантические свойства, которые характеризуют русский менталитет: эмоциональность, «иррациональность» («нерациональность»), неагентивность и любовь к морали.
Отметим, что во всех этих исследованиях в том или ином виде подчеркивается определяющее значение языка для формирования цивилизационной (общей) и индивидуальной (событийной) картины мира, и, более того, роль языка в этом настолько велика, что даже высказывается мнение, что не мозг управляет языком, а язык управляет мозгом.
В самом деле, язык – это отражение картины нашего мира, типа нашего поведения. Мы видим, что архетипы нашего сознания четко прослеживаются в русском языке. Наш язык диктует нам, как поступать в той или иной ситуации. У русских и англосаксов с западноевропейцами разное понимание деятельности, и это четко прослеживается в языке. Так, западные народы строят всю свою грамматику на 2 глаголах: «иметь» и «желать». Например, в английском языке прошедшее время I have been в дословном переводе означает «я имел был», а в будущем времени – will , который несет в себе смысловую нагрузку проявления воли, твердого намерения. Таким образом, два глагола, скрепляющих всю грамматику английского языка, формируют и в сознании носителей этого языка стремление желать и обладать. То же самое относится к немецкой и французской грамматике.
А в русском языке есть только глагол «быть» («я был», «я жил», «я буду»), и это влияет на наше сознание. Мы имеем дело с действительностью, не рассматривая ее как объект овладения и желания. Формула владения у нас чрезвычайно интересная: там, где англичанин говорит I have , а немец – ich habe – «я имею», мы говорим «у меня есть» – «мне дано»2.
Особенности русской грамматики предопределяют иной взгляд на окружающий мир. Так, в нашем языке существуют три слова, относящихся к деятельности – «дело» (что-то важное, интересное), «труд» (что-то трудное, но достойное уважения) и «работа» (что-то неинтересное, муторное). Отношение к «работе» можно проиллюстрировать пословицей: «Работа – не волк, в лес не убежит».
Добавим, что русский язык (как и латынь) – флективный (от лат. flectivus – гибкий), синтетический, т.е. флексии (суффиксы, окончания и пр.) выражают сразу несколько грамматических значений. Это обусловливает (в отличие от английского) свободный порядок слов в русском предложении, что позволяет выразить тонкие оттенки смысла, настроения, расставить акценты.
Как можно экстраполировать это на русскую аналитику? Получается интересно: русский аналитик, в отличие от, например, американского, должен быть убежден, что возможности рационального описания, как и способность контролировать жизненные события, ограничены. Отсюда наша недостаточная выделенность как автономного агента, как лица, стремящегося к своей цели и пытающегося ее достичь, как контролера событий. Другими словами, по мнению авторов, на Западе социальные закономерности воспринимаются как нечто созданное суммой воль индивидов, у нас – как некие внешние по отношению к нам законы, которым мы не можем не подчиняться («судьба»).
Еще одним тонким духовным моментом, отличающим русскоязычного мыслителя, является своеобразное доверие к языку. Люди, говорящие на русском языке, а тем более философы, полагают язык сотоварищем по творчеству, а не просто средством выражения мысли.
Авторы уверены, что русская аналитика начинается с овладения всем богатством русского языка, и предлагают существенно дополнить учебные программы подготовки аналитиков изучением русской философской традиции, функционального языкознания и психолингвистики. Делать это надо в тесном контакте с учеными и практиками, работающими в соответствующих областях знаний.
Все это позволит подготовить аналитиков-профессионалов, которые будут способствовать упреждающему развитию нашей страны, созданию новых фундаментальных понятий (ибо в них возникает новая система), новой методологии преодоления существующих проблем и построения будущего.
Безусловно, в одной статье раскрыть всеобъемлющую роль русского языка в аналитике невозможно. Но мы и не ставили такую задачу. Главный вывод, вытекающий из изложенного: можно и нужно говорить о феномене русской аналитической традиции в неразрывной связи с русским (в т.ч. философским) языком, и этот феномен необходимо внимательно изучать и эффективно использовать. Ведь немецкий философ, основатель «философской герменевтики» Г.-Г. Гадамер верно заметил: «Язык есть нечто большее. Он есть всеобъемлющая предвосхищающая истолкованность мира и в этом смысле ничем не заменим. Прежде всякой философски нацеленной, критической мысли мир является для нас всегда уже миром, истолкованным в языке. С изучением языка, с нашим врастанием в родной язык мир становится для нас членораздельным» [Гадамер 1991: 29].
Статья подготовлена в рамках работы Школы молодого этнополитолога (проект Фонда президентских грантов № 21-2-00592).
Список литературы Русский язык как основа русской аналитики
- Балли Ш. 1955. Общая лингвистика и вопросы французского языка (пер. с 3-го фр. изд. Е.В. и Т.В. Вентцель; ред., вступ. статья и прим. Р.А. Будагова). М.: Издательство иностранной литературы. 416 с.
- Гадамер Г.-Г. 1991. Актуальность прекрасного. М.: Искусство. 367 с.
- Гачев Г.Д. 2007. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. Сер. Технологии культуры. М.: Академический Проект. 512 с.
- Данилевский Н.Я. 1991. Россия и Европа (сост., посл. и ком. С.А. Вайгачева). М.: Книга. 574 с.
- Курносов Ю.В. 2012. Аналитика как интеллектуальное оружие. М.: Русаки. 613 с.
- Курносов Ю.В. 2013. Азбука аналитики. М.: Русаки. 230 с.
- Леви-Стросс К. 1994. Первобытное мышление. М.: Республика. 384 с.
- Ракитянский Н.М. 2020. Ментальные исследования глобальных политических миров. М.: Изд-во МГУ. 463 с.
- Wierzbicka A. 1988. The Semantics of Grammar. Amsterdam: John Benjamins. 617 р.