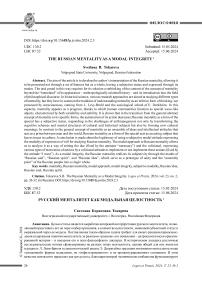Русский менталитет как модальная целостность
Автор: Токарева С.Б.
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является выработка авторской интерпретации русского менталитета, позволяющей представить его не через набор признаков, а в качестве целостности, имеющей субъектный статус и выражаемой через ее модусы. Поставленная таким образом задача требует для своего решения переосмысления содержания понятия менталитета за рамками «родины» его появления - антропологически ориентированной истории - и введения его в поле философского дискурса. В историческом дискурсе различные исследовательские оптики сфокусированы на разных типах менталитета, однако общей для них является идущая от Л. Леви-Брюля и социологической школы Э. Дюркгейма традиция понимания ментальности как «сниженной» формы мышления, не «отфильтрованного» и не процензурированного сознанием. В этом качестве менталитет предстает как программа, благодаря которой человеческие сообщества функционируют как социальные куматоиды - «волнообразные» объекты, характеризующиеся одновременно изменяемостью и устойчивостью. Показано, что при переходе от общего абстрактного понятия менталитета к его конкретным формам «волноподобие» снижается; русский менталитет как форма особенного имеет субъектный статус, отвечая на вызовы антропогенеза не только трансформацией когнитивных схем и ментальных структур культурно-исторических субъектов, но и формированием новых культурных смыслов. В отличие от общего понятия менталитета как ансамбля идей и интеллектуальных установок, выполняющего роль призмы, находящейся между человеком и миром, русский менталитет как форма особенного выступает как действующий субъект, оставляющий следы в культуре. Сделан вывод о правомерности использования для исследования русского менталитета субъектной модальной установки, выражающей модальность волеизъявления. Модальный подход к русскому менталитету позволяет анализировать его в качестве способа заданности должного (фиксируемого оператором «необходимо») и волитивного, выражающего различные виды мотивированности действий волевой установкой на реализацию или нереализацию этих действий (фиксируемого установкой «я хочу»). В качестве модальной целостности русский менталитет реализует свою субъектность через модусы «русская душа», «русский дух», «русская идея», служащих для русского народа прообразом единства и «точкой сборки» его в единое целое.
Менталитет, русский менталитет, модальный подход, модальная целостность, субъективная модальность, русская идея, русская душа, русский дух
Короткий адрес: https://sciup.org/149146831
IDR: 149146831 | УДК: 130.2 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2024.2.3
Текст научной статьи Русский менталитет как модальная целостность
DOI:
Цитирование. Токарева С. Б. Русский менталитет как модальная целостность // Logos et Praxis. – 2024. – Т. 23, № 2. – С. 26–32. – DOI:
Понятие «менталитет» – продукт категориальной эволюции термина «ментальность», введенного в научный оборот представителями социологической школы Эмиля Дюркгейма и получившего широкое распространение в социально-гуманитарном знании благодаря деятельности представителей первого поколения «Новой исторической науки» (La Nouvelle Histoire) [L’ Histoire... 1995]. На разных этапах этой категориальной эволюции вводились и применялись различные исследовательские оптики, многообразие которых породило смысловую вариабельность понятия «менталитет» и его устойчивую принадлежность к классу неопределенных понятий, характеризующихся неясным содержанием (то есть невозможностью точного указания наиболее важных отличительных признаков обозначаемого объекта) и нерезким объемом (невозможностью «провести точную границу между теми объектами, которые входят в объем этого понятия и теми, которые не входят в него») [Гусев 2015, с. 47]. Именно с размытостью, «туманностью» понятия «менталитет» [Андреева 2003, с. 17] и модальным характером его признаков связана счастливая научная судьба этого термина: первоначально употребленный в узком смысле, он стал основой нового направления в исторической науке – истории ментальностей [Михина (сост.) 1996], а затем многократно доопределялся за счет расширения и концептуализа- ции содержания в рамках философского и культурологического дискурсов. При этом большинство определений менталитета содержит различные «наборы» его признаков, включающие как устойчивые свойства, так и текучие характеристики-состояния, однако такой подход не позволяет увидеть менталитет в его функционировании.
В историческом дискурсе различные исследовательские оптики сфокусированы на разных типах менталитета, однако общей для них является идущая от Л. Леви-Брюля и закрепившаяся в различных направлениях антропологически ориентированной истории традиция отождествления ментальности со «сниженными» формами мышления. «Неосознанность или неполная осознанность – один из важных признаков ментальностей. В ментальности раскрывается то, о чем изучаемая историческая эпоха вовсе и не собиралась, да и не была в состоянии сообщить, и эти ее невольные послания, обычно не “отфильтрованные” и не процензурированные в умах тех, кто их отправил, тем самым лишены намеренной тенденциозности. <...> На этом уровне удается расслышать такое, о чем нельзя узнать из сознательных высказываний» [Гуревич 1992, с. 7].
Эта трактовка менталитета полностью соответствует первоначальному употреблению данного понятия в социологической школе Э. Дюркгейма, представители которой ввели его для обозначения коллективного бессознательного; Л. Леви-Брюль определял этим термином не знакомое с логикой первобытное «недомышление»; у пионеров антропологически ориентированной истории, использовавших понятие ментальности в качестве ключевого при анализе современных обществ, также закрепилась его трактовка как «коллективного неосознанного», которое может быть определено только функционально. При этом Марк Блок и его последователи предпочитали «иметь дело с менее осознанным, машинальным, стереотипным, проявляющимся в повседневном поведении, создавая “историю привычек”, обычаев», а «линия Люсьена Февра в значительной степени нацелена на изучение более осознанных, обдуманных созданий человеческого разума в ту или иную эпоху и представляет своего рода историю интеллектуальных течений, смыкаясь с историей культуры (которая, в свою очередь, интересуясь человеком “действующим”, дрейфует в сторону исторической антропологии)» [Андреева 2003, с. 19–20].
Хотя в сравнении с привычным нам мышлением первобытный менталитет труднопостижим и трудновыразим «средствами наших концептуальных по характеру языков» [Леви-Брюль 2002, с. 9], Л. Леви-Брюль фактически представляет его в качестве действующей программы , задающей способ сбора и использования данных, позволяющей объяснять, интерпретировать, добиваться желаемых предзнаменований и приспосабливаться к новым приемам и инструментам, и описывает ее вполне привычным нам языком: первобытный менталитет отвергает дискурсивные операции; ограничивается малым кругом предметов; приписывает все происходящее мистическим и оккультным силам; проявляет заботу о покойниках, испытывает доверие к сновидениям, гадает и задает вопросы мертвым; всему происходящему дает мистическую интерпретацию; отвергает новации и испытывает недоверие к субъектам, от которых они исходят и т. д. [Леви-Брюль 2002, с. 8–9].
Благодаря действию менталитета как программы большие социальные общности функционируют как социальные куматоиды, то есть представляют собой нечто постоянно изменяющееся, потокообразное и в то же вре- мя сохраняющееся в качестве устойчивого, инвариантного. Куматоид – это «некий плавающий объект, то исчезающий, то появляющийся, который обнаруживает себя не во всех системах взаимодействий», а только в определенных, предполагаемых «программой». Он «может появляться, образовываться, а может исчезать, распадаться. Он не репрезентирует всех своих элементов одновременно, а как бы представляет их своеобразным “чувственно-сверхчувственным” образом» [Коха-новский и др. 2003]. Этому подходу соответствует имперсональное определение народа как программы: «народ – это... не сумма индивидуумов, а набор имперсональных программ, сценариев и стереотипов мифообразо-вания и соответствующих им форм социального поведения и других практик. Индивидуумы же являются лишь ситуационными (для многих, впрочем, эта ситуационность заполняет всю жизнь) проводниками, агентами-исполнителями этих приходящих как бы извне программ. Кстати, смутное осознание этого обстоятельства понуждает стихийную массовую интуицию трактовать образ народа исключительно в метафизической и подчеркнуто имперсональной оптике» [Пелипен-ко 2010, с. 12].
В определении менталитета как программы на первый план выступает его действенная сторона, причем эти действия носят характер безличностных автоматизмов: менталитет «подобно потоку... увлекает людей и незаметно заставляет их делать и говорить...» [Розов 1988, с. 25]; менталитет «создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции какого-либо сообщества» [Гуревич, Шульман 1995, с. 125]; не только человек «обладает» определенной ментальностью, но и она «обладает» им [Споры о главном... 1993, с. 25].
При этом «волноподобие» социальных куматоидов снижается по мере того, как мы переходим от абстрактного понятия «менталитет» к его конкретным формам. «Сниженное волнообразие» особенных форм является следствием нарастания субъектных характеристик, так что на разных стадиях формирования менталитета обнаруживается разная степень проявленности его системных / программных и субстанциальных / субъектных качеств. На стадии локально-синкретического существования, характерной для архаической общины, менталитет обнаруживает себя в качестве «культурного кода», действующего с неотвратимостью автоматизма. Эта функция никогда не исчезает из менталитета полностью, и даже в развитых формах менталитета остается, по мнению некоторых авторов, определяющей: «Менталитет, как мне представляется, – пишет И.К. Пантин, – это своеобразная память народа о прошлом, психологическая детерминанта поведения миллионов людей, верных своему исторически сложившемуся “коду” в любых обстоятельствах не исключая катастрофические...» [Российская ментальность 1994, с. 30].
Типическое поведение всех этих «миллионов людей» есть проявление действия менталитета как целостности , поскольку «все единичное в истории – будь то индивиды или отдельные исторические события – обнаруживает свою полную несамостоятельность, а потому поиски существенного и основательного в историческом процессе всегда исходят из признания бытийного примата целого, признания существования в мире всеобщей связи, так что все единичное – индивид или событие – получает свою определенность и свою экзистенцию из этой всеобщей связи, из целого , которое является образованием высшего порядка и относится к области объективного духа (в гегелевском значении)» [Гартман 2003, с. 119].
Русский менталитет как целостность является формой национального сообщества, хотя сам он при этом формой сообщества не обладает, поскольку состоит не из индивидов, но из содержательного многообразия, общего для индивидов. В качестве социального куматоида русский менталитет имеет общее определение с другими локальными ментали-тетами – быть системой инвариантных программ поведения, общей для людей данного сообщества на разных этапах его развития, формирующей схожие привычки чувствовать и мыслить, а также схожие способы преодоления обстоятельств; однако в качестве особенного русский менталитет имеет субъектный статус, отвечая на вызовы антропогенеза не только трансформацией глубинных когнитивных схем и ментальных структур культурно- исторических субъектов, но и порождением новых культурных смыслов. То есть речь идет о различии между общим понятием менталитета как «ансамбля идей и интеллектуальных установок», находящегося «между нами и миром как призма» [Bouthoul 1971, p. 31–32], и представлением о русском менталитете, который в своей особенности выступает как действующий субъект, оставляющий следы в культуре. Понятно, что субъектность менталитета относится к тем видам субъектности, которые существуют «вне человеческой головы», а сам он как целостность остается за пределами опыта эмпирических индивидов и относится к сфере непереживае-мого, непосредственная связь с которым недоступна для восприятия.
По этой причине для исследования русского менталитета правомерно использование субъектной модальной установки [Мёдо-ва 2020, с. 17]. В отличие от объективной модальности, которая информативна, включает сообщения о реальности в форме фактов и использует наклонения когнитивного типа, выполняющие «осведомительную коммуникативную функцию» и указывающие «на степень достоверности передаваемой информации», субъективная модальность – это модальность волеизъявления , использующая грамматические средства выражения различных видов мотивированности действия волевыми установками субъекта речи на реализацию или нереализацию действия [Мёдова 2020, с. 18–19].
С субъектной точки зрения модальный мир – это мир должного и волитивного. Модальный подход к русскому менталитету позволяет анализировать его в качестве способа заданности им должного (фиксируемого оператором «необходимо») и волитивного, выражающего различные виды мотивированности действий волевой установкой на реализацию или нереализацию этих действий (фиксируемого установкой «я хочу»). Анализируя средства выражения в русском языке модальных значений, А.А. Мёдова отмечает, что «в русском языке модальности желательности, долженствования, обязательности, намерения и прочие выражаются не глаголами, как в романо-германских языках, а фиксируются наречиями и конструкциями категорий состояния (например, надо + инфинитив). Русские категории состояния – это специальные безлично-предикативные слова, инфинитив – также безличная форма глагола, не имеющая времени. Например, надо (бы) сходить в магазин, необходимо действовать, нельзя быть таким глупым. Эти фразы передают модальности, но не имеют лица и времени» [Мёдова 2020, с. 27]. Безличность модальных компонентов отражает специфику деонтического противостояния русского человека бытию: «Преобладание модальных конструкций, выражающих побудительность, долженствование, обязательность и другие позиции посредством категории состояния, говорит о диффуз-ности, процессуальности, безличности картины мира. Отсутствие или редкая употребительность личных глаголов при выражении модальности свидетельствует о бессубъект-ности модальных конструкций – конкретно никто ничего не должен, а просто надо» [Мё-дова 2020, с. 27].
Примем за основу следующее определение субъектности: «Субъектность не только указывает на возможность самопознания, но становится динамической характеристикой самоосуществления индивида или общественной группы, программой создания ими совокупности своих атрибутивных характеристик, позволяющих произвести самоидентификацию в процессе межличностного или группового общения» [Мельников 2000, с. 45]. Самоидентификация может происходить с учетом этнических признаков; в этом случае можно говорить о русской субъектности [Мельников 2000, с. 45], детерминированной в качестве социального куматоида русским менталитетом.
Показательно, что Чаадаев, признавая важнейшей закономерностью исторического развития и существования народа его единство и солидарность, образуемые благодаря приверженности граждан традициям, общим нормам жизни, стремлению к исполнению своей миссии, оценивал субъектность русского народа как исчезающую, ничтожную. Россия, по его мнению, отпала от указанной закономерности, и без достижения этого внутреннего единства, без единения с другими народами, без вхождения «составной частью в род человеческий» [Чаадаев 1991 II, с. 326] у России нет будущего, ибо «народ, точно также, как и индивидуум, не может сделать ни шагу вперед без ощущения своей личности; более того, он не может даже существовать без этого ощущения» [Чаадаев 1991 I, с. 501]. Для используемой Чаадаевым «оптики», сфокусированной на индивидуальном сознании, все сверхиндивидуальные виды субъектности оказываются в слепом пятне, и ему остается только продолжать «заземлять» и без того уже приниженное русское самосознание: «Бедные наши души! Не будем прибавлять к остальным нашим бедам еще и ложного представления о самих себе, не будем стремиться жить жизнью чисто духовной, научимся благоразумно жить в данной действительности...» [Чаадаев 1991 II, с. 324]. Дух и душа для Чаадаева не более чем режимы существования: «В жизни есть обстоятельства, относящиеся не к физическому, а к духовному бытию; пренебрегать ими не следует; есть режим для души, как есть режим и для тела: надо уметь ему подчиниться» [Чаадаев 1991 II, с. 323].
Между тем характерная для русского самосознания и языка бессубъектность модальных конструкций перекрывается субъектностью высшего порядка. Как реальная целостность, конкретный менталитет проявляет и обнаруживает себя через свои модусы. Для русского менталитета такими модусами, через которые он объективируется и самораз-вертывается, выступают русская душа, русский дух и русская идея, воплощающие субъектность русского менталитета во всей ее полноте. Э. Дюркгейм справедливо считал ментальность базовой формой солидарности (полагая при этом социальную ментальность более сильным фактором сплочения по сравнению с этнической) [Дюркгейм 2018, с. 251– 252]. Русская душа, русский дух и русская идея как модусы русского менталитета выступают ментальными культурными формами, удерживающими единство «русскости» вопреки слабости корпоративных связей, личностной разделенности и т. п. Благодаря субъектности русской души, русского духа и русской идеи мы понимаем особенность носителей русскости не как набор типических черт, распределенных между ними в каких-то пропорциях, но как причастность к живому единству, реальному в неменьшей степени, чем личность. Русская душа, русский дух, русская идея в качестве модусов русского менталитета раскрываются в национальной истории, религиозном сознании и культурной традиции как действующие прообразы единства русского народа и «точки сборки» его в единое целое.
Список литературы Русский менталитет как модальная целостность
- Андреева 2003 - Андреева Е.А. «Новая историческая наука» Франции глазами французских историков // Вестник Томского государственного университета. 2003. № 276. C. 13-20.
- Гартман 2003 - Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб.: Наука, 2003. 640 с.
- Гуревич 1992 - Гуревич А.Я. Филипп Арьес: смерть как проблема исторической антропологии // Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс, 1992. 528 с.
- Гуревич, Шульман 1995 - ГуревичП.С., Шульман О.И. Ментальность как тип культуры // Философские науки. 1995. № 2-4. С. 125-138.
- Гусев 2015 - Гусев Д.А. Логика. М.: Прометей, 2015. 300 с.
- Дюркгейм 2018 - Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии. М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 736 с.
- Кохановский и др. 2003 - Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия для аспирантов. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2003. 448 с.
- Леви-Брюль 2002 - Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. СПб.: Европейский дом, 2002. 400 с.
- Мельников 2000 - Мельников А.Н. Загадки русской субъектности. Опыт деструкции и деконструкции смыслообразующих этносоциальных текстовых стратегий // Известия АлтГУ 2000. № 4. С. 45-50.
- Мёдова 2020 - Мёдова А.А. Онтология модальности: монография. В 2 ч. Ч. 2. Модальная интерпретация действительности. Красноярск: СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 2020. 160 с.
- Михина (сост.) 1996 - Михина Е.М. (сост.). История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М.: РГГУ, 1996. 255 с.
- Пелипенко 2010 - Пелипенко А.А. Русская система на весах истории // Философские науки. 2010. № 3. С. 7-22.
- Розов 1988 - РозовМ.А. Философия без сообщества? // Вопросы философии. 1988. № 8. С. 23-94.
- Российская ментальность 1994 - Российская ментальность (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1994. № 1. С. 23-53.
- Споры о главном... 1993 - Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки. Вокруг исторической школы «Анналов». М.: Наука, 1993. 207 с.
- Чаадаев 1991 - Чаадаев П.Я. Отрывки и разные мысли (1828-1850-е годы) // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 1. М.: Наука, 1991. С. 441-511.
- Чаадаев 1991 - Чаадаев П.Я. Философические письма (1829-1830). Письмо первое // Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. Т. 2. М.: Наука, 1991. С. 320-339.
- Bouthoul 1971 - Bouthoul G. Les mentalités. 5-e ed. Paris: Presses universitaires de France, 1971.
- L' Histoire... 1995 - L' Histoire et le métier d'historien en France, 1945-1995 / sous la direction de Francois Bedarida; avec la collab. de Maurice Aymard, Yves Marie Bercé, Jean-François Sirinelli; préf. de Jacques Le Goff et Nicolas Roussellier. Paris: Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 1995. X-437 р.