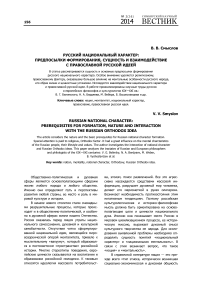Русский национальный характер: предпосылки формирования, сущность и взаимодействие с православной русской идеей
Автор: Смыслов В.В.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 2 (16), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются сущность и основные предпосылки формирования русского национального характера. Особое внимание уделяется религиозному, православному фактору, оказавшему большое влияние на ментальные особенности русского народа, его образ жизни и ценностные установки. Исследуется взаимодействие национального характера и православной русской идеи. В работе проанализированы научные труды русских и европейских философов и культурологов XIX-XXI вв.: В. Г. Белинского, Н. А. Бердяева, М. Вебера, Б. Вышеславцева и др.
Нация, менталитет, национальный характер, православие, православная русская идея
Короткий адрес: https://sciup.org/14113912
IDR: 14113912
Текст научной статьи Русский национальный характер: предпосылки формирования, сущность и взаимодействие с православной русской идеей
Общественно-политическая и духовная сферы являются основополагающими сферами жизни любого народа и любого общества. Именно они определяют путь и перспективы развития любой страны, ее место и роль в мировой культуре и истории.
В начале нового столетия стали очевидными разрушительные процессы, которые происходят и в общественно-политической, и особенно в духовной сферах жизни нашего Отечества. Россия оказалась перед лицом утраты национального самосознания, духовной и культурной самобытности. Отсутствие четко сформулированной национальной идеи, являющейся мировоззренческой опорой менталитета, привело к мыслительному «вакууму», который образовался в постсоветском «пространстве» российской истории. Многие стереотипы поведения, европейские ценности сказываются на воспитании и образовании российской молодежи. К таковым относятся идеология массового потребительст- ва, эгоизм, поиск развлечений. Все это агрессивно насаждается средствами массовой информации, разрушает духовный мир человека, делает его марионеткой в руках олигархии. Возникает необходимость противостояния этим негативным тенденциям. Поэтому российская культурологическая и историко-философская мысль должна быть ориентирована на основополагающие цели и ценности национального духа. Именно она показывает место России в мировом цивилизационном процессе, ее историческую миссию, выражает духовный смысл культурного творчества ее народа. Для исследования выявленной проблемы необходимо определить сущность понятий «национальный характер» и «национальная ментальность». В связи с этим возникает вопрос, что такое «нация» и «ментальность».
В справочной литературе нация — это прежде всего «тип этноса, исторически возникшая социально-экономическая и духовная общность людей с определенной психологией и самосознанием» [19, с. 212]. Однако такое определение недостаточно полно отражает суть явления. По мнению П. А. Сорокина, «нация является многосвязной (многофункциональной), солидарной, организованной, полузакрытой, социокультурной группой, по крайней мере отчасти осознающей факт своего существования и единства.
Эта группа состоит из индивидов. Они являются гражданами одного государства, имеют общий или похожий язык и общую совокупность культурных ценностей, происходящих из общей прошлой истории этих индивидов и их предшественников, занимают общую территорию, на которой живут они и жили их предки» [20, с. 466].
Менталитет выражает сущностное своеобразие нации, ее «образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе» [5, с. 717].
Национальный характер отличается от менталитета и включает в себя «нечто общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, т. е. глубинный и поэтому трудно фиксируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и эмоций» [18, с. 459].
На развитие русского государства, русского народа и его национальный менталитет, национальную идею серьезное влияние оказало религиозное мировоззрение. К. С. Гаджиев писал, что, будучи «социальным явлением, религия была одним из основополагающих элементов духовной культуры, источником традиционных ценностей» [10, с. 347].
Именно религия оказывала «бесспорное влияние на те или иные формы общественного сознания (политика, право, мораль и т. д.). Оно различается в зависимости от культурных систем» [12, с. 292].
Малышева Д., исследовавшая роль религиозного фактора в формировании и развитии российской общности, доказала, что процесс усиления влияния религии на общество совпадает, как правило, с критическими моментами в истории народов — с ломкой или исчезновением старых порядков, рождением новых социальных отношений, возникновением новых духовных ценностей.
При этом вера в сверхъестественное выполняет двоякую роль: «С одной стороны, становясь основой формирования национальной идентичности, оно способно вызвать отчуждение одного народа от другого, стать фактором конфликтности. С другой — может играть роль стабилизатора процессов, на которые негативно воздействует утрата привычных ценностных ориентиров, содействовать снижению межнациональной напряженности и облегчать поиск путей достижения гражданского мира и согласия» [15, с. 64].
Выдающийся немецкий социолог М. Вебер по этому поводу писал: «Выработанные христианством психологические стимулы давали определенное направление всему жизненному строю и заставляли индивида строго его держаться. Эти стимулы были в значительной степени обусловлены спецификой религиозных представлений» [8, с. 138]. Вся система ценностей, норм и мировоззрение также исходили из их специфики. Немецкий социолог утверждал, что «в зависимости от типа религиозных связей, верований складывается определенный тип политического сообщества» [Там же].
Принятие православного христианства оказало огромное влияние на весь ход политических и социальных процессов, возникновение и укрепление государственности и развитие культуры славянских народов, и «в целом эта религия способствовала осознанию славянским этносом единых национальных интересов» [Там же]. Она предопределила весь жизненный уклад русского человека, его приоритеты и стимулы.
Для русского народа религия была главной и определяющей из всех сфер духовной жизни. Это отмечал Н. Я. Данилевский в своем фундаментальном труде «Россия и Европа»: «Религия составляла для русского народа преобладающий интерес во все времена его жизни» [11, с. 187]. Приняв христианство из рук Византии, Русь усвоила ее политические традиции (модели отношений между церковью и государством). Эти отношения принципиально определялись по типу взаимного согласия при независимости каждой из областей. Государство признавало для себя внутренним руководством церковный закон, церковь же брала на себя обязанность подчиняться государству. Следует отметить то обстоятельство, что «в идеологии византийского государства центральная роль принадлежала императору, а политическое господство опиралось на господство теократическое» [12, с. 29]. Слияние церкви и государства было характерным и для России. Правящая элита стремилась «блюсти православие страны и народа, что обрекало правительственную администрацию на пассивность в государственном строительстве» [23, с. 32]. Эти особенности дополняла «всеобщая государственная повинность для всех членов общества» [Там же].
Из единства церкви и власти вытекало «всеобщее единомыслие в сфере общественного сознания и политической культуры» [Там же]. С «политико-идеологическим единомыслием тесно связан устойчивый традиционализм, составлявший (и не утративший своего потенциала до наших дней) одну из фундаментальных основ русской политической культуры» [Там же, с. 33]. Выдающийся российский ученый-правовед П. И. Новгородцев отмечал влияние православного сознания на политикоправовую культуру русского народа. В работе «Существо русского православного сознания» он писал: «Православное сознание… основано на убеждении в общей нравственной и религиозной ответственности каждого за всех и всех за каждого: тут в основе лежит идея спасения людей не индивидуального и обособленного, а совместного и соборного, совершаемого действием и силой общего подвига, веры, молитвы и любви» [17, с. 411].
По мнению ученого, для русского религиозного сознания характерна «известная пассивность, созерцательность. Влияние на жизнь, на культуру, на государство, на быт осуществляется в православии иными путями, чем в западных исповеданиях: определяющими силами являются тут не авторитет, не дисциплина, не чувство долга, стоящее вне религии и переживающее ее, а признание заповедей Божиих, заповедей единения и любви и страх Божий, страх греха и проклятия. Жизнь определяется тут именно религией, а не моралью, так что без религии и морали не остается, и когда православный человек отпадает от религии, он может склониться к худшей бездне падения.
Но это именно и свидетельствует, в какой мере он не может жить без религии и как все в православии держится на религии» [Там же, с. 411—412]. П. И. Новгородцев доказал, что в православном сознании ведущее место занимает специфика русской души. Он писал по этому поводу: «Не притязая на то, что я перечислю все эти свойства и особенности полностью, я укажу лишь те, которые представляются мне самыми главными. Они следующие: созерцательность, смирение, душевная простота, радость о Господе, потребность внешнего выражения религиозного чувства, чаяние Царства Божия» [Там же, с. 414].
Мыслитель характеризовал эти качества следующим образом: «Созерцательность означает такую обращенность верующей души к Богу, при которой главные помыслы, стремления и упования сосредотачиваются на божественном и небесном; человеческое, земное тут представляется второстепенным и в то же время несовершенным и непрочным. Отсюда и отсутствие настоящего внимания к мирским делам и практическим делам....православие по существу своему созерцательно, аскетично. Смирение — второе из названных свойств православного сознания — стоит в неразрывной связи с первым, с созерцательностью, истинная и подлинная обращенность верующей души к Богу непременно приводит к смирению, к сознанию ничтожества человеческих сил» [Там же, с. 415—416].
С духом смирения связана и «третья черта русского православного благочестия — это простота душевная, сознание того, что религиозная истина есть простая истина, которая дается не в научной изощренности, не в критике, не в самопревозносящей мудрости, не в гордой своими завоеваниями культуре, а в детской простоте души, простой наивной вере, смиренному преклонению пред тайнами величия Божия» [Там же, с. 418]. Следующее свойство православного сознания — радости о Господе. И это объясняется тем, «что в сознании живет радостная весть: «Христос воскресе!», «Христос посреди нас!», о «сошествии Бога на землю к людям», это «озарение этого высшего света, который никакая тьма объять не может, все грехи и слабости человеческие представляются искупленными» [Там же, с. 418—419]. Ведущим свойством православного сознания является потребность внешнего обнаружения религиозного чувства. П. И. Новгородцев объяснял это следующим образом: «Я разумею под этим стремление проявить обращение своих мыслей и чувств к Богу во внешних знаках, символах и действиях» [Там же, с. 420]. Исследуя специфику православного сознания, П. И. Новгородцев характеризовал, таким образом, русский народ.
В религиозном сознании понятия «православный» и «русский» становятся практически идентичными с конца XIV века. Один из крупнейших исследователей отечественной истории В. Мавродин писал по этому поводу: «...Русский, исповедовавший христианство по греческому, православному обряду, противопоставляет себя язычникам, «поганым», «латинам»... Термин «христианин», как позднее «православный», нередко вбирает в себя понятие «русский народ» [14, с. 143].
Система духовных ценностей определяет ментальности нации. Она представляет собой прежде всего духовные начала, сложившиеся на Руси под воздействием православия. В. Г. Белинский отмечал: «Национальность есть совокупность всех духовных сил народа: плод национальности народа есть его история» [1, с. 80].
На формирование духовной культуры, национального менталитета Руси серьезное влияние оказал ряд факторов. К числу таковых следует отнести географическое положение, климатические условия, род деятельности, особенности организации общества, особенности политической организации. Однако определяющую роль в формировании этих качеств и сфер деятельности сыграла религия. Н. А. Бердяев в связи с этим писал: «Душа русского народа была сформирована православной церковью, она получила чисто религиозную формацию. И эта религиозная формация сохранилась и до нашего времени, до русских нигилистов и коммунистов» [2, с. 8]. В характеристике национальных особенностей России Н. А. Бердяев выделял также влияние природного фактора: «...В душе русского народа остался сильный природный элемент, связанный с необъятностью русской земли, с безграничностью русской равнины. У русских «природа», стихийная сила сильнее, чем у западных людей, особенно людей самой оформленной латинской культуры. Элемент природноязыческий вошел и в русское христианство. В типе русского человека всегда сталкиваются два элемента — первобытное, природное язычество, стихийность бесконечной русской земли и православный, из Византии полученный, аскетизм, устремленность к потустороннему миру. Для русского народа одинаково характерен и природный дионисизм, и христианский аскетизм... Пейзаж русской души соответствует пейзажу русской земли, та же безграничность, бесформенность, устремленность в бесконечность, широта» [Там же, с. 9].
По мнению мыслителя, «религиозные основания духовного начала создают формацию души. Она выработала такие устойчивые свойства, как догматизм, аскетизм, способность нести страдания и жертвы во имя своей веры, устремленность к трансцендентному, которая относится то к вечности, к иному миру, то к будущему, то к настоящему. Русская душа обладает потрясающей религиозной энергией; способностью переключаться и направляться к целям, которые не являются религиозными, например, к социальным целям. Религиозно-догматический склад души породил крайности — русские всегда ортодоксы или еретики, раскольники, они апокалиптики или нигилисты» [Там же]. Обращаясь к теме национальной ментальности, Н. А. Бердяев писал: «Россия самая безгосу-дарственная, самая анархическая страна в мире, русский народ — самый аполитичный народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты — все были без-государственниками, своеобразными анархистами. Анархизм — явление русского духа. Наша православная идеология самодержавия — такое явление безгосударственного духа, отказ народа и общества создавать государственную жизнь» [3, с. 298]. Продолжая свою мысль, философ отмечал: «Русский народ не хочет быть мужественным строителем, его природа определяется как женственно пассивная и покорная в делах государственных, он всегда ждет жениха, мужа, властелина. Россия — земля покорная, женственная. Пассивная, рецептивная женственность в отношении государственной власти характерна для русского народа и русской истории. Нет пределов смиренному терпению многострадального русского народа. Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для безгосударственного русского народа» [Там же, с. 298—299].
Общинное сознание, общинная психология характеризуют русский национальный характер. Это объясняется тем, что «русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности стихии земли, в лоне матери» [Там же, с. 299].
Бердяев Н. А. полагал, что «русское, национальное — это женское, и даже русская религиозность — женская религиозность, — религиозность коллективной биологической теплоты, переживаемой как мистическая» [Там же, с. 301]. В связи с этим, представляя природу национального характера, Бердяев писал: «Русские гораздо более социабельны (не социальны в нормирующем смысле), более склонны и более способны к общению, чем люди западной цивилизации. У русских нет условностей в общении. У них есть потребность видеть не только друзей, но и хороших знакомых, делиться с ними мыслями и переживаниями, спорить. Русские очень склонны соединяться в кружки и группы, спорить в них о мировых вопросах. Русские — народ не столько семейственный, сколько ком-мюнитарный» [Там же, с. 302]. Определяя анти-номичность русского национального типа, фи- лософ отмечал: «Русский народ есть в высшей степени поляризованный народ, он есть совмещение противоположностей» [4, с. 253]. По его мнению: «Русский народ есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный Востоко-Запад, она соединяет два мира. И всегда в русской душе боролись два начала, восточное и западное» [Там же, с. 44]. Рассуждая об этой борьбе противоположностей, мыслитель писал: «У русского народа можно открыть противоположные свойства: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность, жестокость, склонность к насилию и доброта, человечность, мягкость, об-рядоверие и искание правды, индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловечность, эсхатологичес-ки-мессианская религиозность и внешнее благочестие, искание Бога и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт» [4, с. 254]. По мнению Н. А. Бердяева, «русские... мыслят иначе. Говорю о характерном русском мышлении. Русские рассматривают проблему по существу» [3, с. 43]. Выдающийся русский философ С. Л. Франк, исследуя проблему русского мышления, отмечал: «Своеобразие русского типа мышления именно в том, что оно изначально основывается на интуиции. Систематическое и понятийное в познании представляется ему хотя и не как нечто второстепенное, но все же как нечто схематичное, неравнозначное полной и жизненной истине. Глубочайшие и наиболее значительные идеи были высказаны в России не в систематических трудах, а в совершенно иных формах — литературных» [22, с. 47]. Другой характерной особенностью русского мировоззрения и стиля мышления, по мнению С. Л. Франка, было «…предубеждение против индивидуализма и приверженность к определенного рода коллективизму» [Там же, с. 483]. Он считал, что русский духовный коллективизм самобытен и, «во-первых, он ничего не имеет общего с экономическим и социально-политическим коммунизмом, а во-вторых, несмотря на то, что этот коллективизм противостоит индивидуальному, он отнюдь не враждебен понятиям личной свободы и индивидуальности, а, наоборот, мыслится как его крепкая основа» [Там же, с. 486]. Философ полагал, что общее в русском самосознании предшествует частному, «мы» есть такое конкретное целое, в котором не только могут существовать его части, неотделимые от него, но которое и само внутренне пронизывает каждую часть и в каждой наличествует полностью» [Там же, с. 487].
«Для русского духа, — отмечал ученый, — характерен принцип соборности, который является внутренней гармонией между живой личной душевностью и надиндивидуальным единством. Этой соборностью, или «принципом общности», на который настроен русский дух (и который славянофилы называли также «хоровым принципом» русской жизни), объясняется, что политика, политическая борьба играет в русской духовной жизни чрезвычайно большую роль» [Там же, с. 488—489]. С. Л. Франк выявил сочетание в русском духовном начале двух противоположных основ: «…С одной стороны, для русских непредставима целая жизнь иначе как коллективная — общинный порядок и совместное пользование всеми благами жизни для всех сограждан; когда же эта идея начинает искать полного эмпирически-практического осуществления, то возникает политическая возбужденность, за которой, как это неоднократно замечалось, начиная с Достоевского, у русских обычно всегда кроется религиозная страстность. С другой стороны, поскольку по этой причине политические вопросы становятся и последними вопросами личного блага, смысла жизни отдельной личности, возникает анархически-утопическая неспособность к компромиссам, к разумному объединению и разграничению интересов. Именно лежащее в русском духовном устроении принципиальное требование объединить полный индивидуализм с полным универсализмом или, скорее, осуществить их в первозданном единстве легко ведет к возникновению жесточайших коллизий между обеими духовными тенденциями, в особенности если религиозная основа, на которой только и возможна тинная соборность, вытравливается из сознания» [Там же].
Известный русский философ Б. Вышеславцев исследовал другие особенности русской национальной ментальности. Он считал, что «непонятность, иррациональность поступков и решений, национальная скромность, самокритика и самоосуждение составляют нашу несомненную черту. Нет народа, который до такой степени любил ругать себя, изобличать себя, смеяться над собой, и «область подсознательного в душе русского человека занимает исключительное место» [9, с. 622]. Н. О. Лосский, исследовав русский национальный характер, пришел к выводу, что «основной, наиболее глубокой чертой его является религиозность и свя- занное с нею искание абсолютного совершенного царства бытия» [13, с. 72]. Для русского человека религия всегда была тем, что предопределяло ориентиры смысла жизни, а его устремления составляли духовное начало существования. Не случайно Э. Фромм выделил в религии характерную для нее смысложизненную функцию. Определяя ее сущность, он писал: «Под религией я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для преданного служения» [21, с. 158]. Подчеркивая роль религии в жизни русского человека, С. Л. Франк отмечал: «Русский народ некогда основал и в течение столетий укреплял величайшее мощнейшее государство в Европе и …это государство удерживалось не светско-политической идеей, а монархией в ее национально-русском варианте, т. е. внушительной религиозной идеей «царя-батюшки» — царя как носителя религиозного единства и религиозного стремления русского народа к истине» [22, с. 489].
Только в России с ее особой ментальностью, православной религиозностью, с присущей ей идеей мессианства могла сложиться знаменитая теория о всемирно-исторической роли Московского государства — о «Москве — третьем Риме». Она была сформулирована игуменом Псковского монастыря Филофеем в такой форме: «Церковь старого Рима пала неверием аполлинариевой ереси, второго же Рима — константинопольскую церковь иссекли секирами огаряне. Сия же ныне третьего, нового Рима — державного твоего царства — святая соборная апостольская церковь во всей поднебесной паче солнца светится. И да ведает твоя держава, благочестивый царь, что все царства православной христианской веры сошлись в твое единое царство: один ты во всей поднебесной христианам царь... Блюди же и внемли, благочестивый царь, что все христианские царства сошлись в твое единое, что два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть; твое христианское царство уже иным не достанется» [16, с. 31].
По существу, сформулированная Филофеем установка была своеобразной общеполитической программой, которая была выражена в религиозной форме, а затем довольно длительное время являлась официальной национальной идеей. Впоследствии она эксплуатировалась большевиками как особая миссия Советской России.
Таким образом, русский национальный характер и православная идея сложились под влиянием православного христианства, географического положения и климатических условий страны, рода деятельности населения, особенностей организации общества, его политической организации, т. е. специфики государственного устройства. Качества русского национального характера весьма противоречивы. Они определили сущность и назначение национальной православной идеи. В России всегда существовала необходимость некоего организующего начала для упорядочения образа жизни и мыслей. В нашей стране до настоящего времени пользуется популярностью «теория официальной народности», созданная графом С. С. Уваровым во второй четверти XIX века (самодержавие, православие, народность). С другой стороны, идея мессианства предоставляет России шанс спасти мировую цивилизацию от саморазрушения. И может быть, он заключается не в повсеместной рационализации жизни, а в обращении к чувственному, иррациональному в человеке, то есть к его душе?
-
1. Белинский В. Г. Россия до Петра Великого // Русская идея / сост. и авт. вступ. статьи М. А. Маслин. М. : Республика, 1992. 496 с.
-
2. Бердяев Н. А. Душа России // Русская идея / сост. и авт. вступ. статьи М. А. Маслин. М. : Республика, 1992. 496 с.
-
3. Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. М. : Наука, 1990.
-
4. Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М. : Книга, 1991. 446 с.
-
5. Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : Норинт, 1997. 1456 с.
-
6. Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 808 с.
-
7. Вебер М. Избранное. Образ общества. М. : Юрист, 1994. 704 с.
-
8. Вышеславцев Б. Русский национальный характер // Русский мир. Геополитические заметки по русской истории. М. : Русский мир, 2003. 864 с.
-
9. Гаджиев К. С. Политическая наука. 2-е изд. М. : Международные отношения, 1995. 400 с.
-
10. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М. : Книга, 1991. 574 с.
-
11. Кола Д. Политическая социология : пер. с фр. М. : Весь мир, 2001. 406 с.
-
12. Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Основы этики. Характер русского народа. М. : Политиздат, 1991. 368 с.
-
13. Мавродин В. Происхождение русского народа. Л. : Ленинградский ун-т, 1978. 184 с.
-
14. Малышева Д. Религиозный фактор в формировании и эволюции российской общности // Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 1. С. 64—76.
-
15. Милюков П. Н. Очерки истории русской культуры : в 3 т. М. : Прогресс, 1994. Т. 2. Ч. 1. 416 с.
-
16. Новгородцев П. И. Сочинения // Библиотека духовного возрождения : в 20 т. М. : Раритет, 1995. Т. 4. 446 с.
-
17. Опыт словаря нового мышления / под общ. ред. М. Ферро, Ю. Афанасьева. М. : Прогресс, 1989. 560 с.
-
18. Политология. Энциклопедический словарь / сост. Ю. И. Аверьянов. М. : Московский коммерческий ун-т, 1993. 431 с.
-
19. Сорокин П. А. Основные черты русской нации в
двадцатом столетии // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М. : Наука, 1990. С. 463— 489.
-
20. Сумерки богов // Психоанализ и религия : мо-ногр. / сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. М. : Политиздат, 1989. 398 с.
-
21. Франк С. Л. Духовные основы общества. М. : Республика, 1992. 510 с.
-
22. Черкасов Л., Чернышевский Д. История императорской России от Петра Великого до Николая II. М. : Международные отношения, 1994. 448 с.
-
23. Щупленков Н. О. Патриотизм — источник консолидации российского общества // Альманах современной науки и образования. 2013. № 1.
С. 184—187.
Список литературы Русский национальный характер: предпосылки формирования, сущность и взаимодействие с православной русской идеей
- Белинский В. Г. Россия до Петра Великого//Русская идея/сост. и авт. вступ. статьи М. А. Маслин. М.: Республика, 1992. 496 с.
- Бердяев Н. А. Душа России//Русская идея/сост. и авт. вступ. статьи М. А. Маслин. М.: Республика, 1992. 496 с.
- Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века//О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990.
- Бердяев Н. А. Самопознание (опыт философской автобиографии). М.: Книга, 1991. 446 с.
- Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Норинт, 1997. 1456 с.
- Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
- Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. 704 с.
- Вышеславцев Б. Русский национальный характер//Русский мир. Геополитические заметки по русской истории. М.: Русский мир, 2003. 864 с.
- Гаджиев К. С. Политическая наука. 2-е изд. М.: Международные отношения, 1995. 400 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991. 574 с.
- Кола Д. Политическая социология: пер. с фр. М.: Весь мир, 2001. 406 с.
- Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. Основы этики. Характер русского народа. М.: Политиздат, 1991. 368 с.
- Мавродин В. Происхождение русского народа. Л.: Ленинградский ун-т, 1978. 184 с.
- Малышева Д. Религиозный фактор в формировании и эволюции российской общности//Мировая экономика и международные отношения. 2003. № 1. С. 64-76.
- Милюков П. Н. Очерки истории русской культуры: в 3 т. М.: Прогресс, 1994. Т. 2. Ч. 1. 416 с.
- Новгородцев П. И. Сочинения//Библиотека духовного возрождения: в 20 т. М.: Раритет, 1995. Т. 4. 446 с.
- Опыт словаря нового мышления/под общ. ред. М. Ферро, Ю. Афанасьева. М.: Прогресс, 1989. 560 с.
- Политология. Энциклопедический словарь/сост. Ю. И. Аверьянов. М.: Московский коммерческий ун-т, 1993. 431 с.
- Сорокин П. А. Основные черты русской нации в двадцатом столетии//О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 463-489.
- Сумерки богов//Психоанализ и религия: моногр./сост. и общ. ред. А. А. Яковлева. М.: Политиздат, 1989. 398 с.
- Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. 510 с.
- Черкасов Л., Чернышевский Д. История императорской России от Петра Великого до Николая II. М.: Международные отношения, 1994. 448 с.
- Щупленков Н. О. Патриотизм -источник консолидации российского общества//Альманах современной науки и образования. 2013. № 1.