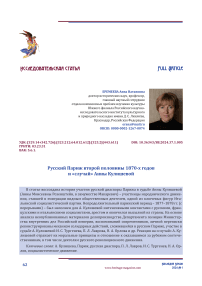Русский Париж второй половины 1870-х годов и «случай» Анны Кулишевой
Автор: Еремеева А.Н.
Журнал: Наследие веков @heritage-magazine
Рубрика: Антропология культуры
Статья в выпуске: 1 (37), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье воссоздана история участия русской диаспоры Парижа в судьбе Анны Кулишевой (Анны Моисеевны Розенштейн, в замужестве Макаревич) - участницы народнического движения, ставшей в эмиграции видным общественным деятелем, одной из ключевых фигур Итальянской социалистической партии. Непродолжительный парижский период - 1877-1878 гг. (с перерывами) - был наполнен для А. Кулишевой интенсивными контактами с русскими, французскими и итальянскими социалистами, арестом и окончился высылкой из страны. На основе анализа неопубликованных материалов делопроизводства Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи, воспоминаний современников, личной переписки реконструированы механизм солидарных действий, сложившийся в русском Париже, участие в судьбе А. Кулишевой И. С. Тургенева, П. Л. Лаврова, Н. А. Орлова и др. Реакция на «случай» А. Кулишевой отражает их моральные принципы и отношение к оказавшимся за рубежом соотечественникам, в том числе деятелям русского революционного движения.
А. кулишева, париж, русская диаспора, п. л. лавров, и. с. тургенев, н. а. орлов, социалистическое движение
Короткий адрес: https://sciup.org/170206249
IDR: 170206249 | УДК: [329.14+342.726]:[323.212:64.012.612]:[325.2](443.611) | DOI: 10.36343/SB.2024.37.1.005
Текст научной статьи Русский Париж второй половины 1870-х годов и «случай» Анны Кулишевой
Введение. История русского зарубежья полна сюжетов, персонажами которых являются видные представители культуры, науки, государственные и политические деятели. Анализ отдельных кейсов позволяет значительно разнообразить и углубить имеющиеся представления о жизни российской диаспоры, взаимоотношениях внутри нее, практиках коммуникации, добавить новые штрихи к биографии «действующих лиц».
В фокусе представленной статьи - парижский период биографии А. Кулишевой и участие в ее судьбе П.Л.Лаврова, И.С.Тур-генева, Н. А. Орлова и других представителей русского Парижа. Годы пребывания А. Кули-шевой во французской столице – 1877–1878 (с перерывами) - определяют хронологические рамки исследования, но не исключают экскурсы в предыдущий и последующий периоды.
Анна Кулишева (встречается также написание Кулишова, Кулешова), урожденная Анна Моисеевна Розенштейн, в браке Макаревич (28 декабря 1853 / 9 января 1854 (?) - 29 декабря 1925) - дочь купца, потомственного почетного гражданина, выпускница женской гимназии в Симферополе. В 1871–1873 гг. училась в политехническом институте Цюриха, участвовала в собраниях народнического кружка братьев Жебуневых, активно общалась с бакунистами. Вернувшись с мужем – дворянином Херсонской губернии П. М. Макаревичем, тоже «заразившимся» анархистскими идеями, – на родину, влилась в народническое движение на Юге России (кружки в Одессе и Киеве). Спасаясь от ареста, бежала во Францию. Позже получила медицинское образование в вузах Швейцарии и Италии, стала обладателем ученой степени, в то время редкой для женщин. Эволюция взглядов от анархизма к марксизму, активная общественная позиция, тесное взаимодействие с итальянскими политиками, прежде всего с А. Коста и Ф. Турати, сделали ее выдающейся фигурой в социалистическом и антифашистском движении Италии. Политическая и просветительская деятельность А. Кулишевой удостаивалась высокой оценки Ф.Энгельса, Г.Плеханова, М.Горького... В Милане, где жила Анна, с 1992 г. существует фонд “Anna Kuliscioff” - информационный, культурный и научный центр. В настоящее время проводятся разнообразные просветительские ме- роприятия, приуроченные к 100-летию со дня смерти А. Кулишевой (29 декабря 2025 г.). Ее имя увековечено в топонимике, монументальном пространстве, художественных произведениях, музейных экспозициях [8].
Количество работ (книг, статей, диссертаций) о роли и месте А. Кулишевой в социалистическом и феминистском движении, общественной, научной и культурной жизни Италии (в основном на итальянском и английском языках) исчисляется десятками (см. [7]). Большинство касается итальянского периода (с конца 1870-х до середины 1920-х гг.). Полноценная биография с учетом российских страниц и взаимодействия в течение всей жизни с российскими революционерами, деятелями науки, культуры, искусства до сих пор не написана. Парижский период жизни Анны также изучен недостаточно; особенно это касается ее контактов с соотечественниками, жившими во французской столице.
Упоминание об аресте А. Кулишевой в Париже и участии в ее судьбе И. С. Тургенева имеется в очерке П.Л.Лаврова, опубликованном в 1884 г. в журнале «Вестник народной воли» и перепечатанном в 1930 г. в сборнике «Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников» [14, с. 55], статье литературоведа, историка, педагога М. М. Клевен-ского в журнале «Голос минувшего» (1914) [11, с. 26]. Соратник Анны по народническому движению Л. Г. Дейч в биографическом очерке о ней, напечатанном в 1923 г. в Германии, а в 1925 г. – в СССР, упомянул о хлопотах И. С. Тургенева перед французским правительством об облегчении участи революционерки, «что ему и удалось». Подчеркивалось также, что И. С. Тургенев, обращаясь к французам напрямую, «не побоялся скомпрометировать себя в глазах русского посланника» [6, c. 229]. О роли П. Л. Лаврова и других соотечественников в парижских перипетиях Анны сказано не было. Текст Л. Г. Дейча существенно сократили, перевели на итальянский язык и поместили в миланский сборник памяти А. Кулишевой (1926) [26]. Ее парижская встреча с И. С. Тургеневым в версии Л. Г. Дейча буквально одной строкой упоминалась в отдельных трудах зарубежных авторов.
Интересно, что в обстоятельной статье С. П. Афанасьевой 1968 г. [2] – единственной в советской историографии, специально посвященной биографии Анны 1873–1892 гг., где реконструируется в том числе ее путь в эми-грацию,– пропущены и первый визит в Париж весной 1877 г., и взаимодействие с русской диаспорой. Вероятно, указанный выше труд Л. Г. Дейча (в статье имеется ссылка только на его статью «Южные бунтари»), а также парижские письма И. С. Тургенева, изданные в 1964 г. в серии «Литературное наследство» [17], были неизвестны С. П. Афанасьевой. Переписка П. Л. Лаврова, хранившаяся в амстердамском Международном институте социальной истории, будет опубликована только в 1974 г. [13]. Многочисленные документы Третьего отделения императорской канцелярии из фонда 109 Центрального государственного архива Октябрьской революции (ныне Государственный архив Российской Федерации – ГАРФ), в том числе донесения русского посла во Франции Н. А. Орлова, введенные в научный оборот С. П. Афанасьевой, «хранили молчание» по поводу каких-либо контактов А. Кулишевой с представителями русской диаспоры в 1877–1878 гг.
Американская исследовательница К. Ла-винья – автор книги «Анна Кулишева: от русского народничества к итальянскому реформизму» – в разделе «Французский эпизод» так же, как и С. П. Афанасьева, не упомянула весенний визит 1877 г. и не коснулась реакции проживавших в Париже соотечественников героини на ее арест [27, p. 116–125].
В документальных повестях 1980-х гг. о П. Л. Лаврове А. И. Володина и Б. С. Итенберга [3, c. 236–237] и С. С. Тхоржевского [25, c. 178– 179] имеются небольшие фрагменты о парижских контактах А. Кулишевой и П. Л. Лаврова, основанные на письмах последнего Г. А. Лопатину.
В статье современного специалиста по истории общественной мысли пореформенной России В. А. Китаева [10] парижская встреча А. Кулишевой и И. С. Тургенева рассматривается в связи с появившимся в мае 1878 г., почти сразу после их непродолжительного общения, тургеневским стихотворением в прозе «Порог». В. А. Китаев размышляет о мере воздействия А. Кулишевой на образ героини-революционерки, готовой на любую жертву.
Таким образом, реконструкция парижского периода жизни А. Кулишевой и ее взаи- модействий с русской диаспорой французской столицы проводится в представленной статье впервые.
Для понимания контекста изучаемых событий полезным было обращение к трудам по истории народнического движения, русского Парижа, биографиям его представителей.
В качестве источников использованы материалы делопроизводства Департамента полиции МВД Российской империи (ГАРФ. Ф. 102), личная переписка, воспоминания, публицистические сочинения современников. Справки и донесения, представленные в архивных делах, касаются непосредственно личности А. Кулишевой, а участие в ее судьбе «русских парижан» отразилось в источниках личного происхождения и публицистике. Особенно информативны в этом отношении письма П. Л. Лаврова и И. С. Тургенева. Использование компаративного, реконструктивного, биографического методов позволило выстроить хронологию событий и выявить причинно-следственные связи.
Русский Париж и его обитатели. Французская столица традиционно обладала особой притягательностью для российской интеллигенции; так было и в периоды революционных потрясений, и в мирные времена. Как справедливо отмечала историк науки Г. И. Любина, это определялось универсальностью и космополитизмом города: «здесь были востребованы и находили широкие возможности для развития и совершенствования любые умственные способности, могли быть удовлетворены различные культурные запросы» [18, c. 282].
И. Е. Репин, влившийся в парижскую колонию пенсионеров Российской Академии художеств в конце 1873 г., вспоминал: «Французская республика была еще очень молода, и я, живя там в это время, удивлялся полной свободе от всех виз и паспортов, а были еще воочию все действия коммунаров. <…> Вся страна представляла полную свободу веселья молодой жизни просвещенного народа» [22, c. 294–295].
В Париже жили русские теоретики и практики революционного движения, ученые, художники, писатели, студенты. В 1875 г. по инициативе Г. А. Лопатина и при поддержке И. С. Тургенева была образована «Русская читальня для неимущих студентов», ныне
Русская общественная библиотека имени И. С. Тургенева. Среди приглашенных в дом Виардо (где жил И. С. Тургенев) на «литературно-музыкальное утро» с участием певиц П. Ви-ардо, А. Н. Есиповой, писателей Г. И. Успенского, И. С. Тургенева, проведенное с целью сбора пожертвований на новое начинание, были скульптор М. М. Антокольский, художники И. Е. Репин, В. Д. Поленов, К. Е. Маковский, философ-позитивист, социолог, химик, профессор, душеприказчик А. И. Герцена Г. Н. Вырубов, российский посол князь Н. А. Орлов [20, c. 119–120].
Русские художники в Париже традиционно собирались в мастерской Н. Д. Дмитриева (Оренбургского). В конце 1877 г. по инициативе художника А. П. Боголюбова (внука А. Н. Радищева и будущего основателя художественного музея в Саратове) и при поддержке И. С. Тургенева было организовано «Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже». Членами общества стали 60 человек. Из вырученных от проведенной на открытии Общества лотереи средств 5 тысяч франков было отправлено в Россию для помощи русским раненым. Возглавил Общество посол Н. А. Орлов. Петербургский банкир, имевший контору в Париже, барон Г. О. Гинцбург – казначей Общества –«положил первый денежный фонд для составления капитала Общества», а в 1878 г. передал в пользование мастерскую умершего сына-художника на ул. Трезель, 17 [24, c. 450– 452]. Позже Г. О. Гинцбург предоставил для собраний Общества по вторникам свой дом на улице Тильзит, 18 [16, c. 75].
Центром художественной жизни и одновременно пространством коммуникации русской колонии был дом Виардо с его «четвергами» и воскресными вечерами. Личность И. С. Тургенева притягивала как магнит. «Доброта души его и всегдашняя готовность помочь ближнему, столь тесно связанные с богатой его натурой, известны каждому, но долг мой заявить всем, что не было из нас ни одного человека, который ушел от него неудовлетворенный помощью нравственною или материальною», – писал А. П. Боголюбов [24, c. 448].
«В Париж приехала Аня Розенштейн»: весна 1877 г. Обстоятельства появления Анны во французской столице кратко можно охарактеризовать следующим образом. Активная участница народнических объединений, в том числе кружка «Южные бунтари» (его членами были также упомянутый выше Л. Г. Дейч, В. И. Засулич и др.), предпринявшего попытку поднять на восстание крестьян в Чигиринском уезде Киевской губернии(см.: [21]), А. Макаревич, как сообщалось в донесении департамента полиции, «подлежала привлечению к 3 дознаниям – к общему делу о пропаганде в Империи, к делу об учрежденном студентами Новороссийского университета тайном кружке, делу о покушении на убийство с политическими целями дворянина Николая Гориновича 1» [5, л. 8]. В другом донесении подчеркивалось, что Одесское жандармское управление в течение нескольких лет не могло обнаружить место пребывания Анны и розыски были безуспешными: «Макаревич, проживающая в Киеве под именем Ивановой, успела в 1877 году скрыться за границу с паспортом, данным ей Александрой Косач» [4, л. 3–4]. Последняя была сестрой киевской знакомой Анны Елены Косач (будущей публицистки, родственницы профессора М. П. Драгома-нова, тети Леси Украинки). Елена по просьбе Анны получила заграничный паспорт на имя своей сестры. 14 апреля 1877 г. Анна пересекла российскую границу через Радзивиловскую таможню [2, c. 291].
В Париже она добралась до Латинского квартала, где традиционно селились русские, пришла на ул. Сен-Жак, 328 в съемную квартиру П. Л. Лаврова, который только въехал туда, вернувшись из Лондона, и попросила помочь найти место для ночлега. Со времени их предыдущей встречи прошло около четырех лет: в Цюрихе в 1873 г. П. Л. Лавров «толковал» с 19-летней студенткой политехнического института о математике, но при этом отмечал, что «она уже тогда была ревностной анархисткой» [15, c. 193].
Парижская встреча 1877 г. запечатлена П. Л. Лавровым в двух письмах своему соратнику Г. А. Лопатину. Член Генерального совета I Интернационала, переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык, Г. А. Лопатин в 1870 г. организовал побег П. Л. Лаврова из ссылки за границу. Они находились в постоянной переписке.
Первым было интригующее майское письмо (не датированное адресантом) без указания имени гостьи:
«Прекратил вчера письмо, потому что гостья помешала, которая болтала со мной до половины третьего. Я сам удивляюсь, как быстро усваиваю себе нигилистические приемы: вообразите: у меня ночевала женщина! (что скажет, что подумает о моей нравственности консьержка!) и еще молодая и бывшая тому три года назад очень хорошенькой, конечно - нигилистка и, к сожалению, бунтовщица. Вчера приехала в Париж и ночевать было негде вблизи: я и предложил. Отвел ей мою спальню, и она еще спит, а я сажусь работать. Что не случается в этом мире; ни за что губишь свою репутацию… Но оставляю эти нигилистические случайности и возвращаюсь к моему письму» [13, c. 451–452].
Вдовец почти 55-ти лет П. Л. Лавров, безусловно, воспринял визит молодой красивой (в этом сходятся все мемуаристы) женщины, хоть и не его последовательницы, а «бунтовщицы», как событие волнующее. В следующем письме1 П.Л.Лавров сообщал: «В Париж приехала Аня Розенштейн (бывшая; это о ней я писал), Ивановский2 и некоторые другие» [13, с. 454–455]. Разъяснений по поводу того, кто эта девушка, не последовало, так как Г. А. Лопатин ранее встречался с Анной в Цюрихе.
Другой информации о визите нашей героини в Париж весной 1877 г. пока обнаружить не удалось. Лето 1877 г. она провела в Швейцарии, в Лугано. В августе в доме Франчесско Пецца и его жены Марии Луизы - видных анархистов, последователей М.А.Бакунина (умершего год назад) - произошла ее встреча с итальянцем Андреа Коста, 26-летним ближайшим помощником М.А.Бакунина. Недельное знакомство дало начало пятилетней совместной жизни и революционной борьбе. Отношения, так и не скрепленные узами брака, увенчались рождением в 1881 г. дочери Андреины. Российские власти, не посвященные в детали, «поженили» их, о чем говорит, например, заго- ловок архивного дела 1898 г. «О розыске лиц по делам политического характера, подлежащих обыску и безусловному аресту эмигрантки Анны Моисеевой Макаревич, по второму мужу - Коста, урожденная Розенштейн, псевдоним Кулешова» [5].
Французская эпопея: ноябрь 1877 – май 1878 гг. Первым общим делом Анны и Андреа стала организация секций анархистского Интернационала во Франции. Для А. Коста из-за преследований после поражения восстания в провинции Беневенто в апреле 1877 г. деятельность в Италии была опасной, поэтому они сфокусировались пока на соседней стране. 11 ноября 1877 г. Анна приехала в Париж, где ее уже ждал Андреа [27, p. 20]. Прибыл во французскую столицу и известный анархист князь П. А. Кропоткин. Он вспоминал: «После беспощадного усмирения восстания Коммуны здесь начинало пробуждаться рабочее движение, и мне удалось принять в нем участие. Вместе с итальянцем Костой, несколькими французскими рабочими-анархистами и Жюлем Гедом с его товарищами, которые в то время еще не были узкопартийными социал-демократами и отрицали парламентскую деятельность, мы основывали первые социалистические группы» [12, с. 395]. Описал П.А. Кропоткин и свою встречу с И. С. Тургеневым, которой способствовал П. Л. Лавров [12, c. 396–399].
Зимой 1877-1878 гг. Анна и Андреа посетили несколько французских городов, в том числе Лион, где с 28 января по 8 февраля проходил рабочий конгресс. В российских полицейских документах отмечалось, что «Макаревич поселилась во Франции, где проживала под фамилией Кулишовой, познакомилась и близко сошлась с итальянскими подданными Занарделли и Коста, занимавшимися во Франции распространением социал-демократических идей» [5, л. 8].
Биограф А. Кулишевой К. Лавинья, ссылаясь на письма А. Коста, утверждает, что, вернувшись в Париж, пара собиралась покинуть Францию, но не сделала это из-за отсутствия средств. Они с нетерпением ожидали денежный перевод от матери Анны [27, p. 22]. Этим планам, однако, помешал арест.
После демонстрации в седьмую годовщину Парижской коммуны полиция активизировалась. В пятницу 22 марта были арестованы итальянцы-анархисты А. Коста, Т. Занарделли, Л. Набруцци, 23 марта – А. Кулишева (именно так она представилась, и эта фамилия 1 была впервые задокументирована в полицейских протоколах), 24 марта – французский анархист Педуссо.
28 марта русский посол во Фран-цииН.А.Орлов направил на имя шефа жандармов Н. В. Мезенцева следующее письмо: «В числе социалистов, арестованных здешнею полициею 10/22 сего месяца на квартире итальянца Коста, бывшего секретаря известного Бакунина, находится особа, именующая себя Анной Ивановной Кулишевой, фотографическая карточка которой при сем прилагается. На предварительном допросе в префектуре полиции г-жа Кулишева заявила, что она русская подданная, была замешана в процессе нигилистов в Москве, муж ее Кулишев был сослан в Сибирь по приговору суда; сама же она также подвергалась судебному приговору, но успела выехать за границу с паспортом, найденным у нее... Паспорт этот выдан г. киевским губернатором 14-го апреля на имя девицы Александры Косач». Н.А.Орлов сообщал, что префекту необходимы справки о том, действительно ли «г-жа Кулишева выехала за пределы Российской Империи и какова ее связь с девицей Косач» [2, c. 291–292]. Как видим, Анна старательно запутывала следователей.
Приведем фрагмент позже составленной справки, сохранившейся в документах Третьего отделения: «Анна Макаревич, под псевдонимом Кулишевой, известна своими сношениями с более выдающимися русскими эмигрантами как: Лавров, Ткачев, Лопатин, Кропоткин и др., а также с заграничными революционерами. В марте 1978 г., во время арестований в Париже итальянцев Цанарделли и Коста она была арестована. Коста был в квартире Макаревич, при обыске у нее найдено много русских писем и заряженный револьвер» (Цит. по: [2, с. 292]).
По горячим следам П.Л.Лавров сообщил в Женеву Г. А. Лопатину: «Новости: в ночь с четверга на пятницу арестованы: Кулешова (чуть ли не у Косты на квартире, но это мне не сказали ясно, и это предположение - строго между нами) и Занарделли, на другой день Набруцци. Обвинение в составлении интернациональной секции. <.> Князь [П.А.Кро-поткин. – А. Е.] поспешил сжечь у себя разные письма, но у Кулешовой должны были взяты его письма и разные бумаги, компрометирующие некоторых французов. Опасаюсь, что у нее взяли и мою “Коммуну” Лиссагаре2. Князь бегает, хлопочут Ткачев… чтобы дали им с Кулешовой свидание; я обещал хлопотать у Вырубова, чтобы ее выпустили на поруки. Вероятно, весь этот народ вышлют из Франции» [13, c. 519]. Упомянутые в данном письме русские эмигранты знали Анну еще по Цюриху. Обратим внимание на деликатность изложения П. Л. Лавровым эпизода ареста Анны предположительно в доме А. Коста: он боялся распространения слухов, компрометирующих молодую женщину.
В ответном письме П. Л. Лаврову от 28 марта Г.А.Лопатин интересовался: «Каков был успех хлопот Вырубова и выпустили ли Кулешову?» и удивлялся, что П.А. Кропоткина «не прихватили за компанию» [13, c. 522]. Последний утверждал, что «избежал ареста только вследствие ошибки. Полиция искала Левашова и пришла арестовать одного русского студента с очень похожей фамилией. Я уже прописался под моим настоящим именем и прожил в Париже еще около месяца» [12, c. 396]. 30 марта П. Л. Лавров сообщил Г. А. Лопатину, что «о Кулешовой у следователя хлопотали: Тургенев, Вырубов, Яблочков (это я специально направил, вспомнив о нем), госпожа Корф и разные другие. <…> Вчера ей дозволили видеться с адвокатом (Энгельгард - член и временно председатель парижского муниципального совета, радикальная знаменитость), что вышло – не знаю еще. <.> Арестовали намеренно только итальянцев, остальных случайно (Кулешову) по близости или (Педуссо) чтобы были показания. У Кул[ешов]ой найдено, говорят, много бумаг» [13, c. 526].
Как видим, П. Л. Лавров подключил к помощи Анне и лично не знавших ее авторитетных людей - И. С. Тургенева и П. Н. Яблоч- кова – изобретателя электрической дуговой лампы (что было официально зарегистрировано во Франции), с успехом продемонстрированной на выставке 1876 г. в Лондоне. Личность «госпожи Корф» идентифицировать не удалось.
В защиту арестованных выступили французские социалисты. 27 марта в газете «Эгалите», выходившей под редакцией Ж. Геда, был опубликован коллективный протест, который подписало более 90 человек. Протесты печатались и в апрельских номерах. А. Кулишеву сравнивали с В. Засулич, о недавнем покушении которой на Ф. Ф. Трепова знали далеко за пределами России [27, p. 23].
Примерно через пять недель после ареста - 25 апреля 1878 г.- А. Кулишева, Т. Занар-делли и Л. Набруцци были освобождены; при этом их обязали покинуть Францию.
«Аню в четверг выпустили до вторника (хлопочут, чтобы дозволили до будущего воскресенья), а затем высылают с провожатыми. В пятницу утром она была у меня»,– писал П. Л. Лавров Г. А. Лопатину 28 апреля [13, c. 545].
Желание Анны во что бы то ни стало остаться в Париже до «будущего воскресенья» было связано с тем, что суд над Коста и Педус-со, которым грозил реальный срок, должен был состояться в начале мая. Ей разрешили наблюдать за процессом с галерки, но не участвовать в нем в качестве свидетеля. Немедленно после суда А. Кулишеву в сопровождении полиции доставили на франко-швейцарскую границу. В письме, направленном Н. А. Орловым начальнику Третьего отделения Н. В. Мезенцеву, сообщалось: «Анна Макаревич (Кулишева) выслана из пределов Франции административным порядком и прибыла в Женеву 6 мая с. г.» (Цит. по: [2, с. 292]).
В этот же день, 6 мая 1878 г., И. С. Тургенев написал литературному критику П. В. Анненкову в Брюссель письмо, которое содержит ценную информацию, касающуюся освобождения нашей героини, ее личной встречи с писателем и, наконец, депортации в соседнюю Швейцарию, а не в Россию:
«Любезнейший друг Павел Васильевич,
Ан будь по-вашему! Приезжайте к 20-му (но не позже). К тому времени и русская выставка поспеет, и ноги мои поправятся. <…> Что же касается до г-жи Кулешовой Елены, коей настоящее имя Анна Михайловна1 Макаревич, – то это молодая, недурная, очень ограниченная и очень бойкая бакунистка или, как теперь говорят, «вспышечница» (от слова «вспышка»), проповедующая, что не надо учить, а подымать и зажигать народ и т. п. Говорит она очень хлестко, как любой русский журнал, – и, я полагаю, равно готова на глупость и на самопожертвование. Явление недюжинное, но – не необыкновенное. Я совсем ее не знал, но по просьбе Лаврова и др. поручился за нее перед juge d’instruction2 в том, что она не убежит (что, однако, не помешало ей посидеть в предварительной тюрьме) – а когда распространился слух о выдаче ее нашему правительству, написал кн. Орлову письмо, в котором убеждал его как патриот, не совершать подобной глупости, что и было исполнено. Она приезжала благодарить меня, мы побеседовали, нового я ничего не узнал и не увидел (сей тип известен Вам) – а теперь она, кажется, уехала. Журналы рассказывают, будто я присутствовал рядом с ней на процессе Коста. Но я, конечно, там не был; вероятно, за меня приняли Лаврова, который также сед и также бородат, как я. Коста - рьяный и энергичный итальянец - бывший секретарь Бакунина. С Кулешовой он, как говорит Писемский, проделал “любви пантомин” 3 – что не совсем согласно с повадкой нынешних нигилисток…» [23, c. 99–100].
Информация об А. Кулишевой в данном письме – это ответ на вопрос П. В. Анненкова в послании И. С. Тургеневу от 23 апреля (5 мая) 1878 г.: «Вы были ассистентом и чем-то вроде покрова божией матери у фальшивой госпожи Кулишевой на суде Интернационалов. Непременно напишите, кто эта ложная Кулишева по-настоящему, и что в ней сидит за чертик – красив или только шаловлив, и что за фигуру делает ее сообщник, итальянец» [1, c. 85].
Риторика гостьи была воспринята И. С. Тургеневым как ничем особенно не выдающаяся, типичная для «вспышечниц». Однако ее внешний вид (не только природная привлекательность, но и то, что Анна всегда была безукоризненно одета и причесана), а также отношения с А. Коста существенно отличали А. Ку-лишеву от тургеневских героинь-нигилисток.
Как видим, И. С. Тургенев прояснил в письме собственную роль в хлопотах об А. Кулишевой, а также роль посла Н. А. Орлова. П. Л. Лавров позже уточнял, что И. С. Тургенев «самым усердным образом хлопотал о г-же Кулешовой, арестованной в Париже по поводу устройства там секции Интернационала, и которую, как ходили слухи, имелось в виду по окончании следствия выдать русскому правительству. Он обратился прямо к Орлову и доставил мне немедленно телеграмму, полученную от последнего, о том, что русское посольство и не думало хлопотать о выдаче Кулешовой России» [14, c. 55].
Действия И. С. Тургенева соответствовали его обычной практике помощи соотечественникам, в том числе деятелям революционного движения. Как писал М. М. Клевенский, «Тургенев, не одобрявший революционной деятельности вообще, и террор в частности, мог, отдавая должное революционерам как людям, преклоняться перед их личностями» [11, c. 25]. Историк народнического движения Б. С. Итенберг отмечал, что писатель материально поддерживал журнал П. Л. Лаврова «Вперед», издававшийся в Цюрихе, а затем в Лондоне, оказывал всяческую помощь революционерам-эмигрантам. Общение с ними позволяло создавать правдивые образы своих литературных героев [9]. Влиятельные лица русской колонии Парижа, которых И. С. Тургенев привлекал к помощи кому-либо, не отказывали пользовавшемуся большим уважением писателю.
Поведение посла Н. А. Орлова в полной мере соотносилось с его политическими взглядами: он был последовательным противником крепостного права, сочувствовал оппозиционным русскому царизму движениям и их отдельным представителям, что многократно отмечали современники и позже – исследователи (см., напр., [19]).
Описанные события совпали по времени с подготовкой и началом работы в Париже Всемирной выставки 1878 г. (о ней писал И. С. Тургенев в процитированном выше письме П. В. Анненкову). Центр города, к восторгу парижан и многочисленных гостей, освещался дуговыми лампочками П. Н. Яблочкова. Большой интерес вызвали экспонаты открытого немного с запозданием русского отдела. Русские художники, в том числе жившие в Париже, были удостоены медалей.
Наша героиня застала лишь первые дни выставки, открывшейся 1 мая. Оказавшись в Женеве, А. Кулишева попыталась добиться разрешения вернуться во Францию, где отбывал наказание А. Коста, но 17 июня 1878 г. получила официальный отказ [27, p. 25]. Некоторое время Анна жила в Лугано у друзей Андреа супругов Филиппо и Мариэтты Маццотти, интенсивно учила итальянский язык, новый для нее, в отличии от французского и немецкого, а в конце сентября переехала во Флоренцию, где вскоре была арестована за пропаганду социалистических идей [28, p. 28–29]. Начался итальянский период жизни Анны Кулишевой.
Заключение. Одним их резонансных событий в жизни русского Парижа второй половины 1870-х гг. стал «случай» Анны Кули-шевой. Участница народнического движения А. Макаревич, урожденная Розенштейн, спасаясь от преследования за революционную деятельность, оказалась в Париже. Краткий визит весной 1877 г. отмечен ее встречей с П. Л. Лавровым. Полугодовое пребывание во Франции (ноябрь 1877 – май 1878 гг.) было наполнено активной деятельностью (совместно с итальянскими, французскими и русскими единомышленниками), приведшей к аресту. Именно в Париже впервые была официально задокументирована фамилия «Кулишева», маркирующая Анну как защитницу интересов угнетенных, ныне занимающая почетное место в истории итальянского социалистического движения.
Участие русской диаспоры Парижа в судьбе молодой революционерки отразилась, главным образом, в источниках личного происхождения. Особенно информативны письма П. Л. Лаврова и И. С. Тургенева. Инициатором борьбы за освобождение арестованной был П. Л. Лавров; он вовлек в этот процесс таких известных представителей русского Парижа, как И. С. Тургенев, П. Н. Яблочков, Г. Н. Вырубов. Ключевой фигурой стал, безусловно, И. С. Тургенев, взаимодействовавший как с французскими властями, так и с русским послом Н. А. Орловым, известным своими либеральными взглядами.
«Случай» Анны Кулишевой отразил алгоритм солидарных действий в русском Париже, показал сочувственное отношение его представителей к деятелям русского революционного движения. За Анну вступились и те, кто знал ее со времен студенчества в Цюрихе в начале 1870-х гг., и те, кто слышал о ней впервые. Именно поддержка соотечественников в большей степени способствовала освобождению А. Кулишевой от преследования французских и российских властей, небольшой отсрочке высылки за пределы Франции, давшей возможность присутствовать на суде над А. Коста. Депортация в начале мая 1878 г. стала окончанием парижского периода жизни А. Кулишевой.
Anna N. EREMEEVA
Dr. Sci. (National History), Prof., Southern Branch, Likhachev Russian
Russian Paris in the Second Half of the 1870s and the “Case” of Anna Kuliscioff
Список литературы Русский Париж второй половины 1870-х годов и «случай» Анны Кулишевой
- Анненков П. В. Письма к И. С. Тургеневу: в 2 кн. Кн. 2. 1875–1883 / Подгот. Н. Н. Мостовская, Н. Г. Жекулин. СПб.: Наука, 2005. 421 с.
- Афанасьева С. П. К вопросу о революционной деятельности Анны Кулишевой в 1873–1892 годах // Россия и Италия: из истории русско-итальянских культурных и общественных отношений / отв. ред. С. Д. Сказкин. М.: Наука, 1968. С. 286–299.
- Володин А. И., Итенберг Б. С. Лавров. М.: Молодая гвардия, 1981. 319 с.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. Оп. 78. Д. 912.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. Оп. 226. Ч. 6. Д. 168.
- Дейч Л. Г. Бунтари: Анна Розенштейн-Макаревич // Дейч Л. Г. Роль евреев в русском революционном движении. 2-е изд. М., Л.: Гос. изд-во, 1925. С. 216–230.
- Еремеева А. Н. Анна Кулишева в истории России и Италии: современное состояние, перспективы исследования и репрезентации темы // Культурологический журнал. 2016. № 2 (24). С. 3.
- Еремеева А. Н. «Русские итальянки» – борцы за мир и равноправие: выставка, посвященная Анне Кулишевой и Анжелике Балабановой в миланском музее Рисорджименто // Наследие веков. 2016. № 1. С. 91–104.
- Итенберг Б. С. Иван Тургенев и Петр Лавров // Вопросы литературы. 2006. № 6. C. 198–225.
- Китаев В. А. И. С. Тургенев и русские революционеры (1878–1883 гг.) // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2018. № 4. С. 60–67.
- Клевенский М. М. И. С. Тургенев и семидесятники // Голос минувшего. 1914. № 1. С. 5–41.
- Кропоткин П. Записки революционера / предисл. и прим. В. А. Твардовской. М.: Московский рабочий, 1988. 544 с.
- Лавров. Годы эмиграции: архивные материалы в 2 т. / cост., прим., вступ. ст. Б. Сапир. Т. 1: Лавров и Лопатин (Переписка 1870–1883). Dordrecht, Boston: Reidel publ., 1974.
- Лавров П. Л. Тургенев и развитие русского общества // И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников / cобр. и коммент. М. К. Клеман; ред. и введ. Н. К. Пиксанова. М., Л.: Аcademia, 1930. С. 15–88.
- Лавров П. Народники-пропагандисты. 1873–1877. Л.: Колос, 1925. 603 с.
- Лизунов П. В. Банкирский дом «И. Е. Гинцбург» и его владельцы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. 288 с.
- Литературное наследство. Т. 73: из парижского архива И. С. Тургенева / ред. А. Н. Дубовиков, И. С. Зильберштейн. Кн. 2: Из неизданной переписки. М.: Наука, 1964. 581 с.
- Любина Г. И. Русская научная эмиграция XIX века в Париже: общий взгляд и уроки // Вопросы истории естествознания и техники. 2002. Т. 23. № 2. C. 281–299.
- Нифонтов А. С. Письма Н. А. Орлова о России в 1859–1865 годах // Вопросы истории. 2008. № 8. С. 136–148.
- Олесич Н. Я., Самуйлова И. А. Роль И. С. Тургенева в создании общественных очагов русского мира в Париже // Клио. 2019. № 2. С. 117–124.
- Пелевин Ю. Южные бунтари и «Чигиринский заговор» // Российская история. 2014. № 1. С. 130–150.
- Репин И. Е. Далекое близкое / ред., вступ. ст. К. Чуковского, коммент. А. Ф. Коростина и Л. Чуковской. 3-е изд., испр. и доп. М., Л.: Искусство, 1949. 555 с.
- Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Соч.: в 12 т. Письма: в 18 т. / редкол.: М. П. Алексеев (гл. ред.) и др. Т. 16. Кн. 1. 1878. М.: Наука, 2015. 642 с.
- Тургенев в последние годы жизни: из воспоминаний и писем А. П. Боголюбова, 1873–1883 / публ. Н. В. Огаревой // Литературное наследство. 1967. Т. 76. С. 441–482.
- Тхоржевский С. С. Испытание воли: повесть о Петре Лаврове. М.: Политиздат, 1985. 302 с.
- Deutsch L. I primi anni e la prima propaganda della “Russa dai capelli d’oro” // Anna Kuliscioff – 29 dicembre 1925, in memoria, Milano: Enrico Lazzari tipografica, 1926. Р. 341–346.
- LaVigna C. Anna Kuliscioff: From Russian Populism to Italian Reformism, 1873–1913. New York: Garland, 1991. 245 с.
- Martelli M. Andrea Costa e Anna Kuliscioff. Roma: Edizioni Paoline, 1980. 150 с.