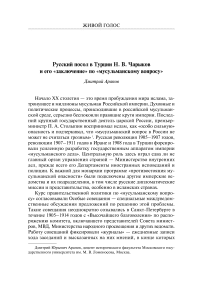Русский посол в Турции Н. В. Чарыков и его «заключение» по «мусульманскому вопросу»
Автор: Арапов Дмитрий Юрьевич
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Живой голос
Статья в выпуске: 2, 2002 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911794
IDR: 14911794
Текст статьи Русский посол в Турции Н. В. Чарыков и его «заключение» по «мусульманскому вопросу»
помещались, как правило, итоговые протоколы. Деятельность совещаний стимулировала появление ряда разнообразных материалов по исламской тематике — записок, заключений, обращений, проектов, прошений и справок. Все эти материалы готовились и составлялись чиновниками, духовными лицами и учеными-экспертами, а также принимались общественными организациями как по «специальному поручению», так и по собственной инициативе. Публикуемый документ — это датируемое маем 1911 года «заключение» по «мусульманскому вопросу» русского посла в Турции в 1909–1912 годах Николая Валериановича Чарыкова. «Заключение» было ответом на «доверительную» просьбу российского МИДа проанализировать итоги происходившего в январе 1910 года Особого совещания по «выработке мер для противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Приволжском крае».
Автор «заключения» родился в 1855 году в старинной дворянской семье, имевшей, как многие фамилии русской знати, тюркское происхождение 2. Выпускник Императорского Александровского (б. Царскосельского) лицея (1875), он вначале стажировался в Московском Главном архиве МИДа, где приобрел вкус к выявлению и публикации редких исторических материалов и документов 3. В 1876 году по распоряжению канцлера князя А. М. Горчакова начинающий дипломат был причислен к петербургской канцелярии МИДа, но его пребывание там на время прервала русско-турецкая война 1877–1878 годов. Вольноопределяющийся Лейб-гвардии Гусарского полка Чарыков с честью прошел Балканский поход, был тяжело ранен и «за отличие в бою» без сдачи экзаменов произведен в офицеры 4. После нескольких лет петербургской службы последовало его назначение чиновником «по дипломатической части» при генерал-губернаторе Туркестана, но фактически он даже не вступил в эту должность. Проявив себя «с самой похвальной стороны» в Мерв-ской экспедиции 1885 года, Николай Валерианович по личному выбору императора Александра III стал первым главой Императорского Политического Агентства в находившейся под российским протекторатом Бухаре (1886–1890) 5. Вслед за успешными дипломатическими миссиями в Турции, Болгарии и Германии важный этап в карьере Чарыкова — пост министра-резидента при папском престоле (1897–1900). В начале ХХ столетия Николай Валерианович возглавлял русские посольства в Сербии (1900–1905) и Нидерландах (1905–1907).
В 1907 году гофмейстер 6 Чарыков снова в Петербурге, где он, заняв должность товарища министра иностранных дел, старался вписаться в сложившийся после первой русской революции режим «третьеиюньской монархии». В петербургских салонах и высшем свете он котировался тогда как один из наиболее реальных кандидатов на замещение в перспективе места главы внешнеполитического ведомства империи. Но последующий ход событий принял иной оборот. Заметную роль, видимо, сыграли, с одной стороны, необходимость обновить руководство посольства в Стамбуле, где после начала младотурецкой революции 1908 года условия для деятельности русской дипломатии резко усложнились, а с другой — несомненное желание премьера Столыпина «устроить карьеру» своего свояка С. Д. Сазонова (они были женаты на родных сестрах Анне и Ольге Нейдгардт) 7. Итогом очередного раунда бесконечной российской борьбы за «кресло наверху» явилась смена состава в руководстве МИДа: Сазонов стал сначала товарищем министра, а с 1910 года и министром иностранных дел. Чарыков же летом 1909 года оставил Петербург и возглавил посольство в Турции 8.
Со времени Московского царства отношения с державой Османов имели первостепенное значение для российского государства. Русскими послами в Стамбул назначались, как правило, опытные и искушенные в дипломатии и политике деятели. Многие из них и до, и после своей миссии при султанском дворе занимали высокие посты в российской имперской иерархии (П. А. Толстой, И. И. Неплюев, А. И. Румянцев, М. И. Кутузов, Н. П. Игнатьев и др.). Н. В. Чарыков вполне естественно занял место в их ряду.
По мнению историков, Николай Валерианович развил в Стамбуле активную деятельность, стремясь наладить отношения с новыми младотурецкими правителями, сблизить внешнеполитические позиции Российской и Османской империй 9. В своих письмах и депешах из турецкой столицы того времени Чарыков освещал актуальные проблемы жизни и политики Турции и сопредельных ей стран Европы и Азии и в том числе постоянно уделял внимание знакомому ему еще по Бухаре «мусульманскому фактору».
Посольская миссия Николая Валериановича в Стамбуле оборвалась весной 1912 года при драматических для него как кадрового дипломата обстоятельствах, связанных с задачей обеспечения для российских судов гарантированного выхода из Черного моря в Средиземное. Борьба за контроль над проливами Босфор и Дарданеллы являлась главным стержнем российской политики в «восточном вопросе»; достижение этой цели было мечтой большинства русских самодержцев и заветным желанием последнего из них, императора Николая II10. Зная все это, Чарыков решил рискнуть и попробовать реализовать навязчивую геополитическую идею Российской империи. Резкую активизацию действий Николая Валериановича в этом направлении стимулировали и личные амбиции. После убийства в сентябре 1911 года в Киеве Столыпина положение Сазонова в МИДе, казалось, пошатнулось, в «высших сферах» стали усиленно предрекать его скорую отставку. В этой ситуации шансы возможного претендента на пост главы МИДа (а Чарыков, несомненно, считал себя достойным занять это место) должны были быть подкреплены каким-то крупным внешнеполитическим успехом. Так созрела его решимость предпринять дипломатическую акцию, вошедшую в историю отечественной внешней политики под названием «демарш Чарыкова».
В октябре 1911 года Чарыков, действуя формально по своей частной инициативе и лично только от своего имени, попытался добиться от турецких властей признания за Россией преимущественного права на свободу действий в районе проливов. В благодарность за это он обещал турецкому правительству реализовать в дальнейшем комплекс мер по расширению экономического и политического сотрудничества между обеими державами. После некоторых колебаний Турция отвергла предложения Чарыкова. Против какого-либо изменения статуса проливов в пользу России резко выступили другие европейские державы, не захотели пойти на эту меру и русские союзники по Антанте, Англия и Франция. В условиях возникшего дипломатического кризиса Сазонов дезавуировал действия Чары-кова, заявив, что Россия вопроса о проливах вообще не поднимала 11. Таким образом, «демарш» Николая Валериановича закончился полной неудачей, в марте 1912 года он был отозван из турецкой столицы, и его дипломатическая карьера была бесповоротно сломана. По словам П. Н. Милюкова, царские власти, пожертвовав своим послом в Турции и стараясь как-то соблюсти внешние приличия, обосновали отъезд Чарыкова в Россию его назначением в сенаторы 12. В Стамбул Николай Валерианович снова вернулся уже эмигрантом после 1917 года, здесь же он провел последние годы своей жизни и скончался в 1930 году.
В истории отечественной внешней политики фигура Чарыкова почти забыта, деятельность этого видного русского дипломата, к сожалению, практически не изучена. Между тем сохранились его ценные исторические публикации, вышли на английском языке мемуары, по различным архивным фондам страны разбросаны многочисленные депеши и письма, посылавшиеся Николаем Валериановичем в Россию из различных стран Европы и Азии. Все эти материалы ждут своих будущих исследователей.
«Доверительное» послание Чарыкова в МИД 13 — это по сути своей аналитическое обозрение происходивших тогда на Востоке духовных и политических процессов. В этом документе нашли свое отражение присущие русским имперским верхам стереотипы восприятия реальных и фантомных угроз настоящему и будущему монархии Романовых. Следует учитывать, что высокопоставленный сановник империи Чарыков отлично знал правила игры в «высших сферах» и, несомненно, старался подыграть настроениям и фобиям петербургских читателей своего «заключения», среди которых могли быть и Столыпин, и царь Николай II. Сам же Николай Валерианович, как это видно из его слов, в целом выступал за достаточно гибкий курс имперской политики по отношению к исламу. Не отрицая в случае необходимости применения «сдерживающих мусульманство» мер, он все же считал более действенным путь «европейского культуртрегерства» и именно с его практической реализацией связывал будущее «мирное сожительство» Востока и Запада.
Российское ИМПЕРАТОРСКОЕ
Посольство в Константинополе № 124
Дел
10 Мая 1911 г.
Копия Доверительно
В Первый Департамент
Министерства Иностранных
Имев честь получить доверительное отношение Первого Департамента Министерства Иностранных Дел 14 от 17 Января с. г. за № 34, считаю долгом изложить нижеследующее мое заключение по содержанию журнала происходившего в Январе минувшего года Особого междуведомственного Совещания по выработке мер для противодействия татарско-мусульманскому влиянию в Приволжском крае15.
Хотя задача Совещания была ограничена географически лишь некоторыми внутренними губерниями ИМПЕРИИ, задача эта подлежит, однако, несомненно обсуждению и с той, более широкой точки зрения, которая соответствует сфере ведения Министерства Иностранных Дел.
Причиной сему являются следующие, указанные Совещанием, обстоятельства: 1) роль в рассматриваемом вопросе Турецкого Правительства и отдельных турецких духовных, публицистических, педагогических и политических деятелей и 2) роль «панисламизма», т. е. философского и политического учения, зародившегося вне пределов ИМПЕРИИ и касающегося интересов не только России, но и некоторых других Великих Держав, в особенности Франции и Англии.
-
1) По отношению к Турции журнал Особого Совещания отмечает вполне правильно <…> духовную связь, существующую издавна и непрерывно между татарами Крымского полуострова и Турцией, и стремление интеллигентного элемента этих татар добиваться просвещения в Константинополе, а также в Каире, в общении с возрождающимися мусульманскими политическими организмами 16.
Таковыми в настоящее время являются, прежде всего, Оттоманская Империя, только-что преобразовавшая коренным образом, на либеральных началах, свой государственный строй, затем Египет и отчасти Англо-Индия, где мусульмане добиваются политических прав и, наконец, Персия, где они уже осуществили полный насильственный государственный переворот 17.
С этой точки зрения те факты из внутренней жизни русских подданных мусульман, которые составили предмет обсуждения Совещания, приходится рассматривать не только, как местные и обособленные явления, но и как частный случай нового культурного движения, обнаруживающегося в большинстве государств с мусульманским населением, при чем само это движение является частью еще более крупного исторического события — возрождения Востока 18.
Едва ли можно рассчитывать на успех борьбы с такого рода мировым культурно-историческим процессом посредством даже самых строгих местных законодательных и административных мер.
Помешать возрождению Востока, приостановить это возрождение было бы не под силу не только нашему Правительству, но и совокупным усилиям всех ныне существующих государств христианской культуры. Но если нельзя ни остановить, ни даже ос- лабить этот процесс, то нельзя ли по крайней мере его обезвредить, придав ему направление, не противоречащее жизненным интересам упомянутых государств.
Вот это тот общий вопрос, на рассмотрение и решение которого должно быть теперь направлено и действительно невольно направляется напряженное внимание как Русского Правительства, так и Правительств Франции, Англии и даже Германии. Последнюю вопрос возрождения Востока заинтересовал той своей стороной, которая носит название «желтая опасность» и которая заключается в возможности культурного и даже военного соперничества желтокожих обитателей Азии с народами белой расы. Еще не забыта символическая картина Императора Вильгельма, призывавшая народы Европы сплотиться вокруг Германии для обороны их священнейших приобретений, против разрушительной грозы, надвигающейся с Дальнего Востока 19.
Но не эта сторона вопроса составляет предмет суждений Особого Совещания: оно касается лишь доли общего вопроса о Паназиатиз-ме, а именно тех его элементов, которые известны под названием Панисламизма и Пантюркизма, т. е. опасности, угрожающей тем европейским государствам, которые считают в числе своих подданных, в Метрополии или в колониях, значительное число мусульман разных народностей, или, в частности, народностей, этнографически близких Османским Туркам 20. Опасность эта проявляется в двух видах: 1) означенные подданные, пользуясь равными политическими правами с прочими гражданами, стремятся к религиозному и культурному объединению на автономных началах под главою высшего духовного лица, совершенно независимого от местного Правительства в управлении делами веры и школ, как это происходит в России. Это стремление представляет грозную опасность для Русского Государства <…>, увеличивающуюся тем, что теперешняя мусульманская печать проповедует сближение с Турцией всех единоверцев на почве верности Халифу — Турецкому Падишаху 21, увлекаясь даже мечтой об образовании всемусульманского государства от Желтого до Средиземного моря <…>
-
2) В отношении преимущественно Франции и Англии мусульманские подданные, лишенные в колониях тех политических прав, которые присвоены гражданам метрополии, добиваются таковых прав для достижения политического самоуправления, а затем и политического отторжения, представляющего прямую опасность для целости названных государств; означенная опасность усиливается стремлением мусульман-подданных различных государств — сближаться
друг с другом и помогать друг другу в борьбе с христианским владычеством на почве или общемусульманского религиозного единства (чистый или религиозный панисламизм), или ища опоры в единственном сильном независимом мусульманском государстве — Турции (панисламизм политический).
Здесь не место заниматься взаимными отношениями «желтой опасности» и панисламизма. Может быть, для борьбы с первой было бы крайне важно для христианских государств заручиться содействием своих белых, хотя и мусульманских собратьев, имеющих общие с ними, глубокие расовые и вероисповедные корни. Если же против христианских государств ополчатся сообща языческие желтые народы Азии и те народы белой и иных рас, которые исповедуют мусульманство, то опасность для христианских государств значительно возрастет 22.
Эти соображения, казалось бы, необходимо иметь в виду при обсуждении отдельных мероприятий, направленных к ограждению тех государственных интересов, которым угрожают панисламизм или пантюркизм: желательно, чтобы эти меры не создали между христианами и мусульманами непримиримой вражды и непроходимой пропасти.
Возвращаясь к предмету суждения совещания, нельзя не заметить, в виду вышеизложенного, что вопрос о мерах к ограждению интересов Русского Государства от панисламизма и пантюркизма и от вредного влияния проповедующих эти учения агитаторов <…> должен бы составить предмет очень серьезного, хотя бы и доверительного, обмена мыслей, по крайней мере между Россией, Францией и Англией. Такой обмен мыслей мог бы привести к выработке названными Державами общеполитических мероприятий, как то, например, совместного воздействия на Оттоманское Правительство в видах прекращения или ограничения его агитаторской панисламистской или пантюркистской деятельности.
Можно было бы подумать и о надлежащем воздействии на бесспорный духовный центр всемирного мусульманства, святые места Мекки и Медины, посещение которых (хадж) играет самую крупную роль в поддержании и развитии чувства солидарности между всеми мусульманами земного шара.
Вопрос о хадже не затронут Совещанием, тем не менее думается, что ему следовало бы обсудить и те частные и административные меры, которые могли быть приняты Русским Правительством и русскими общественными организациями для возможно полезного воздействия на этот элемент духовной жизни русско-подданных мусульман.
Наше Правительство, как известно, относится далеко небезучастно к совершению хаджа не только нашими подданными, но и мусульманами прилегающих к России Среднеазиатских государств, пользующихся русскими железными дорогами и пароходами для отправления в Мекку23. Наше Правительство заботится о безопасности, удобстве, дешевизне и санитарном обеспечении хаджа и с этой целью, между прочим, организовало и допустило целую систему льготных пароходных сообщений через Константинополь, при деятельном участии попутных русских консульских учреждений 24.
Что же касается общего характера мер, могущих оградить Русское Государство от вредных последствий панисламизма и пантюркизма, то, по моему убеждению, цель эта может быть достигнута, главным образом, путем приобщения русско-подданных мусульман к русской культуре, и в этом отношении я вполне разделяю заключение Особого Совещания <…>.
Я даже думаю, что в приобщении не только русских, но и всех мусульман и даже народов желтой расы к современной европейской культуре, кроется главный способ и главная надежда мирного разрешения общего мирового процесса возрождения Востока.
Конечно, считать современную европейскую культуру за культуру окончательную и всечеловеческую, может быть, не имеется достаточных отвлеченных оснований, однако, исторически выясняется, что современное возрождение Востока принимает именно форму усвоения народами Востока западной культуры. Передовой в этом отношении народ — Японский — является тому самым характерным примером. Турция вступила на путь новейшей панисламистской и пантюркской пропаганды, на проявление коей указывает журнал Особого Совещания, после введения у себя парламентского режима по самому демократическому западноевропейскому образцу25. Персия пошла в этом отношении еще дальше, вверив законодательную власть даже не двум палатам, а всего лишь одной. Мусульмане Египта добиваются конституционных прав и парламентских учреждений. К тому осторожно стремятся и мусульмане Индии.
Приобщаясь к европейской культуре, восточные народы, с одной стороны, усвоят себе европейские понятия о государстве, об общественном благе и порядке, воспримут наши идеалы жизни и деятельности и станут бороться с нами нашим же оружием. Но, став на одну почву с нами, народы эти войдут в общую схему нашей куль- турно-исторической жизни и начатая ими борьба выразится, надо и можно надеяться, не в форме повторения катастрофы гибели античной культуры под волной переселения некультурных народов, а в форме нормального, мирного международного соревнования и сожительства.
Для народов желтой расы такой оборот дела смягчается отсутствием у них активного религиозного качества. Религиозные учения, господствующие среди японцев, китайцев, малайцев, тибетцев и индусов, которые не этнографически, но политически могут быть отнесены к числу элементов опасности — шинтоизм, конфуционизм, буддизм и браманизм 26 — не требуют от их последователей деятельного выступления на почве борьбы с другими вероучениями и, тем менее, в сторону прозелитизма.
Поэтому гражданский характер теперешней европейской культуры, старательно отмежевывающей церковь от государства, доступен и приемлем для народов этих исповеданий легче, чем для мусульман.
Но и последние, проникаясь началами современного знания, постепенно утрачивают тот враждебный фанатизм, который составляет существенную особенность мусульманства, как религии победителей и покорителей гяуров, религии, обусловливающей равноправие людей принадлежностью их именно к исламу.
Примером подобной эволюции служат теперешние младотурецкие правители Оттоманской Империи. Не составляет секрета, что многие из них в религиозном отношении по меньшей мере индифферентны, относятся скептически к догматам Корана, принадлежат к франкмассонским ложам 27 и лишь по наружности или из политического расчета называют себя правоверными. Еще на днях теперешний Великий Визирь 28, когда я обратился к нему по поводу вопроса о постройке новой православной церкви в Палестине, ответил мне совершенно искренне: «По-моему, пусть будет там хоть двадцать церквей, надо только убедиться в том, что это не вызовет волнения или противодействия среди местных мусульман».
Конечно, эти люди прошли, в большинстве, действительно обширный курс западноевропейской науки, и число их сравнительно невелико.
Есть также вполне образованные мусульмане, вроде некоторых членов Русской Государственной Думы, которые, по-видимому, совмещают научное образование с верностью мусульманской рели- г
и
и
Но все-таки, нельзя не ожидать, что приобщение русских мусульман к русской культуре явится самым основательным средством для ослабления среди них специфического мусульманского религиозного фанатизма и для предохранения Русского Государства от главнейших опасностей, которыми ему угрожают панисламизм и пантюркизм. В частности, для борьбы против последнего желательно сохранить за всеми существующими в ИМПЕРИИ народностями, исповедующими ислам, их национальные особенности и, главным образом их язык, защищая его от поглощения языком турецким. В этих видах я вполне присоединяюсь к пункту 11 /примечание/ Особого Совещания, гласящему, что в конфессиональных мусульманских школах не допускается употребление учебников, изданных заграницей, а равно и рукописных.
Вместе с тем казалось бы желательным вообще усилить надзор за печатными и литографированными книгами и повременными изданиями, получаемыми в ИМПЕРИИ из Турции, для чего, очевидно, необходимо увеличить число лиц администрации и, в частности цензурного ведомства, хорошо знакомых с турецким языком.
Параллельно с этим надлежало бы способствовать развитию татарского литературного наречия и ввести в русских учебных заведениях необязательное преподавание татарского языка, дабы этим привлечь в означенные училища мусульман, желающих пройти общеобразовательный курс, но при этом и выучиться своему родному языку.
Тот же метод должен был бы быть применен и к защите от тата-ризации русских мусульман, обладающих собственными литературными наречиями, каковы киргизы, сарты 30 и проч.
По отношению к заграничным агитаторам необходимо принимать самые строгие и решительные меры, по поводу которых само Турецкое Правительство изъявило нам недавно не только согласие, но и желание 31.
Весьма своевременно было бы составление и издание перевода на Русский язык сборника мусульманского права (шариата) по предметам, входящим в круг ведомства мусульманского духовенства и подлежащим в общесудебных местах разрешению на основании этого права 32. <…>
Весьма желательна проектируемая Совещанием децентрализация Оренбургского Духовного Собрания <…> 33.
Наконец, самого полного сочувствия заслуживает предположение <…> об ежегодном созыве в интересах осведомленности высшего Правительства о ходе просветительно-культурной работы в губерниях и областях с мусульманским населением, а равно ради изыскания средств для вящего успеха этой работы, при Министерстве Внутренних Дел Особого Совещания из представителей ведомств центрального и местного управления.
В виду упомянутого выше более широкого и прямо международного элемента рассматриваемого вопроса, совершенно необходимо, чтобы в состав Совещания этого входил по крайней мере один представитель Министерства Иностранных Дел. Представитель этот должен быть хорошо осведомлен о положении в данное время заграницею вопроса о панисламизме, о пантюркизме и о хадже и должен бы делиться с Совещанием сведениями о мерах ограждения и упорядочения, принимаемых относительно этих явлений заинтересованными иностранными Правительствами. Было бы также очень полезно, чтобы в Совещании участвовал или наш Политический Агент в Бухаре, или один из компетентных служащих тамошнего Русского Политического Агентства 34. Из областных управлений должны бы участвовать в Совещании представители Туркестанского Генерал-Губернаторства, Закаспийской Области, и, разумеется, Кавказа.
Что же касается остальных предположений Совещания, то со стороны вверенного мне Посольства не встречается возражений против их приведения в исполнение.
В заключение, считаю долгом отметить следующие два факта, которые мне привелось выяснить в Константинополе.
-
1) Отношение Константинопольского Шейх-уль-ислама 35 к мусульманам Средней Азии, за последние два года, скорее сдержанное и почти что безучастное. Причиною является пренебрежение теперешнего Шейх-уль-ислама и его ближайших предместников, проникнутых либеральными западноевропейскими идеями, к туземцам Бухары и Туркестана, как к людям слишком темным, необразованным и неразвитым. Так как теперешний Шейх-уль-ислам, по имеющимся сведениям — франкмассон, то подобное отношение его к мусульманским староверам Средней Азии вполне понятно.
Зато мне известно, по личному наблюдению, что мусульмане Бухары и Туркестана, в свою очередь, смотрят на мусульман Константинополя, и даже на Шейх-уль-ислама и на Турецкого Султана, как на людей, утративших первоначальную чистоту мусульманской веры и обряда и заразившихся неверием, вследствие слишком тесного общения с христианами.
Но, с другой стороны, Шейх-уль-ислам поддерживает деятельное и сочувственное общение с русскими мусульманами Крыма и Орен- бурга (а, следовательно, Поволжья) и Кавказа, находя этих мусульман в достаточной мере передовыми и способными оценить значение сближения с Турцией и ее высшим духовенством.
-
2) Другим значительным здешним явлением в области Панисламистской и Пантюркской агитации служит участие в ней и поддержка ее со стороны евреев. Наиболее резкий Панисламистский орган Константинопольской печати «Le Jeune Turc» издается на средства евреев-сионистов и, параллельно с проповедью панисламизма, защищает перед турецким общественным мнением сионизм и его сторонников и деятелей.
Вместе с тем крайние панисламистские газеты, появляющиеся в Македонии, выступают в защиту не только мусульман, будто бы угнетаемых Русским Правительством, но и евреев, что объясняется денежным и нравственным влиянием богатой и могущественной старинной еврейской колонии г. Салоник 36.
Таким образом, панисламизм, еврейская ненависть к России и западноевропейский социализм и анархизм сплотились в Турции для проповеди ненависти против России и для агитации против Русского Правительства в Крыму, Оренбурге, Поволжье и на Кавказе 37. Среднюю же Азию они, по-видимому, предоставили предварительной обработке русско-подданными татарами. Сила этой комбинации еще увеличивается тем, что панисламисты и евреи в Турции пользуются, из соображения общей политики, деятельной и властной поддержкой Германии и Австро-Венгрии.
Конечно, есть благоразумные турки, которые понимают, что не защита их интересов служит истинной целью сплотившихся ненавистников России, и потому есть основание надеяться, что когда Турецкое Правительство и общественное мнение разберутся в этом вопросе, они сознают, насколько выгоднее для Турции воздерживаться от враждебных России выступлений в области панисламизма и пантюркизма, в угоду евреям и международным революционерам 38.
Но в ожидании такого оборота дела Русскому Правительству надлежит спокойно и последовательно охранять русско-подданных мусульман от агитационного воздействия из-за границы, развивать и упрочивать их национальную самобытность вне влияния турок извне и казанских или крымских татар внутри и приобщать самым широким образом русско-подданных мусульман к русской культуре, как это предложено рассматриваемым Журналом Особого Совещания.
Посол: подписал Н. Чарыков
С подлинным верно:
Чиновник особых поручений.
Источник: Российский Государственный исторический архив (РГИА). Ф. 821, Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД. Оп. 133. Ед. хр. 469. Лл. 293–302.
Список литературы Русский посол в Турции Н. В. Чарыков и его «заключение» по «мусульманскому вопросу»
- Арапов Д. Ю. Ислам в оценке российских государственных деятелей начала ХХ в.//Российская государственность ХХ века. М., 2001. С. 181-182.
- Tcharykow N. V. Glimpses of high politics through war and peace. 1855-1929. London, 1931.
- Шеремет В. И. Босфор. Россия и Турция в эпоху Первой мировой войны. По материалам русской военной разведки. М., 1995. С. 30.
- Чарыков Н. В. Мирное завоевание Мерва (Из воспоминаний о походе генерала А. В. Комарова в 1885 г.)//Исторический вестник, 1914. № 11;
- Чернов О. А. Ранний период дипломатической деятельности Н. В. Чарыкова//Историко-археологические изыскания, Самара, 1999. Вып. 3.
- Российская дипломатия в портретах. М., 1992. С. 355.
- Дипломатический словарь. М., 1986. Т. III. С. 562.
- Восточный вопрос во внешней политике России. Конец XVIII -начало ХХ в. М., 1978. С. 314.
- Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 348.
- Из истории национальной политики царизма//Красный архив, 1929. Т. 4-5.
- Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 23. С. 146.
- Ротштейн Ф. А. Международные отношения в конце XIX века. М.-Л., 1960. С. 298
- Рыбаков С. Г. Статистика мусульман в России//Мир ислама, 1913. Т. 2. Вып. 11. С. 760.
- Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 1995. С. 139.
- Петросян Ю. А. Османская империя. Могущество и гибель. Исторические очерки. М., 1990. С. 242
- Найт Э. Ф. Революционный переворот в Турции. СПб, 1914. С. 82
- Алиев Г. З. Турция в период правления младотурок (1908-1918). М., 1972. С. 205.
- Ямаева Л. А. (сост.). Мусульманские депутаты Государственной думы России. 1906-1917 гг. Сборник документов и материалов. Уфа, 1998.
- Антаки П. В. (сост.). Сборник постановлений шариата по семейному и наследственному праву. Вып. I. О наследовании у мусульман-суннитов. СПб., 1912.
- Арапов Д. Ю. (сост.). Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). М., 2001. С. 298-300.