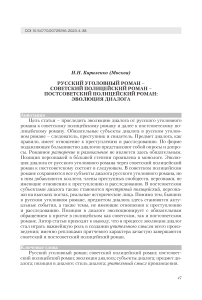Русский уголовный роман - советский полицейский роман -постсоветский полицейский роман: эволюция диалога
Автор: Кириленко Н.Н.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (67), 2023 года.
Бесплатный доступ
Цель статьи - проследить эволюцию диалога от русского уголовного романа к советскому полицейскому роману и далее к постсоветскому полицейскому роману. Обязательные субъекты диалога в русском уголовном романе - следователь, преступник и свидетель. Предмет диалога, как правило, имеет отношение к преступлению и расследованию. По форме подавляющее большинство диалогов представляют собой опросы и допросы. Романное разноречие и разноязычие не является здесь обязательным. Позиция персонажей в большей степени проявлена в монологе. Эволюция диалога от русского уголовного романа через советский полицейский роман к постсоветскому состоит в следующем. В советском полицейском романе сохраняются все субъекты диалога русского уголовного романа, но к ним добавляются коллеги, члены преступных сообществ, персонажи, не имеющие отношения к преступлению и расследованию. В постсоветском субъектами диалога также становятся преступный полицейский, персонажи на высоких постах, реальные исторические лица. Помимо тем, бывших в русском уголовном романе, предметом диалога здесь становятся актуальные события, а также темы, не имеющие отношения к преступлению и расследованию. Позиция в диалоге эволюционирует с обязательным обращением к притче в полицейском как советском, так и постсоветском романе. Автор статьи приходит к выводу, что в процессе эволюции диалог стал играть важнейшую роль в создании учительного смысла всего произведения; именно репликами притчевого характера зачастую завершаются советский и постсоветский полицейский роман.
Русский уголовный роман, советский полицейский роман, постсоветский полицейский роман, эволюция диалога, субъекты диалога, предмет диалога, позиция в диалоге, стиль диалога, учительный смысл произведения
Короткий адрес: https://sciup.org/149144078
IDR: 149144078 | DOI: 10.54770/20729316-2023-4-38
Текст научной статьи Русский уголовный роман - советский полицейский роман -постсоветский полицейский роман: эволюция диалога
Функция диалога в структуре криминального нарратива исследовалась очень мало, а его историческая эволюция , насколько известно, никогда. Между тем Вольф Шмид подчеркивает, что «все попытки исключить “прямые” речи и диалоги из повествовательного текста и из круга предметов нарратологии оказываются несостоятельными» [Шмид 2003, 198].
Цель статьи – путем анализа конкретных произведений проследить эволюцию диалога от русского уголовного романа к советскому полицейскому роману и далее к постсоветскому полицейскому роману. Русский уголовный роман (наряду с социально-криминальным романом) я рассматриваю как непосредственный источник жанра полицейского романа, промежуточное звено между притчей и полицейским романом [Кириленко 2021; Кириленко 2022].
Необходимо подчеркнуть, что русский уголовный роман – явление более широкое, чем жанр, поэтому для сопоставления с жанром полицейского романа мною отобраны только те произведения, основу сюжета которых, также как в полицейском романе, составляет расследование , проводимое профессиональным следователем .
При диахроническом сопоставлении необходимо учитывать, что, с одной стороны, диалог – «одна из форм, воплощающих голос или точку зрения героя как субъекта высказывания» [Тамарченко 2008, 102], с другой – специфику криминального нарратива. Соответственно будут значимы следующие аспекты:
– какие персонажи (следователь; другие профессионалы, имеющие отношение к расследованию; преступник; жертва; свидетели; не имеющие отношение к расследованию лица) являются субъектами диалога;
– предмет диалога, всегда ли он имеет отношение к расследованию;
– форма диалога (опросы, допросы, обсуждения и др.);
– стиль диалога: наличие или отсутствие профессиональной лексики ; жаргона ; иностранной речи , акцента; индивидуальных особенностей речи, то есть разноречия и разноязычия ;
– как проявляется в диалоге позиция его субъектов: прямо или при помощи иносказания;
– игровой или неигровой характер диалога; его соотношение с нормой и роль в эстетическом завершении произведения.
В русском уголовном романе, за исключением произведений К. Попова, монологическая речь по объему намного превосходит диалогическую. Обязательные субъекты диалога – следователь, преступник и свидетель; как правило – врач, реже – другие официальные лица, ведущие следствие. Диалоги между преступниками отсутствуют, поскольку не изображается преступное сообщество. Диалоги между преступником и жертвой, свидетелями и жертвой приводятся только в пересказе; повествование ведется от лица следователя и то, что вне его кругозора, не изображается.
Предмет диалога в русском уголовном романе, как правило, имеет отношение к преступлению и расследованию. Обмен репликами на тему, не имеющую отношения к преступлению, редок.
В ряде произведений («Три суда» С.А. Панова и др.) в диалоге фигурирует тема необходимости соблюдения того, что позже будет названо процедурой . Однако в повести А.А. Шкляревского «Что побудило к убийству?» на соблюдении процедуры настаивает не герой-следователь, а врач, который добивается, чтобы сразу же были оформлены следы побоев на лице жены убитого и произведен обыск в ее комнате. Следователь, давно знавший эту семью, и уже решив (как оказалось неправильно), что знает, кто убийца, этого делать не хочет. Между тем в комнате жены убитого находят платье со следами крови.
Обязательным предметом диалога, и здесь проявляется сильное влияние социально-криминального романа, является влияние среды, язвы общества как причины преступлений. Но рассуждений на эти темы больше в монологах, а также, как указывает Е.Ю. Козьмина, в размышлениях
«нарратора о влиянии “среды” на психологию преступника» [Козьмина 2022, 178].
Здесь задолго до полицейского романа ставится вопрос о том, может ли быть убийство человека человеком оправдано обстоятельствами.
По форме подавляющее большинство диалогов представляют собой опросы и допросы, даже если герой маскирует цель своих расспросов («Секретное следствие» и «Роковая судьба» Шкляревского). Они коротки, переходят в монологическую речь: исповедь преступника и монологи-рассказы свидетелей. За исключением «Кончины грешницы» и «Паточки» Попова, монологи такого рода преобладают над диалогами.
Романное разноречие и разноязычие не является обязательным признаком русского уголовного романа. Только у Попова оно встречается во всех произведениях. В «Трех судах» Панова и в ряде произведений Шкля-ревского речь сапожников, портного и т.д. или стилистически нейтральна, или вообще приводится в пересказе.
Слова «колидор», «шинпанское», свидетельствующие об отсутствии образования у жертвы в «Рассказе судебного следователя» Шкляревского, приводятся не в диалоге, а в исповеди ее сестры-убийцы с комментариями последней.
Сходным образом дается иностранная речь. Нарратор сообщает, что перешел на французский: «Все это так... – сказал я врачу по-французски, – но предварительно мне хотелось бы спросить у свидетелей» («Старый суд» Шкляревского) [Шкляревский 1873, № 2, 25]. В «Что побудило к убийству?» речь француженки-подозреваемой целиком приводится по-русски, а у Панова еврей-ростовщик не имеет никаких особенностей речи. Даже в «Старом суде» Шкляревского, где следствие происходит в деревне и есть и просторечие, и индивидуальные особенности речи крестьян («Ей-ей не сказка!..» [Шкляревский 1873, № 3, 38] и др.), речь Акулины дается как нейтральная, что противоречит сообщению нарратора: «По костюму ея я догадался, что она была малороссиянка; то же самое подтверждал и акцент ея» [Шкляревский 1873, № 2, 26].
Использование профессиональной лексики, жаргона для русского уголовного романа не характерно; сыщик и другие участники не прибегают к ним в процессе расследования. Полиция не пользуется профессиональной лексикой. Также не употребляют ее не только свидетели, например, продавец и извозчик, но и преступники, поскольку, как говорилось выше, они не профессионалы. Персонажи различных профессий и слоев общества в большинстве произведений говорят одинаково, то есть социальное разнообразие персонажей русского уголовного романа никак не проявляет себя в языке. При этом язык един и для диалогов, и для повествования.
Позиция персонажей в бóльшей степени проявлена в монологе и прямо, без иносказания.
Диалоги в русском уголовном романе носят серьезный, абсолютно неигровой характер. Герой может притворяться в диалогах в интересах следствия («Секретное следствие» и «Роковая судьба» Шкляревского), но в целом игра оценивается отрицательно.
Диалоги показывают невозможность восстановления нормы. Назидательность русского уголовного романа проявляется не столько в диалоге, сколько в монологе и в слове нарратора. Е.Ю. Козьмина отмечает, что в нарративе такого типа «повествование ведется от лица следователя, кругозор которого ограничен его позицией в деле и “процедурными действиями”, однако нарратор выходит за пределы, присваивая себе функцию моральной оценки описываемого» [Козьмина 2022, 178].
Эволюция диалога в полицейском романе советского периода проявляется прежде всего в том, что его типичными субъектами становятся персонажи, редко или вовсе не изображаемые в уголовном романе. Помимо следователя, свидетелей и преступника непременными участниками являются эксперты, чаще всего медэксперт и фотограф, а также непосредственный начальник следователя. Уже в первом отечественном полицейском романе «Петровка, 38» Ю. Семенова (1963) появляются диалоги между преступниками, поскольку изображаются преступные сообщества, а также между преступником(ами) и жертвой. То есть независимо от того, ведется ли повествование от первого лица или от третьего, в отличие от уголовного романа, изображаются диалоги за рамками кругозора следователя. (Подчеркну, что все черты полицейского романа в советской криминальной литературе 1960–1980-х гг. органично реализуются в форме базового жанра повести («Петровка, 38» и еще не менее двадцати текстов). К базовому жанру романа относятся только четыре текста: «Момент истины» В. Богомолова (1974) и «Визит к Минотавру» (1972), «Эра милосердия» (1976) и «Лекарство против страха» (1978) бр. Вайнеров).
С другой стороны, субъектами диалога становятся персонажи, не имеющие отношения к преступлению и расследованию, в основном это родные и близкие следователя.
Соответственно происходит и расширение круга тем; помимо преступления и расследования и социальных проблем, предметом диалога становятся:
– метод работы героя-следователя, в частности, вопрос о допустимости нарушения процедуры;
– подготовка преступления и ответные действия преступников (в их диалогах);
– темы, актуальные для общества на момент описываемых событий, как дискуссии о кибернетике в «Петровке, 38» или о роботах в «Ищите “Волка”» Л. Сапожникова и Г. Степанидина;
– темы, не имеющие отношения к преступлению и расследованию, контрастирующие с ними, бытовые и проч. Так по дороге в школу у Сергея Коршунова и его сына «начиналась “география”»: мальчик старался удивить отца своими знаниями («…Со многими неизвестными» Аркадия Адамова).
Добавлю, что, в отличие от уголовного романа, здесь могут изредка упоминаться реальные известные люди, например, Олег Попов («Петровка, 38»).
Меняется и форма диалогов. Помимо допросов и опросов это:
– обсуждения преступления и хода расследования, переходящие в рассуждения героя и его коллег. В тех случаях, когда изображаются два сыщика, один из которых опытный, а другой молодой, высказывания опытного коллеги представляют собой наставления . Обсуждение данных экспертизы, как правило, переходит в лекцию эксперта ;
– доклады следователя начальству, и, соответственно, приказы и наставления начальства следователю;
– обсуждение подготовки преступления и ответных действий антагонистами-преступниками, которые могут переходить в наставления и приказы главаря;
– дискуссии на актуальные темы;
– свободные по форме диалоги на бытовые и прочие некриминальные темы.
Принципиальное отличие от уголовного романа – обязательное наличие разноречия и разноязычия . Люди различных профессий и слоев общества говорят по-разному; соответственно для полицейского романа характерно определение статуса персонажей по данному признаку.
Использование профессиональной лексики, жаргона субъектами диалога в советском полицейском романе обязательно (здесь и далее под термином «советский полицейский роман» понимается отечественный полицейский роман советского периода, а не идеологическая модель). Милиция пользуется профессиональной лексикой; преступники говорят на жаргоне, поскольку, как говорилось выше, они в полицейском романе, как правило, профессионалы.
Речь свидетелей, а также персонажей, не имеющих отношения к преступлению и расследованию, также включает профессионализмы или имеет индивидуальные особенности.
Иностранная речь, акцент изображаются как национальная специфика, которая в полицейском романе может создавать комический эффект, а может не создавать, но в любом случае носитель чужой речи является одновременно представителем определенного социального слоя. Такова речь спортсмена-свидетеля в «Петровке, 38»; преступников с Кавказа и из Средней Азии в повести Адамова «…Со многими неизвестными»; сослуживца Шарапова Пасюка в «Эре милосердия». В «Выстреле в Орельей гриве» С. Высоцкого герой обращает внимание на особенности диалекта деревни, в которой идет расследование: Главдя вместо Клавдия и т.п.
Таким образом, речь в советском полицейском романе свидетельствует о профессиональной, социальной, национальной принадлежности персонажа. Такое «диалогическое сопоставление я з ы к о в (а не смыслов в пределах языка) очерчивает границы языков, создает ощущение этих границ» [Бахтин 1975, 176. Оформление сохранено – Н . К .]. То есть чужое слово в диалоге полицейского романа подчеркивает всяческие границы , в том числе и социальные (национальные), и, соответственно, проблемы преодоления этих границ, чего еще не было в русском уголовном романе.
В советском полицейском романе позиция персонажа, в частности, позиция по процедуре, проявляется в бóльшей степени именно в диалоге.
В отличие от уголовного романа она выражается и прямо, и с помощью иносказания. Не только герои-следователи и их авторитетные коллеги или начальство, но бóльшая часть персонажей, в том числе и преступники, рассказывают притчи или эпизоды притчевого характера: случай на охоте, рассказанный лейтенантом Максимовым в «Ищите “Волка”» Л. Сапожникова и Г. Степанидина; притча Михаила Михайловича Бомзе, давшая заглавие роману, и «байка» Ручечника в «Эре милосердия» и многие др. Происходит это в ситуации этического выбора (как его обоснование) или же таким образом мотивируется выбор, сделанный ранее.
Соответственно для советского полицейского романа характерен диалог с противостоянием притч-позиций следователя и преступника, а иногда и следователя и его коллеги («Эра милосердия» бр. Вайнеров; «Выстрел в Орельей гриве» Высоцкого). Здесь мы видим присущие притче авторитарную риторику «императивного, учительного, монологизирован-ного слова» и разделение «участников коммуникативного события на поучающего и поучаемого» [Тюпа 1997, 108].
Таким образом, полицейский роман и в диалогах проявляет себя как серьезный и назидательный жанр, который в отношении категорий комического – серьезного [Пропп 1976; Фуксон 2016] является антагонистом классического детектива. Игровые отношения оцениваются негативно. В диалоге отражается конфликт жизни и игры; играет обычно преступник или скрывающий правду свидетель. Такого рода игра может грозить гибелью жертве (убийство милиционера и водителя во время диалога в «Петровке, 38»). Игра героя в диалоге носит вынужденный характер; таковы диалоги с преступниками и свидетелями Бучинскаса-Вараксина («Человек в проходном дворе» Д. Тарасенкова); Алехина («Момент истины» В. Богомолова); Шарапова («Эра милосердия»); Ровнина («При невыясненных обстоятельствах» А. Ромова) и др.
С одной стороны, полицейскому роману, как говорилось выше, присущи разноречие и разноязычие , а, следовательно, разнооценочность , которая в финале произведения не преодолевается, а норма не восстанавливается. С другой – в отличие от других жанров криминальной литературы расследования, финал полицейского романа не только содержит итоги расследования, но и предлагает извлечь уроки из описанных событий. Как правило – в очевидной форме, часто диалога, подчеркивающего учительный смысл произведения. Характерна последняя реплика героя, завершающая «Выстрел в Орельей гриве»: «А все-таки бесплодных истин не бывает!».
Эволюция диалога в постсоветском полицейском романе проявляет себя во всех рассматриваемых аспектах. Здесь также могут изображаться диалоги вне кругозора нарратора, даже в случае повествования от первого лица («Ярмарка в Сокольниках» Ф. Незнанского).
Субъектами диалога наряду с прежними становятся высокие чины правоохранительных и других органов власти, а также реальные исторические лица; иногда субъект диалога совмещает эти два признака, как Юрий Андропов в «Ярмарке в Сокольниках». Также необходимо отметить появление такого совершенно невозможного для советского, но обязательного для постсоветского полицейского романа субъекта диалога как преступный полицейский, который или сам совершил расследуемое им преступление, или не совершал его сам, но, тем не менее, сознательно препятствует его раскрытию: капитан Грязнов в «Ярмарке в Сокольниках» Незнанско-го; Ларцев в «Украденном сне» и Ермилов в «Призраке музыки» Марининой и др. Также участниками диалога становятся представители новых профессий, таких как программист-вирусолог («Стилист» Марининой).
Прежние темы диалогов приобретают новую специфику: так, в диалогах о методе работы героя-следователя и процедуре обсуждаются новые вопросы: случаи недобросовестности следователей, которым, например, проще списать убийство на несчастный случай («Стечение обстоятельств» Марининой); как проводить расследование, когда герой убежден в его необходимости, а оснований для придания делу официального статуса мало («Стилист» Марининой и др.); правомерно ли в интересах расследования подвергать опасности свидетеля, например, почти слепого юношу в «Призраке музыки» Марининой.
Предметом диалога обязательно становятся перемены в обществе, повлекшие за собой перемену преступников и их методов, и, соответственно, необходимость изменения, обновления деятельности и мышления правоохранительных органов:
– темы, актуальные для общества на момент описываемых событий, теперь всегда темы-проблемы . Задержки выплаты зарплат сотрудникам правоохранительных органов и их родным, а также мизерность этих зарплат – предмет диалога практически в каждом тексте. Обсуждение любых перемен в обществе идет в контексте изменения криминальной среды и реформ в структуре и деятельности правоохранительных органов;
– темы, не имеющие отношения к преступлению и расследованию, контрастирующие с ними, бытовые и проч., также отражают реальность. Например, обсуждение суперпопулярных на момент написания романа Марининой «Стечение обстоятельств» мексиканских сериалов «Богатые тоже плачут» и «Никто, кроме тебя». Здесь могут фигурировать реальные люди, например, обсуждается творчество поэтессы и певицы Ирины Астапкиной («Призрак музыки») Марининой;
– в отдельных произведениях постсоветского полицейского романа появляются диалоги, очень подробно показывающие читателю какую-либо сферу деятельности: издательскую («Стилист» Марининой); шоу-бизнес («Реквием» Марининой) и др.
Формы диалога в постсоветском романе не эволюционируют. Это по-прежнему: допросы; опросы; обсуждения ; наставления ; доклады ; приказы ; дискуссии ; свободные по форме диалоги на бытовые и прочие некриминальные темы.
Разноречие и разноязычие в постсоветском полицейском романе намного более выражено: иностранная речь и акцент; индивидуальные особенности речи; профессиональная лексика; профессиональный жаргон милиционеров; воровской жаргон. Главные отличия – появление в диалоге раннее не изображаемой обсценной лексики, причем в речи не только преступников, но и свидетелей, и следователей, а также общего для преступников и следователей жаргона, когда слова «мент», «шестерка», «мокрое дело» и т. п. употребляют обе стороны.
Позиция персонажей, как и в советском полицейском романе, проявляется в первую очередь в диалоге – и прямо и иносказательно (диалоги между Гордеевым и подчиненными; между Каменской и коллегами; между следователями и преступниками и т.д.)
Характер диалога по-прежнему назидательный, неигровой . Восстановление нормы возможно лишь частично, только в плане разгадки тайны преступления, но и герои произведения и читатели должны вынести урок.
Таким образом, эволюция диалога от русского уголовного романа через советский полицейский роман к постсоветскому состоит в следующем.
В советском полицейском романе сохраняются все субъекты диалога русского уголовного романа, но к ним добавляются коллеги, члены преступных сообществ, персонажи, не имеющие отношения к преступлению и расследованию. В постсоветском субъектами диалога также становятся преступный полицейский , персонажи на высоких постах, реальные исторические лица.
Помимо тем, бывших в русском уголовном романе, предметом диалога становятся актуальные события, а также темы, не имеющие отношения к преступлению и расследованию. В постсоветском в диалогах могут фигурировать реальные исторические лица.
Позиция в диалоге эволюционирует с обязательным обращением к притче в полицейском как советском, так и постсоветском романе. В этом значимость полицейского романа среди других жанров криминальной литературы.
В процессе эволюции диалог стал играть важнейшую роль в создании учительного смысла всего произведения; именно репликами притчевого характера зачастую завершаются советский и постсоветский полицейский роман.
Список литературы Русский уголовный роман - советский полицейский роман -постсоветский полицейский роман: эволюция диалога
- Бахтин М.М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 72-233.
- Кириленко Н.Н. Притча и полицейский роман (к вопросу о генезисе жанра) // Проблемы поэтики, генезиса и эволюции криминальной литературы: сборник научных статей / отв. ред. К.А. Чекалов, О.В. Федунина. М.: Издательство Ипполитова, 2022. С. 27-36.
- Кириленко Н.Н. Притчи-позиции в полицейском романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2021. № 8. С. 53-63.
- Козьмина Е.Ю. Детективный нарратив // Тезаурус исторической нарратологии (на материале русской литературы): экспериментальный словарь / под ред. В.И. Тюпы. М.: Эдитус, 2022. С. 177-180.
- Пропп В.Я. Проблема комизма и смеха. М.: Искусство, 1976. 182 с.
- Тамарченко Н.Д. Композиционные формы речи // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий. М.: Intrada, 2008. С. 102.
- Тюпа В.И. Три стратегии нарративного дискурса // Дискурс. 1997. № 3-4. С. 106-108.
- Фуксон Л.Ю. Смех как способ истолкования. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2016. 253 с.
- Шкляревскiй А. Старый судъ. (Разсказъ слѣдователя). Нива. 1873. Годъ IV. № 1. С. 7-8; № 2. С. 23-27; № 3. С. 36-42; № 4. С. 55-56; № 5. С. 71-74; № 6. С. 88-91; № 7. С. 102-104.
- Шмид B. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.